Новости
ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ТЕАТРА
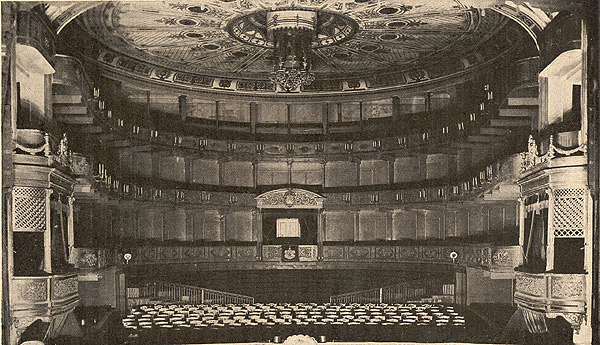
ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ТЕАТРА
ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ТЕАТРА
Статья А.Р.Кугеля из книги «Московский Малый театр. 1824 – 1924», М., 1924 (стр. 37 – 73).
I
История Московского Малого Театра не есть только история художественного учреждения и не может быть только ею. Вообще, никакое жизненное явление нельзя мыслить оторванным от общего хода и процесса жизни, но Московский Малый Театр по многим причинам оказался особенно тесно связанным с историей наших литературных, общественных и политических движений. Эта роль — светочувствительной пластинки, если подобное мало удовлетворительное выражение способно объяснить нашу мысль — из русских театров выпала, главным образом, на долю Московского Малого Театра, потому, что это был Московский Театр; не провинциальный, — живший, в большей или меньшей степени, уродливыми отражениями столичных мод и веяний, и не петербургский, потому, что Петербург был городом казенным, официальным, царским и самодержавным. Москва, насколько это представлялось возможным, была в стороне, — подальше от неустанного надзора власти.
Ходячее выражение: «Петербург — голова России, Москва — ее сердце» — далеко не верно и не точно определяет соотношение этих городов. Эта туманная фраза годилась именно вследствие ее туманности, представлявшей большие цензурные удобства. В действительности, надо было бы сказать так. Петербург — это власть, Москва — это общество. Как бы ни была огромна правительственная власть, какие бы обширнейшие прерогативы она себе ни предоставляла, вникая во все подробности жизни, подчиняя их своей регламентации и осуществляя во всей полноте абсолютный идеал полицейского государства — за всем этим остается, совершенно неистребимый никаким абсолютизмом власти, «чистый остаток» общественности, ускользающий от полицейского абсолютизма. Как никакая система права, сколь подробна и разработана она бы ни была, вплоть до талмудической схоластики, не в силах вытеснить «чистый остаток» морали, руководствующей жизнью людей, так никакая власть не может вполне и окончательно поработить общественные связи Петербург был созданием царизма. Царская власть подавляла в нем все и задавала тон всему. Москва была в удалении. Неслужащий дворянин, самостоятельно ведущий торговлю купец, заводчик, литератор, не соприкасавшийся, прямо или косвенно, с III отделением, — все это имелось в Москве. Здесь жили богатые баре, не занимавшие больших должностей; члены «английского клуба», слегка фрондировавшие, благонамеренно фрондировавшие и всетаки фрондировавшие. Вспомните, хотя бы, например, необычайное по художественности описание в «Войне и Мире» обеда, данного москвичами кн. Багратиону в честь Шенграбенского сражения.
«Удаленная от политического движения, питаясь старыми новостями, не имея ключа к действиям правительства, ни инстинкта отгадывать их, Москва резонерствует, многим недовольна, обо многом отзывается вольно», пишет Герцен (IV ст. 56).
Эта роль сохранилась за Москвой до самой революции. Москва всегда была очагом русской фронды, как бы разнообразны, а порою и невинны, ни были ее формы. И самые страстные западнические кружки, и самые неукротимые славянофильские, и даже самые крайние реакционно-охранительные, избытком своего усердия мешавшие деловитой работе царского правительства, укреплявшего трон, — значились в Москве. Совершенно естественно также, что именно в Москве, где не было царей-солнц и их свиты, где положение человека в обществе не имело столь ясного и определенного показателя, как в Петербурге, — близости к трону — искусство и литература давали больше цены, авторитета и признания человеку, чем в Петербурге. Если бы Пушкин был москвич, камер-юнкерство не имело бы для него такого значения, как в Петербурге. За отсутствием чиновной иерархии, Москва утверждала охотнее и свободнее иерархию ума и таланта. Это проходит красной нитью через весь XIX и XX века до самой революции. Литературно-художественное собрание или общество, университет, журнал, театр в Москве были не только культурными, но и общественными центрами, чего нельзя сказать о Петербурге, где все такие и подобные учреждения имели, главным образом, профессиональную, специфическую, цеховую окраску. Московский интеллигент, в глазах всей Москвы, приобретал социальную ценность. Да и что такое была «вся Москва», как не отборная интеллигенция города, да еще ей сочувствующие представители родовой аристократии и капитала, охотно и добровольно признававшие ее авторитет и исключительное право на общественное внимание? Тогда как «весь Петербург» был собранием высшей чиновной и придворной знати, плюс те немногочисленные представители иных званий и состояний, на которых, в той или иной мере, падали лучи царского солнца.
Сейчас трудно, едва ли возможно, дать объективную оценку петербургского периода русской истории. Но если даже признать, что этот период, на ряду с крайним развитием империализма, может быть охарактеризован, как период внешнего накопления культурных ценностей, то и в этом смысле роль Москвы была отлична от роли Петербурга. Социальным распределением этих ценностей оставалась Москва. Петербург лихорадочно выкидывал продукты культурного производства, но классифицировала их и определяла их удельный вес — Москва. Московский резонанс, быть может, потому, что ему не мешали медные трубы, голосившие «осанну» вокруг престола, был гораздо благоприятнее для культурной жизни, нежели петербургский. Петербургский парад с церемонией или развод с музыкой затмевал любой культурный праздник, а высочайший выход был событием, пред которым бледнели самые замечательные выходы и явления культурной жизни. И чем реакционнее была действительность, чем темнее была петербургская ночь,- тем ярче на фоне московской жизни загорались такие явления. Можно ли себе представить, например, чтобы в Петербурге приобрели такое значение, как в Москве, публичные лекции, читанные Грановским? Конечно, лекции Грановского были талантливы и интересны, но в Петербурге они затерялись бы, как в нем и терялось множество интересных и талантливых выступлений. Но в Москве не что иное, как цикл исторических — и притом очень по содержанию отдаленных, — лекций популярного и любимого профессора, стал историческим событием, своего рода межой в истории общественного сознания. Быть может, Петербург количественно был образованнее Москвы и обнаруживал более тонкий и изощренный вкус, на ряду, конечно, с большим скептицизмом и духом иронии, но Москва, в простоте и нераздельности своего чувства, больше ценила образование, свет, культуру, мысль, искусство, рвалась к ним и полнее всему этому отдавалась. Отсюда ясно, что Александринский, например, театр в Петербурге не имел и не мог иметь такого значения, как Малый, Московский. Главными рецензентами Александринского театра, в сущности, были высочайшие особы. Это был придворный театр, в полном смысле слова, а не по названию только. Два наиболее стойкие и определенные выразителя реакции среди русских венценосцев XIX века — Николай I и Александр III — были не только частыми посетителями, но в значительной мере и заведующими этим театром. Иногда, конечно, это представляло известные выгоды — иметь царя управляющим театра. Это доказывает история («Ревизора» и «Власти Тьмы», которым, в обычном цензурном порядке, пришлось бы, вероятно, дожидаться еще не мало времени появления на сцене. Но зато каким гнетом на всем театральном деле лежала постоянная забота о том, чтобы театр был угоден царскому величеству! И в смысле репертуара, и в смысле общего курса Александринский театр должен был, в большей или меньшей мере, приспособляться к вкусам «державного хозяина» и его приближенных Главное, чтобы царь не скучал, que le roi e'aniusel Летом, когда начинались маневры в Красном Селе, труппа Александринского театра превращалась уже окончательно в придворную, и часть репертуара так и составлялась, — в расчете на Красносельские спектакли — для холостой гвардейской молодежи.
Совсем в другом положении был Московский Малый Театр. Он работал на публику, на зрителя. Он отражал гораздо полнее вкусы, стремления и идеалы того общественного класса или тех общественных классов, которым он служил. Он был в стороне от «большого света», где вращались царские светила, от международного давления знатных иностранцев, которыми кишел Петербург; наконец от прямого и непосредственного влияния французского театра, для которого Петербург был второй родиной. Малый театр довлел себе, и, довлея себе, мог стать и действительно становился национально-художественным учреждением. Это вытекало прежде всего из разницы в экономическом положении Александринского и Малого театров. В основанном на строгой разработке архивных данных исследований В. П. Погожева — «Столетие организации императорских Московских театров», находим весьма любопытные цифровые данный. Московский театр, по выражению Погожева, медленно совершает свое перевоплощение... «из родного детища московской интеллигенции, вымуштрованного и выхоленного бескорыстными любителями сценического искусства, в пасынка петербургской академии театрального дела».
Постановлением от 4 ноября 1822 г. и формально московский театр был отделен от петербургского управления и подчинен главному начальнику московского генерал-губернатора, причем мотивом отделения было выставлено «отвращение неудобств, встречавшихся в действиях московского театра, который и средствами, и местными обстоятельствами разнится от С.-Петербургского театра».
Средствами московский театр разнился особенно. В то время как долг в 18.000 р. по отчету московской дирекции 1830 г. (в связи с холерой) послужил причиной замены долго и успешно управлявшего Московскими театрами Кокошкина Загоскиным — вот что было израсходовано за короткий промежуток времени по дефицитам петербургских театров. В 1829 г. было препровождено 526.000 р. на уплату накопившихся до того времени долгов. И затем в промежуток времени до 1837 г. было сделано экстренных и сверхштатных расходов и субсидий — 1.698.013 р. Разница в отпуске средств на петербургские и московские театры настолько велика, в особенности, по сравнению с достигнутыми результатами, что основная историческая черта московского театра становится сразу ясной и несомнительной. В отличие от петербургского, это был действительно театр, созданный обществом, а не начальством. Нужны были любовь, самоотверженность, бескорыстие, а всего более, неукротимая внутренняя потребность для того, чтобы при таких условиях не только состязаться, но, можно смело сказать, затмить петербургского соперника. И совершенно понятна также вторая характерная черта Московских театров, отмеченная Погожевым, — то, что несмотря на разнообразие его деятельности, «впечатление и память публики в Московском театре сосредоточивается исключительно на «русской драме», и история Московского театра есть, в сущности, история Малого театра». Было бы ошибочно утверждать, что дело — в счастливом подборе случайностей, в необыкновенном хозяйственном управлении Майкова, который, однако, будучи переведен в Петербург, никакими чрезвычайными хозяйственными подвигами себя не заявил: в том, что в Москве создалась блестящая плеяда актеров, как Мочалов, Синецкая, Щепкин и т. п. Все это далеко не случайно, как не случайно, что через полвека в Московском Малом театре блистала новая группа актеров и в репертуаре таком же повышенно-героическом, как Ермолова, Южин, Ленский, Горев. Очевидно, были какие-то общие причины или, быть может, вернее, общая причина. И она в том, что насколько это было возможно в самодержавно - полицейском государстве, Москва являлась естественным средоточием живых, общественных сил, которым прислуживаться было тошно, и которые работая в культурной области, чувствовали себя гораздо лучше, легче и свободнее в Москве. И Шаховской, который вывел «своих комедий колкий рой», был иной в Москве, чем в Петербурге.
И Кокошкин недаром жил в Москве, и Аксаков. И недаром там были заложены первые основы двух важнейших течений русского политического разномыслия — западничества и славянофильства. И совсем не случайно, что самые серьезные и чувствующие ответственность пред искусством (мы воздержимся от эпитета «талантливые») актеры тянулись в Москву. И вовсе не слепая игра судьбы, что их-то и искали, за ними ухаживали и всячески их воспитывали в Москве, а не в Петербурге, — для ответственного, важного и героического репертуара. И Шаховскому, этому лучшему «сценическому мастеру» своей эпохи, было сподручнее в Москве и словом и делом преподавать уроки театра. И совершенно нельзя себе представить петербургского директора театра, который, подобно Кокошкину, открывал бы двери своего дома всем жаждущим сценического поприща, экзаменовал бы их, выслушивал и направлял, а воспитанников театральной школы звал бы на свои балы. Московский театральный чиновник был действующий, так сказать, театрал, который потому и приписывался к дирекции театров, что имел что сказать и хотел это сказать. Аксаков, Писарев, Загоскин, Кокошкин — все это была одна семья застрельщиков театра, передовые люди своего времени отдававшие свои силы и способности на служение живому делу и притом насквозь — durch und durch — публичного характера. Но в Петербурге театральная часть избиралась, большей частью, как служебная карьера, шли по дипломатической части, по военной, по сенату по архивам, а то и по дирекции казенных театров. Что выгорит, а вернее, где имелась наибольшая протекция. Эта особенность сохранилась и после Александра III, которого царствование В. П. Погожев считает, в деле управления Московскими театрами, демаркационной чертой. Именно в это время стал притчей во языцех «театральный подпоручик», густо облепивший театральную дирекцию. В Москве, возможно, было и своих грехов достаточно, но все же она сумела охранить себя от театрально-подпоручичьей орды.
Чем был театр — Театр с большой буквы, а еще проще и ближе сказать, Московский Малый Театр для русского общества — об этом красноречиво свидетельствуют вдохновенные страницы Белинского, очаровательные воспоминания Аксакова, бурные строки Гоголя, Герцена и множества других, быть может, не столь замечательных, но вполне искренних сочинений. «Отличительная черта нашей эпохи — пишет Герцен («По поводу одной драмы» том IV) есть griibeln...» Это немецкое слово, означающее господство рефлексии и гамлетовских вопросов, действительно, как нельзя более подходило к эпохе «лишних людей». Целый век русской истории, от Радищева до начала XX столетия, был веком лишних людей, И далее, Герцен поясняет значение театра, как он его понимает: «Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Кто-то сказал, что сцена — представительная камера (sic!) поэзии. Все тяготящее, занимающее известную эпоху, само собой вносится на сцену и обслуживается страшной логикой событий и действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей. Это обслуживание приводит к заключениям не отвлеченным, но трепещущим жизнью, неотразимым и многосторонним. Тут не лекция, не поучение, поднимающее слушателей в сферу отвлеченных всеобщностей, в бесстрастную алгебру, мало относящуюся к каждому, потому именно, что она относится ко всем. На сцене жизнь схвачена во всей ее полноте, схвачена в действительном осуществлении лицами, на самом деле, en flagrant delit. Жизнь схвачена, и между тем не остановлена; напротив, стремительное движение продолжается, увлекает зрителя с собой, и он с прерывающимся дыханием, боясь и надеясь, несется вместе с развертывающимся событием до крайних следствий его, — и вдруг остается один. Лица исчезли, погибли: он переживает их жизнь, успел полюбить их, взойти в их интересы. Удар, разразившийся над ними рикошетом, был удар в него. Такая страстная близость зрителя и сцены делает сильную органическую связь между ними; по сцене можно судить о партере, но партеру — о сцене. Партер не чужой сцене; он в роде хора греческой трагедии; он не вне драмы, а обнимает ее волнами жизни, атмосферой сочувствия, которая оживляет актера; и сцена, со своей стороны, не чужая зрителю : она переносит его не дальше, как в его собственное сердце (т. IV стр. 32).
В этих словах Герцена прорывается вся неукротимость его политических чаяний и стремлений. Как характерно сравнение сцены с «представительной камерой», т.-е. с парламентом — венцом конституционных стремлений! И далее, апология партера, сравнение его с хором древне - греческой трагедии — очень верное, но по тому времени, особенно, принимая во внимание теорию Шлегеля, смелое и не совсем обыкновенное — как это опять таки выдает внутреннюю думу будущего политического трибуна! Тот же социальный элемент театра выступает весьма определенно и в словах Белинского:
«Вы здесь живёте не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность; здесь ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире любви». Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую, заплесневелую, от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями. В душе человеческой есть то особенное свойство, что она как будто падает под бременем сладостных ощущений изящного, если не разделяет их с другой душой. А где же этот раздел является так торжественным, так умилительным, как не в театре, где тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, где тысячи «я» сливаются в одно общее целое «я», в гармоническом сознании беспредельного блаженства?»
Эти мысли в той или иной форме встречаются у многих, у большинства, но мы намеренно заимствовали апологию действенного и общественного значения театра у заведомых бунтарей и энтузиастов общественной мысли, каковы были Герцен и Белинский. Заметим кстати, что в литературе встречается и взгляд противоположный, которого выразителем некогда был Руссо.
Среди попыток воскресить этот взгляд и подкрепив его историческим обзором фактов (крайне искусственно подобранных и освещенных), необходимо отметить книгу Игнатова «Театр и Зрители». Указывают на то, что театр развивает пассивность. Ценою театральных эмоций покупается де спокойное и невозмутимое пользование плодами настоящего, и фикция театрального героизма лишает зрителя действительного, реального героизма. Будто бы театр разряжает энергию действия, — и когда «над вымыслом слезами обольюсь», то неизбежно эпиктетовское примиренчество, в ожидании того, как «на мой закат печальный блеснет заря улыбкою прощальной». Но у Герцена, как видим, чувствование театра и театральных «ударов рикошетом» по зрителю не помешало скоплению революционных и действенных сил. Можем ли мы на его примере отрицать значение, влияние и заразительное действие театрального патетизма и театральных эмоций?
Мысль об антидейственном характере театрального впечатления глубоко ошибочна. По существу, в ней истинно только то, что скопляющаяся в человеке действенная энергия, не находящая себе выхода, обращается к играм, представлениям, фикциям, потрясениям и встряскам всякого рода, ища во всем этом выхода и облегчения. Подобно тому, как Шопенгауэр в своей «Метафизике любви» рассматривает искание особи другого пола, как стремление найти дополнительную дробь своего существа, — так точно в интересующем нас вопросе потребность в потрясениях театра и искусства находится в прямом соответствии, в строго пропорциональном соотношении с недостатком действенной и активной жизни. Дополнительная дробь тем выше, чем ниже дробь основная. Вот почему безмерно возрастает значение искусства и театра в эпохи политического и общественного застоя. Величайший софизм, чтобы не сказать «величайшее легкомыслие», в том, что последствия принимаются за причины. Наибольшее увлечение театром Белинский обнаруживал в Москве. В Петербурге он писал о своих былых увлечениях:
«Театр, театр, каким магическим словом был ты для меня во время оно! Каким неотразимым очарованием потрясал ты тогда все струны души моей, и какие дивные аккорды срывал ты с них!» Далее будто бы последовало «разочарование». Точнее сказать не «разочарование», а перенесение центра внимания. Именно с наиболее гегельянским периодом в умственной жизни Белинского совпадает его наибольшее увлечение театром. Созерцательное спокойствие гегелианской метафизики требовало своей дополнительной дроби — «дивных аккордов», срываемых со «струн души» театральным представлением.
Жизнь — вся, целиком, в ее органической общности — представляет собой как бы замкнутый круг внутреннего равновесия, и объективность исторического взгляда в том и состоит, чтобы уразуметь в ходе событий относительную важность и ценность отдельных элементов исторического процесса,
Значение «сегодня» для «завтра», а вчерашнего дня для сегодняшнего. Феодальный произвол породил «тайные судилища». Разумеется, это был суррогат права, но этот суррогат питал идеи права и человеческого достоинства в темную ночь феодализма. Масонство было организацией полу - наивной, полу - театральной, сентиментальной и отчасти, быть может, ханжеской. Но масонство вскормило могучие идеи революции, освободившей мир от пережитков и остатков средневековья. Можно — и с гораздо большей степенью правдоподобия — сказать, что масонство было отпискою души, отягченной недобросовестной действенностью. Но сказав это, что меняем мы в оценке исторического значения масонства как аккумулятора «добродетели», гуманных чувств и идей, приведших впоследствии к политическому, религиозному и частью экономическому освобождению человечества от уз, мешавших ему жить, чувствовать и познавать себя и свое достоинство?
Именно теперь, когда огромный период истории остался позади, можно с полным беспристрастием оценить громадную роль театра — а под театром мы должны разуметь больше всего и преимущественно Московский Малый — в общественной жизни России; его значение, как консолидирующего и концентрирующего культурные ценности учреждения; его призывы к прогрессу, знанию, истине, справедливости, — прямые призывы, обращенные к сердцу зрителя; и, наконец, его место, как некоторого убежища и приюта общественности в царстве полицейщины и официальности.
Доброю ли волей, сознательностью ли стремлений или силою внутренней необходимости, так случилось — вопрос второстепенный. В исторической перспективе эти оттенки, очень важные при индивидуальной оценке людей и их характеров, исчезают. Остается явление века, — вернее, быть может, целая сеть, целое скопление явлений, связанных с учреждением Московского Малого Театра, и из пены этих событий и явлений, старый, такой обветшавший и как бы подслеповатый, Малый Театр встает во всем величии своего прошлого. Любим ли мы прошлое? Достаточно ли ценим его? Порою кажется, что нет. А между тем героизм настоящего, который приносит свои жертвы для будущего и только — для него, и в этом его истинное благородство — когда-нибудь также станет прошлым. И как понять бескорыстие сегодняшней жертвы, чем питать эти чувства жертвенности, если не примером прошлого? И те были, как мы — жили для будущего, для далекого счастья человечества. И потомки наши будут, как мы, и порвать цепь героического прошлого не значит ли, вообще, отнять целесообразность преемственной жертвы, тем самым угасив дух героического подвига? Хотелось бы, чтобы, проходя мимо Малого Театра, народы России произносили «с благодарностью — были». На площади Французской Комедии до сих пор имеется «Cafe de la Regence», знаменитое тем, что здесь собирались люди искусства, театра, литературы и философии, обмениваясь живыми впечатлениями театра. И до сих вор турист благоговейно озирается на это кафе, в котором старого осталось, быть может, одно название. А сколько здесь, в стенах Малого Театра, прошло таких, о которых мы должны сказать словами Некрасова, обращенными к Белинскому:
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель, перед именем твоим,
Позволь смиренно преклонить колени!..
II
Жить душно, тяжело. «Мышиной жизни бег» подавляет все мыслящие элементы общества. В вершинах реет власть, на которую нельзя смотреть: как солнце, она ослепляет. Ни похвалы, ни порицания — одно умиление. Литература, вообще, всякая, под сомнением. Как говорит Никитенко в своем дневнике — «здесь все под одну шапку; вы все люди вредны, потому что мыслите и печатаете ваши мысли», «нет ни обществолюбия, ни человеколюбия». Незыблемо стоит крепостное право, проникая во все стороны общественной, государственной и частной жизни. Жестокость нравов, питавшаяся и поддерживаемая телесными наказаниями. Бесправие — как государственный догмат, как отнятие всяких прав, целиком перенесенных на самодержца. Преследование науки, особенно гуманитарной и философской. Закрытие ряда кафедр в университетах. Ограничение комплекта слушателей. Бедность, скудость, застой и невежество, а под всем этим горделивая «апотеоза», как выразился Чаадаев, русской самобытности.
«Гниение Запада» — также один из догматов политического вероучения. «В наших сношениях с Западом — писал Шевырев — мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой заразительный недуг, окруженный атмосферой опасного дыхания». «Настоящее России более, чем великолепно, — подтверждает шеф жандармов Бенкендорф, — а будущее выше всего, что может себе представить самое пылкое воображение». Сила застоя, окаменелость казарменного быта так велики, что жизнь течет как бы автоматически. Удивляться ли тому, что Белинский усердный посетитель Малого Театра, восклицает: «можно ли не любить театр больше всего на свете?» И направляется туда, чтобы жить «не своей только жизнью, а жить хотя бы призраком, тенью социального существа».
Потребность разделить страсти, мысли и чувства с другою душою — соборность жизни — быть может, являлась одним из главнейших оснований любви к театру. Единственная форма, если не действия, то чувствования «скопом» была в театре. Удесятеренными являлись чувства в театре, среди зрительной залы. Театр как бы являлся непрестанным митингом благородных чувств и побуждений. Конечно, можно указать на то, что репертуар был далеко не всегда на должной высоте, что на ряду с истинно художественными и значительными произведениями, давались произведения ничтожные, ремесленные, так называемые choses au theatre. Но сила театрального действия измеряется не одними откровениями. Быть может, в своем обычном репертуаре театр, привлекающий публику, не лишен известной вульгарности, но эта вульгарность является часто причиною общего действия театра, доступности и так сказать, социальности его эффекта. Каждый находил спектакль и пьесу по своему вкусу. Герцен в одном месте указывает на пестрый и разнообразный состав партера. Даже «бородки», как называлось тогда купечество и мещанство, были разные — от «бородки an sich», растущей стихийно, как явление природы, до бородки «fiir sich», подстриженной по вкусу и разумению. Но все, как бы ни были малы и нетребовательны их вкусы, находили в театре самое для себя важное — общность чувства, соборность, ощущение социальной близости и солидарности. Преобладала, разумеется, мелодрама. Еще в полном ходу и почете была — «коцебятина», над которой кто же не издевался и не трунил? Формула «добродетель торжествует, порок наказан» давно уже припечатана стигматом пошлости. Но нёт ничего более несправедливого, чем это осуждение, и нет ничего более театрального, как именно это торжество добродетели и наказание порока. Среди «мерзости неправосудия» и «черным-черной неправды», по выражению Аксакова, тогдашнего бесправия — людям необходимо было, как воздух, иллюзорное торжество добродетели. Тоскующая печаль, угнетенное сознание человека искали нравственного утешения, ободряющего слова. И чем ночь темней, тем ярче звезды. Расплывавшаяся, можно сказать, потоком липкой патоки, добродетель мелодраматической коцебятины была органически необходима среди жестоких нравов, бедности и нищеты, бесправия и задавленности человеческой личности. Когда мы читаем, например, у Зотова, что он несколько раз всхлипывал на представлении «Параши Сибирячки», мы не должны этому удивляться. Тут были — влияние массового заражения, с одной стороны, и наивное, детское, как бессвязная ребяческая молитва — облегчение нравственного чувства, — с другой. Даже апофеоз царя являлся здесь неполитическим лозунгом и убеждением, а чем-то вроде сказочного предания о добрых Берендеях. Какая-то отдаленная мерцающая звезда, которой значение не в том, какую форму, какой мундир она в данную минуту имеет, а в том, что туда в отдаленнейшую из отдаленнейших сфер перенесена вся сила упования, надежды и веры. Разве это не то же «мы отдохнем, мы отдохнем» из «дяди Вани». Все небо будет в алмазах, и каждый утешает себя мыслью, что получит свою порцию алмазного небосвода.
Со сцены шли убаюкивающие сказки о конечном торжестве добродетели и помогали жить, веря в добро, искусственно питая эту веру. Одним из распространеннейших сценических персонажей того времени был — Неизвестный — таинственная, романтическая, внебытовая, так сказать, фигура, символизировавшая иррациональный идеал.
Над жизнью, которую мы знаем во всей ее отвратительной наготе, во всей ее беспощадности и жестокости, со всеми ее кознями, неправосудием, угнетением слабых, торжеством злобствующих, своекорыстных и коварных, — над реальным и ощутимым — есть нечто трансцендентное, неизвестное. Это — «Неизвестный», потому что все известное и следовательно все известные — или к добру и злу постыдно равнодушны или бессильны сотворить добро. Спасение откуда-то, из потустороннего мира — но оно есть. Оно называется — Неизвестный. И подождите, вот отношения запутаются и станут невозможными, вот злодейка западня готова захлопнуть свои дверцы над несчастною жертвою, вот неразрешимый, нерасторжимый узел драматического сцепления, — и тогда придет Неизвестный, все распутает, всем воздаст, каждому по делам его и, совершив все, облагодетельствовав одних, покарав других, на минуту раскроет лик свой, распахнет плащ и потом исчезнет навсегда, как добрый гений, как вездесущее, все наполняющее начало добра и справедливости. «Ненависть к людям и раскаянье» — известная пьеса Коцебу не сходила с репертуара многие десятки лет. Барон Мейнау есть Неизвестный, и Неизвестный есть барон Мейнау. Ненавидя, он любит. Самая ненависть его проистекает из, ожесточенного ущемлением добродетели, сердца. Но, конечно, любовь торжествует. Добродетель примиряет раскаявшегося с жизнью. Сколько раз читал Мочалов монологи Мейнау! Вот он стоит со скрещенными руками, как он изображен на картине Неврева, и читает монолог в знакомом купеческом доме. Его сердце «подобно засыпанной могиле». Но когда является раскаяние, то раскрываются покровы могил, и из недр вырастают цветы добра и утешения. Все, что было человеческого «слишком человеческого» в тусклой, обыденной забитой жизни русского общества рвалось к сверхчеловеческому романтизму и фантастике; все, что изъедено было скукой бытия и автоматической непреложностью обывательского существования, рвалось к чуду; и все, что таилось в груди и произносилось шопотом, отражалось в громогласных стихах, произносимых Мочаловым:
Есть громы... но в сей час на небе тишина!
Есть боги... и земля злодеям предана!
И стонут слабые у сильных под рукою!
Об этих минутах пишет восторженный Аполлон Григорьев, вспоминая Мочалова, что театральная зала выла «как голодный зверь» и «незнакомый мне сосед в восторге жал мне крепко руку». И далее его же, Григорьева, определение романтизма: «Этот озноб и жар с напряженным биением пульса, который равно болезнен, окажется ли он сладкою, но все таки тревожною, мечтательностью Жуковского, тоскою ли по прошедшем Шатобриана, мрачным ли и сосредоточенным отрицанием Байрона, судорожными ли созданиями Виктора Гюго и литературы 30-х годов, борьбою ли с ним ясной и светлой Пушкинской натуры, подчинением ли ему до морального уничтожения натур Марлинского и Полежаева, Мочаловскими ли созданиями, воплями ли Огаревских монологов или Фетовскими странными, но для души ясными, намеками на какие-то звуки, которые зовут к моему изголовью».
Прибавьте к этому почти столь же мечтательную и трансцендентальную философию, и пред вами весь, так сказать, «пленум» духовной жизни, в которой театр был не только равноценным членом, но почти единственной формой многоголового вселенского чувства.
В лице Щепкина это слияние Московского Малого театра с духовной и интеллектуальной жизнью тогдашнего общества нашло и свое, так сказать, физическое выражение. Щепкин был не только совершенным для своего времени представителем сценического искусства, но и воплощением внутренней связи тогдашней русской интеллигенции и Малого театра. Дом Щепкина собирал весь цвет московской интеллигенции и с ним мог разве поспорить знаменитый «Литературный салон» Каролины Павловой. Щепкин был окружен представителями обеих партий — и западников, и славянофилов. С одной стороны — Станкевич, Белинский, Грановский, Герцен, Огарев, Тургенев, Боткины, гр. Соллогуб и пр., с другой — семья Аксаковых, Хомяков, Киреевские, Погодин, Шевырев и пр. и пр. Были тут и представители отвлеченной науки, как профессор астрономии Перевощиков, от которого Щепкин выслушивал астрономические сведения с таким же интересом, с каким прислушивался к философским спорам в кружке Станкевича и потом Грановского и к эстетическим спорам Белинского с тонким знатоком искусства, В. П. Боткиным.
Летние месяцы 1845 и 1846 годов весь круг московских западников собирался в подмосковной дачной местности Соколове, где жили Грановский и Герцен (Г. Ветринский «В сороковых годах», стр. 371—372). Здесь же жил и Щепкин со своей громадной семьей. В Соколове образовалось нечто в роде конгресса всего лучшего, что было в тогдашней интеллигенции; блестящие представители науки, литературы и искусства съезжались к постоянным обитателям Соколова. Шел деятельный обмен мыслей по всем вопросам нравственно-философским, литературным и эстетическим; полное отсутствие каких бы то ни было стеснений свободно выражаемому мнению, высокий уровень интересов, которые одинаково захватывали и мужское, и женское общество, — все это придавало своеобразный поэтический колорит «рыцарскому братству без писанного устава», которое, по выражению П. Анненкова, сложилось здесь».
Сам Щепкин приписывал свое умственное развитие, как человека и артиста, влиянию среды, в которой он жил в Москве. На первый план он выдвигал дом С. Аксакова. Особую благодарность он питал к Грановскому. «Беседы с Грановским поднимали меня нравственно; укреплял! во мне постоянно упорную и неутомимую любовь к труду и искусству». «Я не сидел на скамьях студентов, — говорил Щепкин, — но с гордостью скажу, что много обязан московскому университету в лице его преподавателей: одни научили меня мыслить, — другие глубоко понимать искусство».
По своим взглядам и влечениям, Щепкин был, конечно, гораздо ближе к западникам, чем к славянофилам. Он верил в единые формы развития человеческого духа и в единую, если можно выразиться, формулу человеческого прогресса. К этому воззрению, которое одновременно было и его чувством, склоняли его, как беседы с представителями кружка Станкевича, на тему о метафизике и натурфилософии, рассматривавшей мир как проявление абсолютного, и стало быть, единого духа и разума, а еще больше, его происхождение, воспоминания о собственном рабстве, картины бесправия, убожества и невежества, памятные с юных лет. Демократический инстинкт был заложен в его натуре, а вместе с тем и трезвый, житейский взгляд на вещи, выработанный борьбой за существование. При всем его преклонении перед Гоголем, при всем чувстве восхищения, он — а с ним и Малый театр, как и вся русская передовая интеллигенция, — отвергнул мистическое направление последнего Гоголевского периода. Хорошо известно письмо Щепкина к Гоголю, который пытался уверить первого, что чиновники «Ревизора» суть наши «разбушевавшиеся страсти». «После моей смерти — писал Гоголю Щепкин — переделывайте их хоть в козлов, а сейчас я вам Держиморду не уступлю». Здесь пером Щепкина водил н
Статья А.Р.Кугеля из книги «Московский Малый театр. 1824 – 1924», М., 1924 (стр. 37 – 73).
I
История Московского Малого Театра не есть только история художественного учреждения и не может быть только ею. Вообще, никакое жизненное явление нельзя мыслить оторванным от общего хода и процесса жизни, но Московский Малый Театр по многим причинам оказался особенно тесно связанным с историей наших литературных, общественных и политических движений. Эта роль — светочувствительной пластинки, если подобное мало удовлетворительное выражение способно объяснить нашу мысль — из русских театров выпала, главным образом, на долю Московского Малого Театра, потому, что это был Московский Театр; не провинциальный, — живший, в большей или меньшей степени, уродливыми отражениями столичных мод и веяний, и не петербургский, потому, что Петербург был городом казенным, официальным, царским и самодержавным. Москва, насколько это представлялось возможным, была в стороне, — подальше от неустанного надзора власти.
Ходячее выражение: «Петербург — голова России, Москва — ее сердце» — далеко не верно и не точно определяет соотношение этих городов. Эта туманная фраза годилась именно вследствие ее туманности, представлявшей большие цензурные удобства. В действительности, надо было бы сказать так. Петербург — это власть, Москва — это общество. Как бы ни была огромна правительственная власть, какие бы обширнейшие прерогативы она себе ни предоставляла, вникая во все подробности жизни, подчиняя их своей регламентации и осуществляя во всей полноте абсолютный идеал полицейского государства — за всем этим остается, совершенно неистребимый никаким абсолютизмом власти, «чистый остаток» общественности, ускользающий от полицейского абсолютизма. Как никакая система права, сколь подробна и разработана она бы ни была, вплоть до талмудической схоластики, не в силах вытеснить «чистый остаток» морали, руководствующей жизнью людей, так никакая власть не может вполне и окончательно поработить общественные связи Петербург был созданием царизма. Царская власть подавляла в нем все и задавала тон всему. Москва была в удалении. Неслужащий дворянин, самостоятельно ведущий торговлю купец, заводчик, литератор, не соприкасавшийся, прямо или косвенно, с III отделением, — все это имелось в Москве. Здесь жили богатые баре, не занимавшие больших должностей; члены «английского клуба», слегка фрондировавшие, благонамеренно фрондировавшие и всетаки фрондировавшие. Вспомните, хотя бы, например, необычайное по художественности описание в «Войне и Мире» обеда, данного москвичами кн. Багратиону в честь Шенграбенского сражения.
«Удаленная от политического движения, питаясь старыми новостями, не имея ключа к действиям правительства, ни инстинкта отгадывать их, Москва резонерствует, многим недовольна, обо многом отзывается вольно», пишет Герцен (IV ст. 56).
Эта роль сохранилась за Москвой до самой революции. Москва всегда была очагом русской фронды, как бы разнообразны, а порою и невинны, ни были ее формы. И самые страстные западнические кружки, и самые неукротимые славянофильские, и даже самые крайние реакционно-охранительные, избытком своего усердия мешавшие деловитой работе царского правительства, укреплявшего трон, — значились в Москве. Совершенно естественно также, что именно в Москве, где не было царей-солнц и их свиты, где положение человека в обществе не имело столь ясного и определенного показателя, как в Петербурге, — близости к трону — искусство и литература давали больше цены, авторитета и признания человеку, чем в Петербурге. Если бы Пушкин был москвич, камер-юнкерство не имело бы для него такого значения, как в Петербурге. За отсутствием чиновной иерархии, Москва утверждала охотнее и свободнее иерархию ума и таланта. Это проходит красной нитью через весь XIX и XX века до самой революции. Литературно-художественное собрание или общество, университет, журнал, театр в Москве были не только культурными, но и общественными центрами, чего нельзя сказать о Петербурге, где все такие и подобные учреждения имели, главным образом, профессиональную, специфическую, цеховую окраску. Московский интеллигент, в глазах всей Москвы, приобретал социальную ценность. Да и что такое была «вся Москва», как не отборная интеллигенция города, да еще ей сочувствующие представители родовой аристократии и капитала, охотно и добровольно признававшие ее авторитет и исключительное право на общественное внимание? Тогда как «весь Петербург» был собранием высшей чиновной и придворной знати, плюс те немногочисленные представители иных званий и состояний, на которых, в той или иной мере, падали лучи царского солнца.
Сейчас трудно, едва ли возможно, дать объективную оценку петербургского периода русской истории. Но если даже признать, что этот период, на ряду с крайним развитием империализма, может быть охарактеризован, как период внешнего накопления культурных ценностей, то и в этом смысле роль Москвы была отлична от роли Петербурга. Социальным распределением этих ценностей оставалась Москва. Петербург лихорадочно выкидывал продукты культурного производства, но классифицировала их и определяла их удельный вес — Москва. Московский резонанс, быть может, потому, что ему не мешали медные трубы, голосившие «осанну» вокруг престола, был гораздо благоприятнее для культурной жизни, нежели петербургский. Петербургский парад с церемонией или развод с музыкой затмевал любой культурный праздник, а высочайший выход был событием, пред которым бледнели самые замечательные выходы и явления культурной жизни. И чем реакционнее была действительность, чем темнее была петербургская ночь,- тем ярче на фоне московской жизни загорались такие явления. Можно ли себе представить, например, чтобы в Петербурге приобрели такое значение, как в Москве, публичные лекции, читанные Грановским? Конечно, лекции Грановского были талантливы и интересны, но в Петербурге они затерялись бы, как в нем и терялось множество интересных и талантливых выступлений. Но в Москве не что иное, как цикл исторических — и притом очень по содержанию отдаленных, — лекций популярного и любимого профессора, стал историческим событием, своего рода межой в истории общественного сознания. Быть может, Петербург количественно был образованнее Москвы и обнаруживал более тонкий и изощренный вкус, на ряду, конечно, с большим скептицизмом и духом иронии, но Москва, в простоте и нераздельности своего чувства, больше ценила образование, свет, культуру, мысль, искусство, рвалась к ним и полнее всему этому отдавалась. Отсюда ясно, что Александринский, например, театр в Петербурге не имел и не мог иметь такого значения, как Малый, Московский. Главными рецензентами Александринского театра, в сущности, были высочайшие особы. Это был придворный театр, в полном смысле слова, а не по названию только. Два наиболее стойкие и определенные выразителя реакции среди русских венценосцев XIX века — Николай I и Александр III — были не только частыми посетителями, но в значительной мере и заведующими этим театром. Иногда, конечно, это представляло известные выгоды — иметь царя управляющим театра. Это доказывает история («Ревизора» и «Власти Тьмы», которым, в обычном цензурном порядке, пришлось бы, вероятно, дожидаться еще не мало времени появления на сцене. Но зато каким гнетом на всем театральном деле лежала постоянная забота о том, чтобы театр был угоден царскому величеству! И в смысле репертуара, и в смысле общего курса Александринский театр должен был, в большей или меньшей мере, приспособляться к вкусам «державного хозяина» и его приближенных Главное, чтобы царь не скучал, que le roi e'aniusel Летом, когда начинались маневры в Красном Селе, труппа Александринского театра превращалась уже окончательно в придворную, и часть репертуара так и составлялась, — в расчете на Красносельские спектакли — для холостой гвардейской молодежи.
Совсем в другом положении был Московский Малый Театр. Он работал на публику, на зрителя. Он отражал гораздо полнее вкусы, стремления и идеалы того общественного класса или тех общественных классов, которым он служил. Он был в стороне от «большого света», где вращались царские светила, от международного давления знатных иностранцев, которыми кишел Петербург; наконец от прямого и непосредственного влияния французского театра, для которого Петербург был второй родиной. Малый театр довлел себе, и, довлея себе, мог стать и действительно становился национально-художественным учреждением. Это вытекало прежде всего из разницы в экономическом положении Александринского и Малого театров. В основанном на строгой разработке архивных данных исследований В. П. Погожева — «Столетие организации императорских Московских театров», находим весьма любопытные цифровые данный. Московский театр, по выражению Погожева, медленно совершает свое перевоплощение... «из родного детища московской интеллигенции, вымуштрованного и выхоленного бескорыстными любителями сценического искусства, в пасынка петербургской академии театрального дела».
Постановлением от 4 ноября 1822 г. и формально московский театр был отделен от петербургского управления и подчинен главному начальнику московского генерал-губернатора, причем мотивом отделения было выставлено «отвращение неудобств, встречавшихся в действиях московского театра, который и средствами, и местными обстоятельствами разнится от С.-Петербургского театра».
Средствами московский театр разнился особенно. В то время как долг в 18.000 р. по отчету московской дирекции 1830 г. (в связи с холерой) послужил причиной замены долго и успешно управлявшего Московскими театрами Кокошкина Загоскиным — вот что было израсходовано за короткий промежуток времени по дефицитам петербургских театров. В 1829 г. было препровождено 526.000 р. на уплату накопившихся до того времени долгов. И затем в промежуток времени до 1837 г. было сделано экстренных и сверхштатных расходов и субсидий — 1.698.013 р. Разница в отпуске средств на петербургские и московские театры настолько велика, в особенности, по сравнению с достигнутыми результатами, что основная историческая черта московского театра становится сразу ясной и несомнительной. В отличие от петербургского, это был действительно театр, созданный обществом, а не начальством. Нужны были любовь, самоотверженность, бескорыстие, а всего более, неукротимая внутренняя потребность для того, чтобы при таких условиях не только состязаться, но, можно смело сказать, затмить петербургского соперника. И совершенно понятна также вторая характерная черта Московских театров, отмеченная Погожевым, — то, что несмотря на разнообразие его деятельности, «впечатление и память публики в Московском театре сосредоточивается исключительно на «русской драме», и история Московского театра есть, в сущности, история Малого театра». Было бы ошибочно утверждать, что дело — в счастливом подборе случайностей, в необыкновенном хозяйственном управлении Майкова, который, однако, будучи переведен в Петербург, никакими чрезвычайными хозяйственными подвигами себя не заявил: в том, что в Москве создалась блестящая плеяда актеров, как Мочалов, Синецкая, Щепкин и т. п. Все это далеко не случайно, как не случайно, что через полвека в Московском Малом театре блистала новая группа актеров и в репертуаре таком же повышенно-героическом, как Ермолова, Южин, Ленский, Горев. Очевидно, были какие-то общие причины или, быть может, вернее, общая причина. И она в том, что насколько это было возможно в самодержавно - полицейском государстве, Москва являлась естественным средоточием живых, общественных сил, которым прислуживаться было тошно, и которые работая в культурной области, чувствовали себя гораздо лучше, легче и свободнее в Москве. И Шаховской, который вывел «своих комедий колкий рой», был иной в Москве, чем в Петербурге.
И Кокошкин недаром жил в Москве, и Аксаков. И недаром там были заложены первые основы двух важнейших течений русского политического разномыслия — западничества и славянофильства. И совсем не случайно, что самые серьезные и чувствующие ответственность пред искусством (мы воздержимся от эпитета «талантливые») актеры тянулись в Москву. И вовсе не слепая игра судьбы, что их-то и искали, за ними ухаживали и всячески их воспитывали в Москве, а не в Петербурге, — для ответственного, важного и героического репертуара. И Шаховскому, этому лучшему «сценическому мастеру» своей эпохи, было сподручнее в Москве и словом и делом преподавать уроки театра. И совершенно нельзя себе представить петербургского директора театра, который, подобно Кокошкину, открывал бы двери своего дома всем жаждущим сценического поприща, экзаменовал бы их, выслушивал и направлял, а воспитанников театральной школы звал бы на свои балы. Московский театральный чиновник был действующий, так сказать, театрал, который потому и приписывался к дирекции театров, что имел что сказать и хотел это сказать. Аксаков, Писарев, Загоскин, Кокошкин — все это была одна семья застрельщиков театра, передовые люди своего времени отдававшие свои силы и способности на служение живому делу и притом насквозь — durch und durch — публичного характера. Но в Петербурге театральная часть избиралась, большей частью, как служебная карьера, шли по дипломатической части, по военной, по сенату по архивам, а то и по дирекции казенных театров. Что выгорит, а вернее, где имелась наибольшая протекция. Эта особенность сохранилась и после Александра III, которого царствование В. П. Погожев считает, в деле управления Московскими театрами, демаркационной чертой. Именно в это время стал притчей во языцех «театральный подпоручик», густо облепивший театральную дирекцию. В Москве, возможно, было и своих грехов достаточно, но все же она сумела охранить себя от театрально-подпоручичьей орды.
Чем был театр — Театр с большой буквы, а еще проще и ближе сказать, Московский Малый Театр для русского общества — об этом красноречиво свидетельствуют вдохновенные страницы Белинского, очаровательные воспоминания Аксакова, бурные строки Гоголя, Герцена и множества других, быть может, не столь замечательных, но вполне искренних сочинений. «Отличительная черта нашей эпохи — пишет Герцен («По поводу одной драмы» том IV) есть griibeln...» Это немецкое слово, означающее господство рефлексии и гамлетовских вопросов, действительно, как нельзя более подходило к эпохе «лишних людей». Целый век русской истории, от Радищева до начала XX столетия, был веком лишних людей, И далее, Герцен поясняет значение театра, как он его понимает: «Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Кто-то сказал, что сцена — представительная камера (sic!) поэзии. Все тяготящее, занимающее известную эпоху, само собой вносится на сцену и обслуживается страшной логикой событий и действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей. Это обслуживание приводит к заключениям не отвлеченным, но трепещущим жизнью, неотразимым и многосторонним. Тут не лекция, не поучение, поднимающее слушателей в сферу отвлеченных всеобщностей, в бесстрастную алгебру, мало относящуюся к каждому, потому именно, что она относится ко всем. На сцене жизнь схвачена во всей ее полноте, схвачена в действительном осуществлении лицами, на самом деле, en flagrant delit. Жизнь схвачена, и между тем не остановлена; напротив, стремительное движение продолжается, увлекает зрителя с собой, и он с прерывающимся дыханием, боясь и надеясь, несется вместе с развертывающимся событием до крайних следствий его, — и вдруг остается один. Лица исчезли, погибли: он переживает их жизнь, успел полюбить их, взойти в их интересы. Удар, разразившийся над ними рикошетом, был удар в него. Такая страстная близость зрителя и сцены делает сильную органическую связь между ними; по сцене можно судить о партере, но партеру — о сцене. Партер не чужой сцене; он в роде хора греческой трагедии; он не вне драмы, а обнимает ее волнами жизни, атмосферой сочувствия, которая оживляет актера; и сцена, со своей стороны, не чужая зрителю : она переносит его не дальше, как в его собственное сердце (т. IV стр. 32).
В этих словах Герцена прорывается вся неукротимость его политических чаяний и стремлений. Как характерно сравнение сцены с «представительной камерой», т.-е. с парламентом — венцом конституционных стремлений! И далее, апология партера, сравнение его с хором древне - греческой трагедии — очень верное, но по тому времени, особенно, принимая во внимание теорию Шлегеля, смелое и не совсем обыкновенное — как это опять таки выдает внутреннюю думу будущего политического трибуна! Тот же социальный элемент театра выступает весьма определенно и в словах Белинского:
«Вы здесь живёте не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность; здесь ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире любви». Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую, заплесневелую, от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями. В душе человеческой есть то особенное свойство, что она как будто падает под бременем сладостных ощущений изящного, если не разделяет их с другой душой. А где же этот раздел является так торжественным, так умилительным, как не в театре, где тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, где тысячи «я» сливаются в одно общее целое «я», в гармоническом сознании беспредельного блаженства?»
Эти мысли в той или иной форме встречаются у многих, у большинства, но мы намеренно заимствовали апологию действенного и общественного значения театра у заведомых бунтарей и энтузиастов общественной мысли, каковы были Герцен и Белинский. Заметим кстати, что в литературе встречается и взгляд противоположный, которого выразителем некогда был Руссо.
Среди попыток воскресить этот взгляд и подкрепив его историческим обзором фактов (крайне искусственно подобранных и освещенных), необходимо отметить книгу Игнатова «Театр и Зрители». Указывают на то, что театр развивает пассивность. Ценою театральных эмоций покупается де спокойное и невозмутимое пользование плодами настоящего, и фикция театрального героизма лишает зрителя действительного, реального героизма. Будто бы театр разряжает энергию действия, — и когда «над вымыслом слезами обольюсь», то неизбежно эпиктетовское примиренчество, в ожидании того, как «на мой закат печальный блеснет заря улыбкою прощальной». Но у Герцена, как видим, чувствование театра и театральных «ударов рикошетом» по зрителю не помешало скоплению революционных и действенных сил. Можем ли мы на его примере отрицать значение, влияние и заразительное действие театрального патетизма и театральных эмоций?
Мысль об антидейственном характере театрального впечатления глубоко ошибочна. По существу, в ней истинно только то, что скопляющаяся в человеке действенная энергия, не находящая себе выхода, обращается к играм, представлениям, фикциям, потрясениям и встряскам всякого рода, ища во всем этом выхода и облегчения. Подобно тому, как Шопенгауэр в своей «Метафизике любви» рассматривает искание особи другого пола, как стремление найти дополнительную дробь своего существа, — так точно в интересующем нас вопросе потребность в потрясениях театра и искусства находится в прямом соответствии, в строго пропорциональном соотношении с недостатком действенной и активной жизни. Дополнительная дробь тем выше, чем ниже дробь основная. Вот почему безмерно возрастает значение искусства и театра в эпохи политического и общественного застоя. Величайший софизм, чтобы не сказать «величайшее легкомыслие», в том, что последствия принимаются за причины. Наибольшее увлечение театром Белинский обнаруживал в Москве. В Петербурге он писал о своих былых увлечениях:
«Театр, театр, каким магическим словом был ты для меня во время оно! Каким неотразимым очарованием потрясал ты тогда все струны души моей, и какие дивные аккорды срывал ты с них!» Далее будто бы последовало «разочарование». Точнее сказать не «разочарование», а перенесение центра внимания. Именно с наиболее гегельянским периодом в умственной жизни Белинского совпадает его наибольшее увлечение театром. Созерцательное спокойствие гегелианской метафизики требовало своей дополнительной дроби — «дивных аккордов», срываемых со «струн души» театральным представлением.
Жизнь — вся, целиком, в ее органической общности — представляет собой как бы замкнутый круг внутреннего равновесия, и объективность исторического взгляда в том и состоит, чтобы уразуметь в ходе событий относительную важность и ценность отдельных элементов исторического процесса,
Значение «сегодня» для «завтра», а вчерашнего дня для сегодняшнего. Феодальный произвол породил «тайные судилища». Разумеется, это был суррогат права, но этот суррогат питал идеи права и человеческого достоинства в темную ночь феодализма. Масонство было организацией полу - наивной, полу - театральной, сентиментальной и отчасти, быть может, ханжеской. Но масонство вскормило могучие идеи революции, освободившей мир от пережитков и остатков средневековья. Можно — и с гораздо большей степенью правдоподобия — сказать, что масонство было отпискою души, отягченной недобросовестной действенностью. Но сказав это, что меняем мы в оценке исторического значения масонства как аккумулятора «добродетели», гуманных чувств и идей, приведших впоследствии к политическому, религиозному и частью экономическому освобождению человечества от уз, мешавших ему жить, чувствовать и познавать себя и свое достоинство?
Именно теперь, когда огромный период истории остался позади, можно с полным беспристрастием оценить громадную роль театра — а под театром мы должны разуметь больше всего и преимущественно Московский Малый — в общественной жизни России; его значение, как консолидирующего и концентрирующего культурные ценности учреждения; его призывы к прогрессу, знанию, истине, справедливости, — прямые призывы, обращенные к сердцу зрителя; и, наконец, его место, как некоторого убежища и приюта общественности в царстве полицейщины и официальности.
Доброю ли волей, сознательностью ли стремлений или силою внутренней необходимости, так случилось — вопрос второстепенный. В исторической перспективе эти оттенки, очень важные при индивидуальной оценке людей и их характеров, исчезают. Остается явление века, — вернее, быть может, целая сеть, целое скопление явлений, связанных с учреждением Московского Малого Театра, и из пены этих событий и явлений, старый, такой обветшавший и как бы подслеповатый, Малый Театр встает во всем величии своего прошлого. Любим ли мы прошлое? Достаточно ли ценим его? Порою кажется, что нет. А между тем героизм настоящего, который приносит свои жертвы для будущего и только — для него, и в этом его истинное благородство — когда-нибудь также станет прошлым. И как понять бескорыстие сегодняшней жертвы, чем питать эти чувства жертвенности, если не примером прошлого? И те были, как мы — жили для будущего, для далекого счастья человечества. И потомки наши будут, как мы, и порвать цепь героического прошлого не значит ли, вообще, отнять целесообразность преемственной жертвы, тем самым угасив дух героического подвига? Хотелось бы, чтобы, проходя мимо Малого Театра, народы России произносили «с благодарностью — были». На площади Французской Комедии до сих пор имеется «Cafe de la Regence», знаменитое тем, что здесь собирались люди искусства, театра, литературы и философии, обмениваясь живыми впечатлениями театра. И до сих вор турист благоговейно озирается на это кафе, в котором старого осталось, быть может, одно название. А сколько здесь, в стенах Малого Театра, прошло таких, о которых мы должны сказать словами Некрасова, обращенными к Белинскому:
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель, перед именем твоим,
Позволь смиренно преклонить колени!..
II
Жить душно, тяжело. «Мышиной жизни бег» подавляет все мыслящие элементы общества. В вершинах реет власть, на которую нельзя смотреть: как солнце, она ослепляет. Ни похвалы, ни порицания — одно умиление. Литература, вообще, всякая, под сомнением. Как говорит Никитенко в своем дневнике — «здесь все под одну шапку; вы все люди вредны, потому что мыслите и печатаете ваши мысли», «нет ни обществолюбия, ни человеколюбия». Незыблемо стоит крепостное право, проникая во все стороны общественной, государственной и частной жизни. Жестокость нравов, питавшаяся и поддерживаемая телесными наказаниями. Бесправие — как государственный догмат, как отнятие всяких прав, целиком перенесенных на самодержца. Преследование науки, особенно гуманитарной и философской. Закрытие ряда кафедр в университетах. Ограничение комплекта слушателей. Бедность, скудость, застой и невежество, а под всем этим горделивая «апотеоза», как выразился Чаадаев, русской самобытности.
«Гниение Запада» — также один из догматов политического вероучения. «В наших сношениях с Западом — писал Шевырев — мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой заразительный недуг, окруженный атмосферой опасного дыхания». «Настоящее России более, чем великолепно, — подтверждает шеф жандармов Бенкендорф, — а будущее выше всего, что может себе представить самое пылкое воображение». Сила застоя, окаменелость казарменного быта так велики, что жизнь течет как бы автоматически. Удивляться ли тому, что Белинский усердный посетитель Малого Театра, восклицает: «можно ли не любить театр больше всего на свете?» И направляется туда, чтобы жить «не своей только жизнью, а жить хотя бы призраком, тенью социального существа».
Потребность разделить страсти, мысли и чувства с другою душою — соборность жизни — быть может, являлась одним из главнейших оснований любви к театру. Единственная форма, если не действия, то чувствования «скопом» была в театре. Удесятеренными являлись чувства в театре, среди зрительной залы. Театр как бы являлся непрестанным митингом благородных чувств и побуждений. Конечно, можно указать на то, что репертуар был далеко не всегда на должной высоте, что на ряду с истинно художественными и значительными произведениями, давались произведения ничтожные, ремесленные, так называемые choses au theatre. Но сила театрального действия измеряется не одними откровениями. Быть может, в своем обычном репертуаре театр, привлекающий публику, не лишен известной вульгарности, но эта вульгарность является часто причиною общего действия театра, доступности и так сказать, социальности его эффекта. Каждый находил спектакль и пьесу по своему вкусу. Герцен в одном месте указывает на пестрый и разнообразный состав партера. Даже «бородки», как называлось тогда купечество и мещанство, были разные — от «бородки an sich», растущей стихийно, как явление природы, до бородки «fiir sich», подстриженной по вкусу и разумению. Но все, как бы ни были малы и нетребовательны их вкусы, находили в театре самое для себя важное — общность чувства, соборность, ощущение социальной близости и солидарности. Преобладала, разумеется, мелодрама. Еще в полном ходу и почете была — «коцебятина», над которой кто же не издевался и не трунил? Формула «добродетель торжествует, порок наказан» давно уже припечатана стигматом пошлости. Но нёт ничего более несправедливого, чем это осуждение, и нет ничего более театрального, как именно это торжество добродетели и наказание порока. Среди «мерзости неправосудия» и «черным-черной неправды», по выражению Аксакова, тогдашнего бесправия — людям необходимо было, как воздух, иллюзорное торжество добродетели. Тоскующая печаль, угнетенное сознание человека искали нравственного утешения, ободряющего слова. И чем ночь темней, тем ярче звезды. Расплывавшаяся, можно сказать, потоком липкой патоки, добродетель мелодраматической коцебятины была органически необходима среди жестоких нравов, бедности и нищеты, бесправия и задавленности человеческой личности. Когда мы читаем, например, у Зотова, что он несколько раз всхлипывал на представлении «Параши Сибирячки», мы не должны этому удивляться. Тут были — влияние массового заражения, с одной стороны, и наивное, детское, как бессвязная ребяческая молитва — облегчение нравственного чувства, — с другой. Даже апофеоз царя являлся здесь неполитическим лозунгом и убеждением, а чем-то вроде сказочного предания о добрых Берендеях. Какая-то отдаленная мерцающая звезда, которой значение не в том, какую форму, какой мундир она в данную минуту имеет, а в том, что туда в отдаленнейшую из отдаленнейших сфер перенесена вся сила упования, надежды и веры. Разве это не то же «мы отдохнем, мы отдохнем» из «дяди Вани». Все небо будет в алмазах, и каждый утешает себя мыслью, что получит свою порцию алмазного небосвода.
Со сцены шли убаюкивающие сказки о конечном торжестве добродетели и помогали жить, веря в добро, искусственно питая эту веру. Одним из распространеннейших сценических персонажей того времени был — Неизвестный — таинственная, романтическая, внебытовая, так сказать, фигура, символизировавшая иррациональный идеал.
Над жизнью, которую мы знаем во всей ее отвратительной наготе, во всей ее беспощадности и жестокости, со всеми ее кознями, неправосудием, угнетением слабых, торжеством злобствующих, своекорыстных и коварных, — над реальным и ощутимым — есть нечто трансцендентное, неизвестное. Это — «Неизвестный», потому что все известное и следовательно все известные — или к добру и злу постыдно равнодушны или бессильны сотворить добро. Спасение откуда-то, из потустороннего мира — но оно есть. Оно называется — Неизвестный. И подождите, вот отношения запутаются и станут невозможными, вот злодейка западня готова захлопнуть свои дверцы над несчастною жертвою, вот неразрешимый, нерасторжимый узел драматического сцепления, — и тогда придет Неизвестный, все распутает, всем воздаст, каждому по делам его и, совершив все, облагодетельствовав одних, покарав других, на минуту раскроет лик свой, распахнет плащ и потом исчезнет навсегда, как добрый гений, как вездесущее, все наполняющее начало добра и справедливости. «Ненависть к людям и раскаянье» — известная пьеса Коцебу не сходила с репертуара многие десятки лет. Барон Мейнау есть Неизвестный, и Неизвестный есть барон Мейнау. Ненавидя, он любит. Самая ненависть его проистекает из, ожесточенного ущемлением добродетели, сердца. Но, конечно, любовь торжествует. Добродетель примиряет раскаявшегося с жизнью. Сколько раз читал Мочалов монологи Мейнау! Вот он стоит со скрещенными руками, как он изображен на картине Неврева, и читает монолог в знакомом купеческом доме. Его сердце «подобно засыпанной могиле». Но когда является раскаяние, то раскрываются покровы могил, и из недр вырастают цветы добра и утешения. Все, что было человеческого «слишком человеческого» в тусклой, обыденной забитой жизни русского общества рвалось к сверхчеловеческому романтизму и фантастике; все, что изъедено было скукой бытия и автоматической непреложностью обывательского существования, рвалось к чуду; и все, что таилось в груди и произносилось шопотом, отражалось в громогласных стихах, произносимых Мочаловым:
Есть громы... но в сей час на небе тишина!
Есть боги... и земля злодеям предана!
И стонут слабые у сильных под рукою!
Об этих минутах пишет восторженный Аполлон Григорьев, вспоминая Мочалова, что театральная зала выла «как голодный зверь» и «незнакомый мне сосед в восторге жал мне крепко руку». И далее его же, Григорьева, определение романтизма: «Этот озноб и жар с напряженным биением пульса, который равно болезнен, окажется ли он сладкою, но все таки тревожною, мечтательностью Жуковского, тоскою ли по прошедшем Шатобриана, мрачным ли и сосредоточенным отрицанием Байрона, судорожными ли созданиями Виктора Гюго и литературы 30-х годов, борьбою ли с ним ясной и светлой Пушкинской натуры, подчинением ли ему до морального уничтожения натур Марлинского и Полежаева, Мочаловскими ли созданиями, воплями ли Огаревских монологов или Фетовскими странными, но для души ясными, намеками на какие-то звуки, которые зовут к моему изголовью».
Прибавьте к этому почти столь же мечтательную и трансцендентальную философию, и пред вами весь, так сказать, «пленум» духовной жизни, в которой театр был не только равноценным членом, но почти единственной формой многоголового вселенского чувства.
В лице Щепкина это слияние Московского Малого театра с духовной и интеллектуальной жизнью тогдашнего общества нашло и свое, так сказать, физическое выражение. Щепкин был не только совершенным для своего времени представителем сценического искусства, но и воплощением внутренней связи тогдашней русской интеллигенции и Малого театра. Дом Щепкина собирал весь цвет московской интеллигенции и с ним мог разве поспорить знаменитый «Литературный салон» Каролины Павловой. Щепкин был окружен представителями обеих партий — и западников, и славянофилов. С одной стороны — Станкевич, Белинский, Грановский, Герцен, Огарев, Тургенев, Боткины, гр. Соллогуб и пр., с другой — семья Аксаковых, Хомяков, Киреевские, Погодин, Шевырев и пр. и пр. Были тут и представители отвлеченной науки, как профессор астрономии Перевощиков, от которого Щепкин выслушивал астрономические сведения с таким же интересом, с каким прислушивался к философским спорам в кружке Станкевича и потом Грановского и к эстетическим спорам Белинского с тонким знатоком искусства, В. П. Боткиным.
Летние месяцы 1845 и 1846 годов весь круг московских западников собирался в подмосковной дачной местности Соколове, где жили Грановский и Герцен (Г. Ветринский «В сороковых годах», стр. 371—372). Здесь же жил и Щепкин со своей громадной семьей. В Соколове образовалось нечто в роде конгресса всего лучшего, что было в тогдашней интеллигенции; блестящие представители науки, литературы и искусства съезжались к постоянным обитателям Соколова. Шел деятельный обмен мыслей по всем вопросам нравственно-философским, литературным и эстетическим; полное отсутствие каких бы то ни было стеснений свободно выражаемому мнению, высокий уровень интересов, которые одинаково захватывали и мужское, и женское общество, — все это придавало своеобразный поэтический колорит «рыцарскому братству без писанного устава», которое, по выражению П. Анненкова, сложилось здесь».
Сам Щепкин приписывал свое умственное развитие, как человека и артиста, влиянию среды, в которой он жил в Москве. На первый план он выдвигал дом С. Аксакова. Особую благодарность он питал к Грановскому. «Беседы с Грановским поднимали меня нравственно; укреплял! во мне постоянно упорную и неутомимую любовь к труду и искусству». «Я не сидел на скамьях студентов, — говорил Щепкин, — но с гордостью скажу, что много обязан московскому университету в лице его преподавателей: одни научили меня мыслить, — другие глубоко понимать искусство».
По своим взглядам и влечениям, Щепкин был, конечно, гораздо ближе к западникам, чем к славянофилам. Он верил в единые формы развития человеческого духа и в единую, если можно выразиться, формулу человеческого прогресса. К этому воззрению, которое одновременно было и его чувством, склоняли его, как беседы с представителями кружка Станкевича, на тему о метафизике и натурфилософии, рассматривавшей мир как проявление абсолютного, и стало быть, единого духа и разума, а еще больше, его происхождение, воспоминания о собственном рабстве, картины бесправия, убожества и невежества, памятные с юных лет. Демократический инстинкт был заложен в его натуре, а вместе с тем и трезвый, житейский взгляд на вещи, выработанный борьбой за существование. При всем его преклонении перед Гоголем, при всем чувстве восхищения, он — а с ним и Малый театр, как и вся русская передовая интеллигенция, — отвергнул мистическое направление последнего Гоголевского периода. Хорошо известно письмо Щепкина к Гоголю, который пытался уверить первого, что чиновники «Ревизора» суть наши «разбушевавшиеся страсти». «После моей смерти — писал Гоголю Щепкин — переделывайте их хоть в козлов, а сейчас я вам Держиморду не уступлю». Здесь пером Щепкина водил н
Дата публикации: 30.08.2011
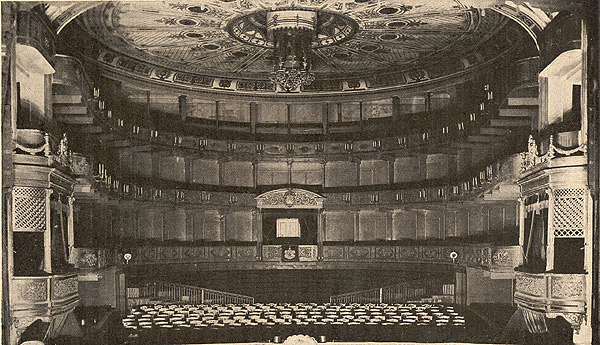
ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ТЕАТРА
Статья А.Р.Кугеля из книги «Московский Малый театр. 1824 – 1924», М., 1924 (стр. 37 – 73).
I
История Московского Малого Театра не есть только история художественного учреждения и не может быть только ею. Вообще, никакое жизненное явление нельзя мыслить оторванным от общего хода и процесса жизни, но Московский Малый Театр по многим причинам оказался особенно тесно связанным с историей наших литературных, общественных и политических движений. Эта роль — светочувствительной пластинки, если подобное мало удовлетворительное выражение способно объяснить нашу мысль — из русских театров выпала, главным образом, на долю Московского Малого Театра, потому, что это был Московский Театр; не провинциальный, — живший, в большей или меньшей степени, уродливыми отражениями столичных мод и веяний, и не петербургский, потому, что Петербург был городом казенным, официальным, царским и самодержавным. Москва, насколько это представлялось возможным, была в стороне, — подальше от неустанного надзора власти.
Ходячее выражение: «Петербург — голова России, Москва — ее сердце» — далеко не верно и не точно определяет соотношение этих городов. Эта туманная фраза годилась именно вследствие ее туманности, представлявшей большие цензурные удобства. В действительности, надо было бы сказать так. Петербург — это власть, Москва — это общество. Как бы ни была огромна правительственная власть, какие бы обширнейшие прерогативы она себе ни предоставляла, вникая во все подробности жизни, подчиняя их своей регламентации и осуществляя во всей полноте абсолютный идеал полицейского государства — за всем этим остается, совершенно неистребимый никаким абсолютизмом власти, «чистый остаток» общественности, ускользающий от полицейского абсолютизма. Как никакая система права, сколь подробна и разработана она бы ни была, вплоть до талмудической схоластики, не в силах вытеснить «чистый остаток» морали, руководствующей жизнью людей, так никакая власть не может вполне и окончательно поработить общественные связи Петербург был созданием царизма. Царская власть подавляла в нем все и задавала тон всему. Москва была в удалении. Неслужащий дворянин, самостоятельно ведущий торговлю купец, заводчик, литератор, не соприкасавшийся, прямо или косвенно, с III отделением, — все это имелось в Москве. Здесь жили богатые баре, не занимавшие больших должностей; члены «английского клуба», слегка фрондировавшие, благонамеренно фрондировавшие и всетаки фрондировавшие. Вспомните, хотя бы, например, необычайное по художественности описание в «Войне и Мире» обеда, данного москвичами кн. Багратиону в честь Шенграбенского сражения.
«Удаленная от политического движения, питаясь старыми новостями, не имея ключа к действиям правительства, ни инстинкта отгадывать их, Москва резонерствует, многим недовольна, обо многом отзывается вольно», пишет Герцен (IV ст. 56).
Эта роль сохранилась за Москвой до самой революции. Москва всегда была очагом русской фронды, как бы разнообразны, а порою и невинны, ни были ее формы. И самые страстные западнические кружки, и самые неукротимые славянофильские, и даже самые крайние реакционно-охранительные, избытком своего усердия мешавшие деловитой работе царского правительства, укреплявшего трон, — значились в Москве. Совершенно естественно также, что именно в Москве, где не было царей-солнц и их свиты, где положение человека в обществе не имело столь ясного и определенного показателя, как в Петербурге, — близости к трону — искусство и литература давали больше цены, авторитета и признания человеку, чем в Петербурге. Если бы Пушкин был москвич, камер-юнкерство не имело бы для него такого значения, как в Петербурге. За отсутствием чиновной иерархии, Москва утверждала охотнее и свободнее иерархию ума и таланта. Это проходит красной нитью через весь XIX и XX века до самой революции. Литературно-художественное собрание или общество, университет, журнал, театр в Москве были не только культурными, но и общественными центрами, чего нельзя сказать о Петербурге, где все такие и подобные учреждения имели, главным образом, профессиональную, специфическую, цеховую окраску. Московский интеллигент, в глазах всей Москвы, приобретал социальную ценность. Да и что такое была «вся Москва», как не отборная интеллигенция города, да еще ей сочувствующие представители родовой аристократии и капитала, охотно и добровольно признававшие ее авторитет и исключительное право на общественное внимание? Тогда как «весь Петербург» был собранием высшей чиновной и придворной знати, плюс те немногочисленные представители иных званий и состояний, на которых, в той или иной мере, падали лучи царского солнца.
Сейчас трудно, едва ли возможно, дать объективную оценку петербургского периода русской истории. Но если даже признать, что этот период, на ряду с крайним развитием империализма, может быть охарактеризован, как период внешнего накопления культурных ценностей, то и в этом смысле роль Москвы была отлична от роли Петербурга. Социальным распределением этих ценностей оставалась Москва. Петербург лихорадочно выкидывал продукты культурного производства, но классифицировала их и определяла их удельный вес — Москва. Московский резонанс, быть может, потому, что ему не мешали медные трубы, голосившие «осанну» вокруг престола, был гораздо благоприятнее для культурной жизни, нежели петербургский. Петербургский парад с церемонией или развод с музыкой затмевал любой культурный праздник, а высочайший выход был событием, пред которым бледнели самые замечательные выходы и явления культурной жизни. И чем реакционнее была действительность, чем темнее была петербургская ночь,- тем ярче на фоне московской жизни загорались такие явления. Можно ли себе представить, например, чтобы в Петербурге приобрели такое значение, как в Москве, публичные лекции, читанные Грановским? Конечно, лекции Грановского были талантливы и интересны, но в Петербурге они затерялись бы, как в нем и терялось множество интересных и талантливых выступлений. Но в Москве не что иное, как цикл исторических — и притом очень по содержанию отдаленных, — лекций популярного и любимого профессора, стал историческим событием, своего рода межой в истории общественного сознания. Быть может, Петербург количественно был образованнее Москвы и обнаруживал более тонкий и изощренный вкус, на ряду, конечно, с большим скептицизмом и духом иронии, но Москва, в простоте и нераздельности своего чувства, больше ценила образование, свет, культуру, мысль, искусство, рвалась к ним и полнее всему этому отдавалась. Отсюда ясно, что Александринский, например, театр в Петербурге не имел и не мог иметь такого значения, как Малый, Московский. Главными рецензентами Александринского театра, в сущности, были высочайшие особы. Это был придворный театр, в полном смысле слова, а не по названию только. Два наиболее стойкие и определенные выразителя реакции среди русских венценосцев XIX века — Николай I и Александр III — были не только частыми посетителями, но в значительной мере и заведующими этим театром. Иногда, конечно, это представляло известные выгоды — иметь царя управляющим театра. Это доказывает история («Ревизора» и «Власти Тьмы», которым, в обычном цензурном порядке, пришлось бы, вероятно, дожидаться еще не мало времени появления на сцене. Но зато каким гнетом на всем театральном деле лежала постоянная забота о том, чтобы театр был угоден царскому величеству! И в смысле репертуара, и в смысле общего курса Александринский театр должен был, в большей или меньшей мере, приспособляться к вкусам «державного хозяина» и его приближенных Главное, чтобы царь не скучал, que le roi e'aniusel Летом, когда начинались маневры в Красном Селе, труппа Александринского театра превращалась уже окончательно в придворную, и часть репертуара так и составлялась, — в расчете на Красносельские спектакли — для холостой гвардейской молодежи.
Совсем в другом положении был Московский Малый Театр. Он работал на публику, на зрителя. Он отражал гораздо полнее вкусы, стремления и идеалы того общественного класса или тех общественных классов, которым он служил. Он был в стороне от «большого света», где вращались царские светила, от международного давления знатных иностранцев, которыми кишел Петербург; наконец от прямого и непосредственного влияния французского театра, для которого Петербург был второй родиной. Малый театр довлел себе, и, довлея себе, мог стать и действительно становился национально-художественным учреждением. Это вытекало прежде всего из разницы в экономическом положении Александринского и Малого театров. В основанном на строгой разработке архивных данных исследований В. П. Погожева — «Столетие организации императорских Московских театров», находим весьма любопытные цифровые данный. Московский театр, по выражению Погожева, медленно совершает свое перевоплощение... «из родного детища московской интеллигенции, вымуштрованного и выхоленного бескорыстными любителями сценического искусства, в пасынка петербургской академии театрального дела».
Постановлением от 4 ноября 1822 г. и формально московский театр был отделен от петербургского управления и подчинен главному начальнику московского генерал-губернатора, причем мотивом отделения было выставлено «отвращение неудобств, встречавшихся в действиях московского театра, который и средствами, и местными обстоятельствами разнится от С.-Петербургского театра».
Средствами московский театр разнился особенно. В то время как долг в 18.000 р. по отчету московской дирекции 1830 г. (в связи с холерой) послужил причиной замены долго и успешно управлявшего Московскими театрами Кокошкина Загоскиным — вот что было израсходовано за короткий промежуток времени по дефицитам петербургских театров. В 1829 г. было препровождено 526.000 р. на уплату накопившихся до того времени долгов. И затем в промежуток времени до 1837 г. было сделано экстренных и сверхштатных расходов и субсидий — 1.698.013 р. Разница в отпуске средств на петербургские и московские театры настолько велика, в особенности, по сравнению с достигнутыми результатами, что основная историческая черта московского театра становится сразу ясной и несомнительной. В отличие от петербургского, это был действительно театр, созданный обществом, а не начальством. Нужны были любовь, самоотверженность, бескорыстие, а всего более, неукротимая внутренняя потребность для того, чтобы при таких условиях не только состязаться, но, можно смело сказать, затмить петербургского соперника. И совершенно понятна также вторая характерная черта Московских театров, отмеченная Погожевым, — то, что несмотря на разнообразие его деятельности, «впечатление и память публики в Московском театре сосредоточивается исключительно на «русской драме», и история Московского театра есть, в сущности, история Малого театра». Было бы ошибочно утверждать, что дело — в счастливом подборе случайностей, в необыкновенном хозяйственном управлении Майкова, который, однако, будучи переведен в Петербург, никакими чрезвычайными хозяйственными подвигами себя не заявил: в том, что в Москве создалась блестящая плеяда актеров, как Мочалов, Синецкая, Щепкин и т. п. Все это далеко не случайно, как не случайно, что через полвека в Московском Малом театре блистала новая группа актеров и в репертуаре таком же повышенно-героическом, как Ермолова, Южин, Ленский, Горев. Очевидно, были какие-то общие причины или, быть может, вернее, общая причина. И она в том, что насколько это было возможно в самодержавно - полицейском государстве, Москва являлась естественным средоточием живых, общественных сил, которым прислуживаться было тошно, и которые работая в культурной области, чувствовали себя гораздо лучше, легче и свободнее в Москве. И Шаховской, который вывел «своих комедий колкий рой», был иной в Москве, чем в Петербурге.
И Кокошкин недаром жил в Москве, и Аксаков. И недаром там были заложены первые основы двух важнейших течений русского политического разномыслия — западничества и славянофильства. И совсем не случайно, что самые серьезные и чувствующие ответственность пред искусством (мы воздержимся от эпитета «талантливые») актеры тянулись в Москву. И вовсе не слепая игра судьбы, что их-то и искали, за ними ухаживали и всячески их воспитывали в Москве, а не в Петербурге, — для ответственного, важного и героического репертуара. И Шаховскому, этому лучшему «сценическому мастеру» своей эпохи, было сподручнее в Москве и словом и делом преподавать уроки театра. И совершенно нельзя себе представить петербургского директора театра, который, подобно Кокошкину, открывал бы двери своего дома всем жаждущим сценического поприща, экзаменовал бы их, выслушивал и направлял, а воспитанников театральной школы звал бы на свои балы. Московский театральный чиновник был действующий, так сказать, театрал, который потому и приписывался к дирекции театров, что имел что сказать и хотел это сказать. Аксаков, Писарев, Загоскин, Кокошкин — все это была одна семья застрельщиков театра, передовые люди своего времени отдававшие свои силы и способности на служение живому делу и притом насквозь — durch und durch — публичного характера. Но в Петербурге театральная часть избиралась, большей частью, как служебная карьера, шли по дипломатической части, по военной, по сенату по архивам, а то и по дирекции казенных театров. Что выгорит, а вернее, где имелась наибольшая протекция. Эта особенность сохранилась и после Александра III, которого царствование В. П. Погожев считает, в деле управления Московскими театрами, демаркационной чертой. Именно в это время стал притчей во языцех «театральный подпоручик», густо облепивший театральную дирекцию. В Москве, возможно, было и своих грехов достаточно, но все же она сумела охранить себя от театрально-подпоручичьей орды.
Чем был театр — Театр с большой буквы, а еще проще и ближе сказать, Московский Малый Театр для русского общества — об этом красноречиво свидетельствуют вдохновенные страницы Белинского, очаровательные воспоминания Аксакова, бурные строки Гоголя, Герцена и множества других, быть может, не столь замечательных, но вполне искренних сочинений. «Отличительная черта нашей эпохи — пишет Герцен («По поводу одной драмы» том IV) есть griibeln...» Это немецкое слово, означающее господство рефлексии и гамлетовских вопросов, действительно, как нельзя более подходило к эпохе «лишних людей». Целый век русской истории, от Радищева до начала XX столетия, был веком лишних людей, И далее, Герцен поясняет значение театра, как он его понимает: «Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Кто-то сказал, что сцена — представительная камера (sic!) поэзии. Все тяготящее, занимающее известную эпоху, само собой вносится на сцену и обслуживается страшной логикой событий и действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей. Это обслуживание приводит к заключениям не отвлеченным, но трепещущим жизнью, неотразимым и многосторонним. Тут не лекция, не поучение, поднимающее слушателей в сферу отвлеченных всеобщностей, в бесстрастную алгебру, мало относящуюся к каждому, потому именно, что она относится ко всем. На сцене жизнь схвачена во всей ее полноте, схвачена в действительном осуществлении лицами, на самом деле, en flagrant delit. Жизнь схвачена, и между тем не остановлена; напротив, стремительное движение продолжается, увлекает зрителя с собой, и он с прерывающимся дыханием, боясь и надеясь, несется вместе с развертывающимся событием до крайних следствий его, — и вдруг остается один. Лица исчезли, погибли: он переживает их жизнь, успел полюбить их, взойти в их интересы. Удар, разразившийся над ними рикошетом, был удар в него. Такая страстная близость зрителя и сцены делает сильную органическую связь между ними; по сцене можно судить о партере, но партеру — о сцене. Партер не чужой сцене; он в роде хора греческой трагедии; он не вне драмы, а обнимает ее волнами жизни, атмосферой сочувствия, которая оживляет актера; и сцена, со своей стороны, не чужая зрителю : она переносит его не дальше, как в его собственное сердце (т. IV стр. 32).
В этих словах Герцена прорывается вся неукротимость его политических чаяний и стремлений. Как характерно сравнение сцены с «представительной камерой», т.-е. с парламентом — венцом конституционных стремлений! И далее, апология партера, сравнение его с хором древне - греческой трагедии — очень верное, но по тому времени, особенно, принимая во внимание теорию Шлегеля, смелое и не совсем обыкновенное — как это опять таки выдает внутреннюю думу будущего политического трибуна! Тот же социальный элемент театра выступает весьма определенно и в словах Белинского:
«Вы здесь живёте не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность; здесь ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире любви». Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую, заплесневелую, от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями. В душе человеческой есть то особенное свойство, что она как будто падает под бременем сладостных ощущений изящного, если не разделяет их с другой душой. А где же этот раздел является так торжественным, так умилительным, как не в театре, где тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, где тысячи «я» сливаются в одно общее целое «я», в гармоническом сознании беспредельного блаженства?»
Эти мысли в той или иной форме встречаются у многих, у большинства, но мы намеренно заимствовали апологию действенного и общественного значения театра у заведомых бунтарей и энтузиастов общественной мысли, каковы были Герцен и Белинский. Заметим кстати, что в литературе встречается и взгляд противоположный, которого выразителем некогда был Руссо.
Среди попыток воскресить этот взгляд и подкрепив его историческим обзором фактов (крайне искусственно подобранных и освещенных), необходимо отметить книгу Игнатова «Театр и Зрители». Указывают на то, что театр развивает пассивность. Ценою театральных эмоций покупается де спокойное и невозмутимое пользование плодами настоящего, и фикция театрального героизма лишает зрителя действительного, реального героизма. Будто бы театр разряжает энергию действия, — и когда «над вымыслом слезами обольюсь», то неизбежно эпиктетовское примиренчество, в ожидании того, как «на мой закат печальный блеснет заря улыбкою прощальной». Но у Герцена, как видим, чувствование театра и театральных «ударов рикошетом» по зрителю не помешало скоплению революционных и действенных сил. Можем ли мы на его примере отрицать значение, влияние и заразительное действие театрального патетизма и театральных эмоций?
Мысль об антидейственном характере театрального впечатления глубоко ошибочна. По существу, в ней истинно только то, что скопляющаяся в человеке действенная энергия, не находящая себе выхода, обращается к играм, представлениям, фикциям, потрясениям и встряскам всякого рода, ища во всем этом выхода и облегчения. Подобно тому, как Шопенгауэр в своей «Метафизике любви» рассматривает искание особи другого пола, как стремление найти дополнительную дробь своего существа, — так точно в интересующем нас вопросе потребность в потрясениях театра и искусства находится в прямом соответствии, в строго пропорциональном соотношении с недостатком действенной и активной жизни. Дополнительная дробь тем выше, чем ниже дробь основная. Вот почему безмерно возрастает значение искусства и театра в эпохи политического и общественного застоя. Величайший софизм, чтобы не сказать «величайшее легкомыслие», в том, что последствия принимаются за причины. Наибольшее увлечение театром Белинский обнаруживал в Москве. В Петербурге он писал о своих былых увлечениях:
«Театр, театр, каким магическим словом был ты для меня во время оно! Каким неотразимым очарованием потрясал ты тогда все струны души моей, и какие дивные аккорды срывал ты с них!» Далее будто бы последовало «разочарование». Точнее сказать не «разочарование», а перенесение центра внимания. Именно с наиболее гегельянским периодом в умственной жизни Белинского совпадает его наибольшее увлечение театром. Созерцательное спокойствие гегелианской метафизики требовало своей дополнительной дроби — «дивных аккордов», срываемых со «струн души» театральным представлением.
Жизнь — вся, целиком, в ее органической общности — представляет собой как бы замкнутый круг внутреннего равновесия, и объективность исторического взгляда в том и состоит, чтобы уразуметь в ходе событий относительную важность и ценность отдельных элементов исторического процесса,
Значение «сегодня» для «завтра», а вчерашнего дня для сегодняшнего. Феодальный произвол породил «тайные судилища». Разумеется, это был суррогат права, но этот суррогат питал идеи права и человеческого достоинства в темную ночь феодализма. Масонство было организацией полу - наивной, полу - театральной, сентиментальной и отчасти, быть может, ханжеской. Но масонство вскормило могучие идеи революции, освободившей мир от пережитков и остатков средневековья. Можно — и с гораздо большей степенью правдоподобия — сказать, что масонство было отпискою души, отягченной недобросовестной действенностью. Но сказав это, что меняем мы в оценке исторического значения масонства как аккумулятора «добродетели», гуманных чувств и идей, приведших впоследствии к политическому, религиозному и частью экономическому освобождению человечества от уз, мешавших ему жить, чувствовать и познавать себя и свое достоинство?
Именно теперь, когда огромный период истории остался позади, можно с полным беспристрастием оценить громадную роль театра — а под театром мы должны разуметь больше всего и преимущественно Московский Малый — в общественной жизни России; его значение, как консолидирующего и концентрирующего культурные ценности учреждения; его призывы к прогрессу, знанию, истине, справедливости, — прямые призывы, обращенные к сердцу зрителя; и, наконец, его место, как некоторого убежища и приюта общественности в царстве полицейщины и официальности.
Доброю ли волей, сознательностью ли стремлений или силою внутренней необходимости, так случилось — вопрос второстепенный. В исторической перспективе эти оттенки, очень важные при индивидуальной оценке людей и их характеров, исчезают. Остается явление века, — вернее, быть может, целая сеть, целое скопление явлений, связанных с учреждением Московского Малого Театра, и из пены этих событий и явлений, старый, такой обветшавший и как бы подслеповатый, Малый Театр встает во всем величии своего прошлого. Любим ли мы прошлое? Достаточно ли ценим его? Порою кажется, что нет. А между тем героизм настоящего, который приносит свои жертвы для будущего и только — для него, и в этом его истинное благородство — когда-нибудь также станет прошлым. И как понять бескорыстие сегодняшней жертвы, чем питать эти чувства жертвенности, если не примером прошлого? И те были, как мы — жили для будущего, для далекого счастья человечества. И потомки наши будут, как мы, и порвать цепь героического прошлого не значит ли, вообще, отнять целесообразность преемственной жертвы, тем самым угасив дух героического подвига? Хотелось бы, чтобы, проходя мимо Малого Театра, народы России произносили «с благодарностью — были». На площади Французской Комедии до сих пор имеется «Cafe de la Regence», знаменитое тем, что здесь собирались люди искусства, театра, литературы и философии, обмениваясь живыми впечатлениями театра. И до сих вор турист благоговейно озирается на это кафе, в котором старого осталось, быть может, одно название. А сколько здесь, в стенах Малого Театра, прошло таких, о которых мы должны сказать словами Некрасова, обращенными к Белинскому:
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель, перед именем твоим,
Позволь смиренно преклонить колени!..
II
Жить душно, тяжело. «Мышиной жизни бег» подавляет все мыслящие элементы общества. В вершинах реет власть, на которую нельзя смотреть: как солнце, она ослепляет. Ни похвалы, ни порицания — одно умиление. Литература, вообще, всякая, под сомнением. Как говорит Никитенко в своем дневнике — «здесь все под одну шапку; вы все люди вредны, потому что мыслите и печатаете ваши мысли», «нет ни обществолюбия, ни человеколюбия». Незыблемо стоит крепостное право, проникая во все стороны общественной, государственной и частной жизни. Жестокость нравов, питавшаяся и поддерживаемая телесными наказаниями. Бесправие — как государственный догмат, как отнятие всяких прав, целиком перенесенных на самодержца. Преследование науки, особенно гуманитарной и философской. Закрытие ряда кафедр в университетах. Ограничение комплекта слушателей. Бедность, скудость, застой и невежество, а под всем этим горделивая «апотеоза», как выразился Чаадаев, русской самобытности.
«Гниение Запада» — также один из догматов политического вероучения. «В наших сношениях с Западом — писал Шевырев — мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой заразительный недуг, окруженный атмосферой опасного дыхания». «Настоящее России более, чем великолепно, — подтверждает шеф жандармов Бенкендорф, — а будущее выше всего, что может себе представить самое пылкое воображение». Сила застоя, окаменелость казарменного быта так велики, что жизнь течет как бы автоматически. Удивляться ли тому, что Белинский усердный посетитель Малого Театра, восклицает: «можно ли не любить театр больше всего на свете?» И направляется туда, чтобы жить «не своей только жизнью, а жить хотя бы призраком, тенью социального существа».
Потребность разделить страсти, мысли и чувства с другою душою — соборность жизни — быть может, являлась одним из главнейших оснований любви к театру. Единственная форма, если не действия, то чувствования «скопом» была в театре. Удесятеренными являлись чувства в театре, среди зрительной залы. Театр как бы являлся непрестанным митингом благородных чувств и побуждений. Конечно, можно указать на то, что репертуар был далеко не всегда на должной высоте, что на ряду с истинно художественными и значительными произведениями, давались произведения ничтожные, ремесленные, так называемые choses au theatre. Но сила театрального действия измеряется не одними откровениями. Быть может, в своем обычном репертуаре театр, привлекающий публику, не лишен известной вульгарности, но эта вульгарность является часто причиною общего действия театра, доступности и так сказать, социальности его эффекта. Каждый находил спектакль и пьесу по своему вкусу. Герцен в одном месте указывает на пестрый и разнообразный состав партера. Даже «бородки», как называлось тогда купечество и мещанство, были разные — от «бородки an sich», растущей стихийно, как явление природы, до бородки «fiir sich», подстриженной по вкусу и разумению. Но все, как бы ни были малы и нетребовательны их вкусы, находили в театре самое для себя важное — общность чувства, соборность, ощущение социальной близости и солидарности. Преобладала, разумеется, мелодрама. Еще в полном ходу и почете была — «коцебятина», над которой кто же не издевался и не трунил? Формула «добродетель торжествует, порок наказан» давно уже припечатана стигматом пошлости. Но нёт ничего более несправедливого, чем это осуждение, и нет ничего более театрального, как именно это торжество добродетели и наказание порока. Среди «мерзости неправосудия» и «черным-черной неправды», по выражению Аксакова, тогдашнего бесправия — людям необходимо было, как воздух, иллюзорное торжество добродетели. Тоскующая печаль, угнетенное сознание человека искали нравственного утешения, ободряющего слова. И чем ночь темней, тем ярче звезды. Расплывавшаяся, можно сказать, потоком липкой патоки, добродетель мелодраматической коцебятины была органически необходима среди жестоких нравов, бедности и нищеты, бесправия и задавленности человеческой личности. Когда мы читаем, например, у Зотова, что он несколько раз всхлипывал на представлении «Параши Сибирячки», мы не должны этому удивляться. Тут были — влияние массового заражения, с одной стороны, и наивное, детское, как бессвязная ребяческая молитва — облегчение нравственного чувства, — с другой. Даже апофеоз царя являлся здесь неполитическим лозунгом и убеждением, а чем-то вроде сказочного предания о добрых Берендеях. Какая-то отдаленная мерцающая звезда, которой значение не в том, какую форму, какой мундир она в данную минуту имеет, а в том, что туда в отдаленнейшую из отдаленнейших сфер перенесена вся сила упования, надежды и веры. Разве это не то же «мы отдохнем, мы отдохнем» из «дяди Вани». Все небо будет в алмазах, и каждый утешает себя мыслью, что получит свою порцию алмазного небосвода.
Со сцены шли убаюкивающие сказки о конечном торжестве добродетели и помогали жить, веря в добро, искусственно питая эту веру. Одним из распространеннейших сценических персонажей того времени был — Неизвестный — таинственная, романтическая, внебытовая, так сказать, фигура, символизировавшая иррациональный идеал.
Над жизнью, которую мы знаем во всей ее отвратительной наготе, во всей ее беспощадности и жестокости, со всеми ее кознями, неправосудием, угнетением слабых, торжеством злобствующих, своекорыстных и коварных, — над реальным и ощутимым — есть нечто трансцендентное, неизвестное. Это — «Неизвестный», потому что все известное и следовательно все известные — или к добру и злу постыдно равнодушны или бессильны сотворить добро. Спасение откуда-то, из потустороннего мира — но оно есть. Оно называется — Неизвестный. И подождите, вот отношения запутаются и станут невозможными, вот злодейка западня готова захлопнуть свои дверцы над несчастною жертвою, вот неразрешимый, нерасторжимый узел драматического сцепления, — и тогда придет Неизвестный, все распутает, всем воздаст, каждому по делам его и, совершив все, облагодетельствовав одних, покарав других, на минуту раскроет лик свой, распахнет плащ и потом исчезнет навсегда, как добрый гений, как вездесущее, все наполняющее начало добра и справедливости. «Ненависть к людям и раскаянье» — известная пьеса Коцебу не сходила с репертуара многие десятки лет. Барон Мейнау есть Неизвестный, и Неизвестный есть барон Мейнау. Ненавидя, он любит. Самая ненависть его проистекает из, ожесточенного ущемлением добродетели, сердца. Но, конечно, любовь торжествует. Добродетель примиряет раскаявшегося с жизнью. Сколько раз читал Мочалов монологи Мейнау! Вот он стоит со скрещенными руками, как он изображен на картине Неврева, и читает монолог в знакомом купеческом доме. Его сердце «подобно засыпанной могиле». Но когда является раскаяние, то раскрываются покровы могил, и из недр вырастают цветы добра и утешения. Все, что было человеческого «слишком человеческого» в тусклой, обыденной забитой жизни русского общества рвалось к сверхчеловеческому романтизму и фантастике; все, что изъедено было скукой бытия и автоматической непреложностью обывательского существования, рвалось к чуду; и все, что таилось в груди и произносилось шопотом, отражалось в громогласных стихах, произносимых Мочаловым:
Есть громы... но в сей час на небе тишина!
Есть боги... и земля злодеям предана!
И стонут слабые у сильных под рукою!
Об этих минутах пишет восторженный Аполлон Григорьев, вспоминая Мочалова, что театральная зала выла «как голодный зверь» и «незнакомый мне сосед в восторге жал мне крепко руку». И далее его же, Григорьева, определение романтизма: «Этот озноб и жар с напряженным биением пульса, который равно болезнен, окажется ли он сладкою, но все таки тревожною, мечтательностью Жуковского, тоскою ли по прошедшем Шатобриана, мрачным ли и сосредоточенным отрицанием Байрона, судорожными ли созданиями Виктора Гюго и литературы 30-х годов, борьбою ли с ним ясной и светлой Пушкинской натуры, подчинением ли ему до морального уничтожения натур Марлинского и Полежаева, Мочаловскими ли созданиями, воплями ли Огаревских монологов или Фетовскими странными, но для души ясными, намеками на какие-то звуки, которые зовут к моему изголовью».
Прибавьте к этому почти столь же мечтательную и трансцендентальную философию, и пред вами весь, так сказать, «пленум» духовной жизни, в которой театр был не только равноценным членом, но почти единственной формой многоголового вселенского чувства.
В лице Щепкина это слияние Московского Малого театра с духовной и интеллектуальной жизнью тогдашнего общества нашло и свое, так сказать, физическое выражение. Щепкин был не только совершенным для своего времени представителем сценического искусства, но и воплощением внутренней связи тогдашней русской интеллигенции и Малого театра. Дом Щепкина собирал весь цвет московской интеллигенции и с ним мог разве поспорить знаменитый «Литературный салон» Каролины Павловой. Щепкин был окружен представителями обеих партий — и западников, и славянофилов. С одной стороны — Станкевич, Белинский, Грановский, Герцен, Огарев, Тургенев, Боткины, гр. Соллогуб и пр., с другой — семья Аксаковых, Хомяков, Киреевские, Погодин, Шевырев и пр. и пр. Были тут и представители отвлеченной науки, как профессор астрономии Перевощиков, от которого Щепкин выслушивал астрономические сведения с таким же интересом, с каким прислушивался к философским спорам в кружке Станкевича и потом Грановского и к эстетическим спорам Белинского с тонким знатоком искусства, В. П. Боткиным.
Летние месяцы 1845 и 1846 годов весь круг московских западников собирался в подмосковной дачной местности Соколове, где жили Грановский и Герцен (Г. Ветринский «В сороковых годах», стр. 371—372). Здесь же жил и Щепкин со своей громадной семьей. В Соколове образовалось нечто в роде конгресса всего лучшего, что было в тогдашней интеллигенции; блестящие представители науки, литературы и искусства съезжались к постоянным обитателям Соколова. Шел деятельный обмен мыслей по всем вопросам нравственно-философским, литературным и эстетическим; полное отсутствие каких бы то ни было стеснений свободно выражаемому мнению, высокий уровень интересов, которые одинаково захватывали и мужское, и женское общество, — все это придавало своеобразный поэтический колорит «рыцарскому братству без писанного устава», которое, по выражению П. Анненкова, сложилось здесь».
Сам Щепкин приписывал свое умственное развитие, как человека и артиста, влиянию среды, в которой он жил в Москве. На первый план он выдвигал дом С. Аксакова. Особую благодарность он питал к Грановскому. «Беседы с Грановским поднимали меня нравственно; укреплял! во мне постоянно упорную и неутомимую любовь к труду и искусству». «Я не сидел на скамьях студентов, — говорил Щепкин, — но с гордостью скажу, что много обязан московскому университету в лице его преподавателей: одни научили меня мыслить, — другие глубоко понимать искусство».
По своим взглядам и влечениям, Щепкин был, конечно, гораздо ближе к западникам, чем к славянофилам. Он верил в единые формы развития человеческого духа и в единую, если можно выразиться, формулу человеческого прогресса. К этому воззрению, которое одновременно было и его чувством, склоняли его, как беседы с представителями кружка Станкевича, на тему о метафизике и натурфилософии, рассматривавшей мир как проявление абсолютного, и стало быть, единого духа и разума, а еще больше, его происхождение, воспоминания о собственном рабстве, картины бесправия, убожества и невежества, памятные с юных лет. Демократический инстинкт был заложен в его натуре, а вместе с тем и трезвый, житейский взгляд на вещи, выработанный борьбой за существование. При всем его преклонении перед Гоголем, при всем чувстве восхищения, он — а с ним и Малый театр, как и вся русская передовая интеллигенция, — отвергнул мистическое направление последнего Гоголевского периода. Хорошо известно письмо Щепкина к Гоголю, который пытался уверить первого, что чиновники «Ревизора» суть наши «разбушевавшиеся страсти». «После моей смерти — писал Гоголю Щепкин — переделывайте их хоть в козлов, а сейчас я вам Держиморду не уступлю». Здесь пером Щепкина водил н
Статья А.Р.Кугеля из книги «Московский Малый театр. 1824 – 1924», М., 1924 (стр. 37 – 73).
I
История Московского Малого Театра не есть только история художественного учреждения и не может быть только ею. Вообще, никакое жизненное явление нельзя мыслить оторванным от общего хода и процесса жизни, но Московский Малый Театр по многим причинам оказался особенно тесно связанным с историей наших литературных, общественных и политических движений. Эта роль — светочувствительной пластинки, если подобное мало удовлетворительное выражение способно объяснить нашу мысль — из русских театров выпала, главным образом, на долю Московского Малого Театра, потому, что это был Московский Театр; не провинциальный, — живший, в большей или меньшей степени, уродливыми отражениями столичных мод и веяний, и не петербургский, потому, что Петербург был городом казенным, официальным, царским и самодержавным. Москва, насколько это представлялось возможным, была в стороне, — подальше от неустанного надзора власти.
Ходячее выражение: «Петербург — голова России, Москва — ее сердце» — далеко не верно и не точно определяет соотношение этих городов. Эта туманная фраза годилась именно вследствие ее туманности, представлявшей большие цензурные удобства. В действительности, надо было бы сказать так. Петербург — это власть, Москва — это общество. Как бы ни была огромна правительственная власть, какие бы обширнейшие прерогативы она себе ни предоставляла, вникая во все подробности жизни, подчиняя их своей регламентации и осуществляя во всей полноте абсолютный идеал полицейского государства — за всем этим остается, совершенно неистребимый никаким абсолютизмом власти, «чистый остаток» общественности, ускользающий от полицейского абсолютизма. Как никакая система права, сколь подробна и разработана она бы ни была, вплоть до талмудической схоластики, не в силах вытеснить «чистый остаток» морали, руководствующей жизнью людей, так никакая власть не может вполне и окончательно поработить общественные связи Петербург был созданием царизма. Царская власть подавляла в нем все и задавала тон всему. Москва была в удалении. Неслужащий дворянин, самостоятельно ведущий торговлю купец, заводчик, литератор, не соприкасавшийся, прямо или косвенно, с III отделением, — все это имелось в Москве. Здесь жили богатые баре, не занимавшие больших должностей; члены «английского клуба», слегка фрондировавшие, благонамеренно фрондировавшие и всетаки фрондировавшие. Вспомните, хотя бы, например, необычайное по художественности описание в «Войне и Мире» обеда, данного москвичами кн. Багратиону в честь Шенграбенского сражения.
«Удаленная от политического движения, питаясь старыми новостями, не имея ключа к действиям правительства, ни инстинкта отгадывать их, Москва резонерствует, многим недовольна, обо многом отзывается вольно», пишет Герцен (IV ст. 56).
Эта роль сохранилась за Москвой до самой революции. Москва всегда была очагом русской фронды, как бы разнообразны, а порою и невинны, ни были ее формы. И самые страстные западнические кружки, и самые неукротимые славянофильские, и даже самые крайние реакционно-охранительные, избытком своего усердия мешавшие деловитой работе царского правительства, укреплявшего трон, — значились в Москве. Совершенно естественно также, что именно в Москве, где не было царей-солнц и их свиты, где положение человека в обществе не имело столь ясного и определенного показателя, как в Петербурге, — близости к трону — искусство и литература давали больше цены, авторитета и признания человеку, чем в Петербурге. Если бы Пушкин был москвич, камер-юнкерство не имело бы для него такого значения, как в Петербурге. За отсутствием чиновной иерархии, Москва утверждала охотнее и свободнее иерархию ума и таланта. Это проходит красной нитью через весь XIX и XX века до самой революции. Литературно-художественное собрание или общество, университет, журнал, театр в Москве были не только культурными, но и общественными центрами, чего нельзя сказать о Петербурге, где все такие и подобные учреждения имели, главным образом, профессиональную, специфическую, цеховую окраску. Московский интеллигент, в глазах всей Москвы, приобретал социальную ценность. Да и что такое была «вся Москва», как не отборная интеллигенция города, да еще ей сочувствующие представители родовой аристократии и капитала, охотно и добровольно признававшие ее авторитет и исключительное право на общественное внимание? Тогда как «весь Петербург» был собранием высшей чиновной и придворной знати, плюс те немногочисленные представители иных званий и состояний, на которых, в той или иной мере, падали лучи царского солнца.
Сейчас трудно, едва ли возможно, дать объективную оценку петербургского периода русской истории. Но если даже признать, что этот период, на ряду с крайним развитием империализма, может быть охарактеризован, как период внешнего накопления культурных ценностей, то и в этом смысле роль Москвы была отлична от роли Петербурга. Социальным распределением этих ценностей оставалась Москва. Петербург лихорадочно выкидывал продукты культурного производства, но классифицировала их и определяла их удельный вес — Москва. Московский резонанс, быть может, потому, что ему не мешали медные трубы, голосившие «осанну» вокруг престола, был гораздо благоприятнее для культурной жизни, нежели петербургский. Петербургский парад с церемонией или развод с музыкой затмевал любой культурный праздник, а высочайший выход был событием, пред которым бледнели самые замечательные выходы и явления культурной жизни. И чем реакционнее была действительность, чем темнее была петербургская ночь,- тем ярче на фоне московской жизни загорались такие явления. Можно ли себе представить, например, чтобы в Петербурге приобрели такое значение, как в Москве, публичные лекции, читанные Грановским? Конечно, лекции Грановского были талантливы и интересны, но в Петербурге они затерялись бы, как в нем и терялось множество интересных и талантливых выступлений. Но в Москве не что иное, как цикл исторических — и притом очень по содержанию отдаленных, — лекций популярного и любимого профессора, стал историческим событием, своего рода межой в истории общественного сознания. Быть может, Петербург количественно был образованнее Москвы и обнаруживал более тонкий и изощренный вкус, на ряду, конечно, с большим скептицизмом и духом иронии, но Москва, в простоте и нераздельности своего чувства, больше ценила образование, свет, культуру, мысль, искусство, рвалась к ним и полнее всему этому отдавалась. Отсюда ясно, что Александринский, например, театр в Петербурге не имел и не мог иметь такого значения, как Малый, Московский. Главными рецензентами Александринского театра, в сущности, были высочайшие особы. Это был придворный театр, в полном смысле слова, а не по названию только. Два наиболее стойкие и определенные выразителя реакции среди русских венценосцев XIX века — Николай I и Александр III — были не только частыми посетителями, но в значительной мере и заведующими этим театром. Иногда, конечно, это представляло известные выгоды — иметь царя управляющим театра. Это доказывает история («Ревизора» и «Власти Тьмы», которым, в обычном цензурном порядке, пришлось бы, вероятно, дожидаться еще не мало времени появления на сцене. Но зато каким гнетом на всем театральном деле лежала постоянная забота о том, чтобы театр был угоден царскому величеству! И в смысле репертуара, и в смысле общего курса Александринский театр должен был, в большей или меньшей мере, приспособляться к вкусам «державного хозяина» и его приближенных Главное, чтобы царь не скучал, que le roi e'aniusel Летом, когда начинались маневры в Красном Селе, труппа Александринского театра превращалась уже окончательно в придворную, и часть репертуара так и составлялась, — в расчете на Красносельские спектакли — для холостой гвардейской молодежи.
Совсем в другом положении был Московский Малый Театр. Он работал на публику, на зрителя. Он отражал гораздо полнее вкусы, стремления и идеалы того общественного класса или тех общественных классов, которым он служил. Он был в стороне от «большого света», где вращались царские светила, от международного давления знатных иностранцев, которыми кишел Петербург; наконец от прямого и непосредственного влияния французского театра, для которого Петербург был второй родиной. Малый театр довлел себе, и, довлея себе, мог стать и действительно становился национально-художественным учреждением. Это вытекало прежде всего из разницы в экономическом положении Александринского и Малого театров. В основанном на строгой разработке архивных данных исследований В. П. Погожева — «Столетие организации императорских Московских театров», находим весьма любопытные цифровые данный. Московский театр, по выражению Погожева, медленно совершает свое перевоплощение... «из родного детища московской интеллигенции, вымуштрованного и выхоленного бескорыстными любителями сценического искусства, в пасынка петербургской академии театрального дела».
Постановлением от 4 ноября 1822 г. и формально московский театр был отделен от петербургского управления и подчинен главному начальнику московского генерал-губернатора, причем мотивом отделения было выставлено «отвращение неудобств, встречавшихся в действиях московского театра, который и средствами, и местными обстоятельствами разнится от С.-Петербургского театра».
Средствами московский театр разнился особенно. В то время как долг в 18.000 р. по отчету московской дирекции 1830 г. (в связи с холерой) послужил причиной замены долго и успешно управлявшего Московскими театрами Кокошкина Загоскиным — вот что было израсходовано за короткий промежуток времени по дефицитам петербургских театров. В 1829 г. было препровождено 526.000 р. на уплату накопившихся до того времени долгов. И затем в промежуток времени до 1837 г. было сделано экстренных и сверхштатных расходов и субсидий — 1.698.013 р. Разница в отпуске средств на петербургские и московские театры настолько велика, в особенности, по сравнению с достигнутыми результатами, что основная историческая черта московского театра становится сразу ясной и несомнительной. В отличие от петербургского, это был действительно театр, созданный обществом, а не начальством. Нужны были любовь, самоотверженность, бескорыстие, а всего более, неукротимая внутренняя потребность для того, чтобы при таких условиях не только состязаться, но, можно смело сказать, затмить петербургского соперника. И совершенно понятна также вторая характерная черта Московских театров, отмеченная Погожевым, — то, что несмотря на разнообразие его деятельности, «впечатление и память публики в Московском театре сосредоточивается исключительно на «русской драме», и история Московского театра есть, в сущности, история Малого театра». Было бы ошибочно утверждать, что дело — в счастливом подборе случайностей, в необыкновенном хозяйственном управлении Майкова, который, однако, будучи переведен в Петербург, никакими чрезвычайными хозяйственными подвигами себя не заявил: в том, что в Москве создалась блестящая плеяда актеров, как Мочалов, Синецкая, Щепкин и т. п. Все это далеко не случайно, как не случайно, что через полвека в Московском Малом театре блистала новая группа актеров и в репертуаре таком же повышенно-героическом, как Ермолова, Южин, Ленский, Горев. Очевидно, были какие-то общие причины или, быть может, вернее, общая причина. И она в том, что насколько это было возможно в самодержавно - полицейском государстве, Москва являлась естественным средоточием живых, общественных сил, которым прислуживаться было тошно, и которые работая в культурной области, чувствовали себя гораздо лучше, легче и свободнее в Москве. И Шаховской, который вывел «своих комедий колкий рой», был иной в Москве, чем в Петербурге.
И Кокошкин недаром жил в Москве, и Аксаков. И недаром там были заложены первые основы двух важнейших течений русского политического разномыслия — западничества и славянофильства. И совсем не случайно, что самые серьезные и чувствующие ответственность пред искусством (мы воздержимся от эпитета «талантливые») актеры тянулись в Москву. И вовсе не слепая игра судьбы, что их-то и искали, за ними ухаживали и всячески их воспитывали в Москве, а не в Петербурге, — для ответственного, важного и героического репертуара. И Шаховскому, этому лучшему «сценическому мастеру» своей эпохи, было сподручнее в Москве и словом и делом преподавать уроки театра. И совершенно нельзя себе представить петербургского директора театра, который, подобно Кокошкину, открывал бы двери своего дома всем жаждущим сценического поприща, экзаменовал бы их, выслушивал и направлял, а воспитанников театральной школы звал бы на свои балы. Московский театральный чиновник был действующий, так сказать, театрал, который потому и приписывался к дирекции театров, что имел что сказать и хотел это сказать. Аксаков, Писарев, Загоскин, Кокошкин — все это была одна семья застрельщиков театра, передовые люди своего времени отдававшие свои силы и способности на служение живому делу и притом насквозь — durch und durch — публичного характера. Но в Петербурге театральная часть избиралась, большей частью, как служебная карьера, шли по дипломатической части, по военной, по сенату по архивам, а то и по дирекции казенных театров. Что выгорит, а вернее, где имелась наибольшая протекция. Эта особенность сохранилась и после Александра III, которого царствование В. П. Погожев считает, в деле управления Московскими театрами, демаркационной чертой. Именно в это время стал притчей во языцех «театральный подпоручик», густо облепивший театральную дирекцию. В Москве, возможно, было и своих грехов достаточно, но все же она сумела охранить себя от театрально-подпоручичьей орды.
Чем был театр — Театр с большой буквы, а еще проще и ближе сказать, Московский Малый Театр для русского общества — об этом красноречиво свидетельствуют вдохновенные страницы Белинского, очаровательные воспоминания Аксакова, бурные строки Гоголя, Герцена и множества других, быть может, не столь замечательных, но вполне искренних сочинений. «Отличительная черта нашей эпохи — пишет Герцен («По поводу одной драмы» том IV) есть griibeln...» Это немецкое слово, означающее господство рефлексии и гамлетовских вопросов, действительно, как нельзя более подходило к эпохе «лишних людей». Целый век русской истории, от Радищева до начала XX столетия, был веком лишних людей, И далее, Герцен поясняет значение театра, как он его понимает: «Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Кто-то сказал, что сцена — представительная камера (sic!) поэзии. Все тяготящее, занимающее известную эпоху, само собой вносится на сцену и обслуживается страшной логикой событий и действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей. Это обслуживание приводит к заключениям не отвлеченным, но трепещущим жизнью, неотразимым и многосторонним. Тут не лекция, не поучение, поднимающее слушателей в сферу отвлеченных всеобщностей, в бесстрастную алгебру, мало относящуюся к каждому, потому именно, что она относится ко всем. На сцене жизнь схвачена во всей ее полноте, схвачена в действительном осуществлении лицами, на самом деле, en flagrant delit. Жизнь схвачена, и между тем не остановлена; напротив, стремительное движение продолжается, увлекает зрителя с собой, и он с прерывающимся дыханием, боясь и надеясь, несется вместе с развертывающимся событием до крайних следствий его, — и вдруг остается один. Лица исчезли, погибли: он переживает их жизнь, успел полюбить их, взойти в их интересы. Удар, разразившийся над ними рикошетом, был удар в него. Такая страстная близость зрителя и сцены делает сильную органическую связь между ними; по сцене можно судить о партере, но партеру — о сцене. Партер не чужой сцене; он в роде хора греческой трагедии; он не вне драмы, а обнимает ее волнами жизни, атмосферой сочувствия, которая оживляет актера; и сцена, со своей стороны, не чужая зрителю : она переносит его не дальше, как в его собственное сердце (т. IV стр. 32).
В этих словах Герцена прорывается вся неукротимость его политических чаяний и стремлений. Как характерно сравнение сцены с «представительной камерой», т.-е. с парламентом — венцом конституционных стремлений! И далее, апология партера, сравнение его с хором древне - греческой трагедии — очень верное, но по тому времени, особенно, принимая во внимание теорию Шлегеля, смелое и не совсем обыкновенное — как это опять таки выдает внутреннюю думу будущего политического трибуна! Тот же социальный элемент театра выступает весьма определенно и в словах Белинского:
«Вы здесь живёте не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность; здесь ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире любви». Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую, заплесневелую, от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями. В душе человеческой есть то особенное свойство, что она как будто падает под бременем сладостных ощущений изящного, если не разделяет их с другой душой. А где же этот раздел является так торжественным, так умилительным, как не в театре, где тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, где тысячи «я» сливаются в одно общее целое «я», в гармоническом сознании беспредельного блаженства?»
Эти мысли в той или иной форме встречаются у многих, у большинства, но мы намеренно заимствовали апологию действенного и общественного значения театра у заведомых бунтарей и энтузиастов общественной мысли, каковы были Герцен и Белинский. Заметим кстати, что в литературе встречается и взгляд противоположный, которого выразителем некогда был Руссо.
Среди попыток воскресить этот взгляд и подкрепив его историческим обзором фактов (крайне искусственно подобранных и освещенных), необходимо отметить книгу Игнатова «Театр и Зрители». Указывают на то, что театр развивает пассивность. Ценою театральных эмоций покупается де спокойное и невозмутимое пользование плодами настоящего, и фикция театрального героизма лишает зрителя действительного, реального героизма. Будто бы театр разряжает энергию действия, — и когда «над вымыслом слезами обольюсь», то неизбежно эпиктетовское примиренчество, в ожидании того, как «на мой закат печальный блеснет заря улыбкою прощальной». Но у Герцена, как видим, чувствование театра и театральных «ударов рикошетом» по зрителю не помешало скоплению революционных и действенных сил. Можем ли мы на его примере отрицать значение, влияние и заразительное действие театрального патетизма и театральных эмоций?
Мысль об антидейственном характере театрального впечатления глубоко ошибочна. По существу, в ней истинно только то, что скопляющаяся в человеке действенная энергия, не находящая себе выхода, обращается к играм, представлениям, фикциям, потрясениям и встряскам всякого рода, ища во всем этом выхода и облегчения. Подобно тому, как Шопенгауэр в своей «Метафизике любви» рассматривает искание особи другого пола, как стремление найти дополнительную дробь своего существа, — так точно в интересующем нас вопросе потребность в потрясениях театра и искусства находится в прямом соответствии, в строго пропорциональном соотношении с недостатком действенной и активной жизни. Дополнительная дробь тем выше, чем ниже дробь основная. Вот почему безмерно возрастает значение искусства и театра в эпохи политического и общественного застоя. Величайший софизм, чтобы не сказать «величайшее легкомыслие», в том, что последствия принимаются за причины. Наибольшее увлечение театром Белинский обнаруживал в Москве. В Петербурге он писал о своих былых увлечениях:
«Театр, театр, каким магическим словом был ты для меня во время оно! Каким неотразимым очарованием потрясал ты тогда все струны души моей, и какие дивные аккорды срывал ты с них!» Далее будто бы последовало «разочарование». Точнее сказать не «разочарование», а перенесение центра внимания. Именно с наиболее гегельянским периодом в умственной жизни Белинского совпадает его наибольшее увлечение театром. Созерцательное спокойствие гегелианской метафизики требовало своей дополнительной дроби — «дивных аккордов», срываемых со «струн души» театральным представлением.
Жизнь — вся, целиком, в ее органической общности — представляет собой как бы замкнутый круг внутреннего равновесия, и объективность исторического взгляда в том и состоит, чтобы уразуметь в ходе событий относительную важность и ценность отдельных элементов исторического процесса,
Значение «сегодня» для «завтра», а вчерашнего дня для сегодняшнего. Феодальный произвол породил «тайные судилища». Разумеется, это был суррогат права, но этот суррогат питал идеи права и человеческого достоинства в темную ночь феодализма. Масонство было организацией полу - наивной, полу - театральной, сентиментальной и отчасти, быть может, ханжеской. Но масонство вскормило могучие идеи революции, освободившей мир от пережитков и остатков средневековья. Можно — и с гораздо большей степенью правдоподобия — сказать, что масонство было отпискою души, отягченной недобросовестной действенностью. Но сказав это, что меняем мы в оценке исторического значения масонства как аккумулятора «добродетели», гуманных чувств и идей, приведших впоследствии к политическому, религиозному и частью экономическому освобождению человечества от уз, мешавших ему жить, чувствовать и познавать себя и свое достоинство?
Именно теперь, когда огромный период истории остался позади, можно с полным беспристрастием оценить громадную роль театра — а под театром мы должны разуметь больше всего и преимущественно Московский Малый — в общественной жизни России; его значение, как консолидирующего и концентрирующего культурные ценности учреждения; его призывы к прогрессу, знанию, истине, справедливости, — прямые призывы, обращенные к сердцу зрителя; и, наконец, его место, как некоторого убежища и приюта общественности в царстве полицейщины и официальности.
Доброю ли волей, сознательностью ли стремлений или силою внутренней необходимости, так случилось — вопрос второстепенный. В исторической перспективе эти оттенки, очень важные при индивидуальной оценке людей и их характеров, исчезают. Остается явление века, — вернее, быть может, целая сеть, целое скопление явлений, связанных с учреждением Московского Малого Театра, и из пены этих событий и явлений, старый, такой обветшавший и как бы подслеповатый, Малый Театр встает во всем величии своего прошлого. Любим ли мы прошлое? Достаточно ли ценим его? Порою кажется, что нет. А между тем героизм настоящего, который приносит свои жертвы для будущего и только — для него, и в этом его истинное благородство — когда-нибудь также станет прошлым. И как понять бескорыстие сегодняшней жертвы, чем питать эти чувства жертвенности, если не примером прошлого? И те были, как мы — жили для будущего, для далекого счастья человечества. И потомки наши будут, как мы, и порвать цепь героического прошлого не значит ли, вообще, отнять целесообразность преемственной жертвы, тем самым угасив дух героического подвига? Хотелось бы, чтобы, проходя мимо Малого Театра, народы России произносили «с благодарностью — были». На площади Французской Комедии до сих пор имеется «Cafe de la Regence», знаменитое тем, что здесь собирались люди искусства, театра, литературы и философии, обмениваясь живыми впечатлениями театра. И до сих вор турист благоговейно озирается на это кафе, в котором старого осталось, быть может, одно название. А сколько здесь, в стенах Малого Театра, прошло таких, о которых мы должны сказать словами Некрасова, обращенными к Белинскому:
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель, перед именем твоим,
Позволь смиренно преклонить колени!..
II
Жить душно, тяжело. «Мышиной жизни бег» подавляет все мыслящие элементы общества. В вершинах реет власть, на которую нельзя смотреть: как солнце, она ослепляет. Ни похвалы, ни порицания — одно умиление. Литература, вообще, всякая, под сомнением. Как говорит Никитенко в своем дневнике — «здесь все под одну шапку; вы все люди вредны, потому что мыслите и печатаете ваши мысли», «нет ни обществолюбия, ни человеколюбия». Незыблемо стоит крепостное право, проникая во все стороны общественной, государственной и частной жизни. Жестокость нравов, питавшаяся и поддерживаемая телесными наказаниями. Бесправие — как государственный догмат, как отнятие всяких прав, целиком перенесенных на самодержца. Преследование науки, особенно гуманитарной и философской. Закрытие ряда кафедр в университетах. Ограничение комплекта слушателей. Бедность, скудость, застой и невежество, а под всем этим горделивая «апотеоза», как выразился Чаадаев, русской самобытности.
«Гниение Запада» — также один из догматов политического вероучения. «В наших сношениях с Западом — писал Шевырев — мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой заразительный недуг, окруженный атмосферой опасного дыхания». «Настоящее России более, чем великолепно, — подтверждает шеф жандармов Бенкендорф, — а будущее выше всего, что может себе представить самое пылкое воображение». Сила застоя, окаменелость казарменного быта так велики, что жизнь течет как бы автоматически. Удивляться ли тому, что Белинский усердный посетитель Малого Театра, восклицает: «можно ли не любить театр больше всего на свете?» И направляется туда, чтобы жить «не своей только жизнью, а жить хотя бы призраком, тенью социального существа».
Потребность разделить страсти, мысли и чувства с другою душою — соборность жизни — быть может, являлась одним из главнейших оснований любви к театру. Единственная форма, если не действия, то чувствования «скопом» была в театре. Удесятеренными являлись чувства в театре, среди зрительной залы. Театр как бы являлся непрестанным митингом благородных чувств и побуждений. Конечно, можно указать на то, что репертуар был далеко не всегда на должной высоте, что на ряду с истинно художественными и значительными произведениями, давались произведения ничтожные, ремесленные, так называемые choses au theatre. Но сила театрального действия измеряется не одними откровениями. Быть может, в своем обычном репертуаре театр, привлекающий публику, не лишен известной вульгарности, но эта вульгарность является часто причиною общего действия театра, доступности и так сказать, социальности его эффекта. Каждый находил спектакль и пьесу по своему вкусу. Герцен в одном месте указывает на пестрый и разнообразный состав партера. Даже «бородки», как называлось тогда купечество и мещанство, были разные — от «бородки an sich», растущей стихийно, как явление природы, до бородки «fiir sich», подстриженной по вкусу и разумению. Но все, как бы ни были малы и нетребовательны их вкусы, находили в театре самое для себя важное — общность чувства, соборность, ощущение социальной близости и солидарности. Преобладала, разумеется, мелодрама. Еще в полном ходу и почете была — «коцебятина», над которой кто же не издевался и не трунил? Формула «добродетель торжествует, порок наказан» давно уже припечатана стигматом пошлости. Но нёт ничего более несправедливого, чем это осуждение, и нет ничего более театрального, как именно это торжество добродетели и наказание порока. Среди «мерзости неправосудия» и «черным-черной неправды», по выражению Аксакова, тогдашнего бесправия — людям необходимо было, как воздух, иллюзорное торжество добродетели. Тоскующая печаль, угнетенное сознание человека искали нравственного утешения, ободряющего слова. И чем ночь темней, тем ярче звезды. Расплывавшаяся, можно сказать, потоком липкой патоки, добродетель мелодраматической коцебятины была органически необходима среди жестоких нравов, бедности и нищеты, бесправия и задавленности человеческой личности. Когда мы читаем, например, у Зотова, что он несколько раз всхлипывал на представлении «Параши Сибирячки», мы не должны этому удивляться. Тут были — влияние массового заражения, с одной стороны, и наивное, детское, как бессвязная ребяческая молитва — облегчение нравственного чувства, — с другой. Даже апофеоз царя являлся здесь неполитическим лозунгом и убеждением, а чем-то вроде сказочного предания о добрых Берендеях. Какая-то отдаленная мерцающая звезда, которой значение не в том, какую форму, какой мундир она в данную минуту имеет, а в том, что туда в отдаленнейшую из отдаленнейших сфер перенесена вся сила упования, надежды и веры. Разве это не то же «мы отдохнем, мы отдохнем» из «дяди Вани». Все небо будет в алмазах, и каждый утешает себя мыслью, что получит свою порцию алмазного небосвода.
Со сцены шли убаюкивающие сказки о конечном торжестве добродетели и помогали жить, веря в добро, искусственно питая эту веру. Одним из распространеннейших сценических персонажей того времени был — Неизвестный — таинственная, романтическая, внебытовая, так сказать, фигура, символизировавшая иррациональный идеал.
Над жизнью, которую мы знаем во всей ее отвратительной наготе, во всей ее беспощадности и жестокости, со всеми ее кознями, неправосудием, угнетением слабых, торжеством злобствующих, своекорыстных и коварных, — над реальным и ощутимым — есть нечто трансцендентное, неизвестное. Это — «Неизвестный», потому что все известное и следовательно все известные — или к добру и злу постыдно равнодушны или бессильны сотворить добро. Спасение откуда-то, из потустороннего мира — но оно есть. Оно называется — Неизвестный. И подождите, вот отношения запутаются и станут невозможными, вот злодейка западня готова захлопнуть свои дверцы над несчастною жертвою, вот неразрешимый, нерасторжимый узел драматического сцепления, — и тогда придет Неизвестный, все распутает, всем воздаст, каждому по делам его и, совершив все, облагодетельствовав одних, покарав других, на минуту раскроет лик свой, распахнет плащ и потом исчезнет навсегда, как добрый гений, как вездесущее, все наполняющее начало добра и справедливости. «Ненависть к людям и раскаянье» — известная пьеса Коцебу не сходила с репертуара многие десятки лет. Барон Мейнау есть Неизвестный, и Неизвестный есть барон Мейнау. Ненавидя, он любит. Самая ненависть его проистекает из, ожесточенного ущемлением добродетели, сердца. Но, конечно, любовь торжествует. Добродетель примиряет раскаявшегося с жизнью. Сколько раз читал Мочалов монологи Мейнау! Вот он стоит со скрещенными руками, как он изображен на картине Неврева, и читает монолог в знакомом купеческом доме. Его сердце «подобно засыпанной могиле». Но когда является раскаяние, то раскрываются покровы могил, и из недр вырастают цветы добра и утешения. Все, что было человеческого «слишком человеческого» в тусклой, обыденной забитой жизни русского общества рвалось к сверхчеловеческому романтизму и фантастике; все, что изъедено было скукой бытия и автоматической непреложностью обывательского существования, рвалось к чуду; и все, что таилось в груди и произносилось шопотом, отражалось в громогласных стихах, произносимых Мочаловым:
Есть громы... но в сей час на небе тишина!
Есть боги... и земля злодеям предана!
И стонут слабые у сильных под рукою!
Об этих минутах пишет восторженный Аполлон Григорьев, вспоминая Мочалова, что театральная зала выла «как голодный зверь» и «незнакомый мне сосед в восторге жал мне крепко руку». И далее его же, Григорьева, определение романтизма: «Этот озноб и жар с напряженным биением пульса, который равно болезнен, окажется ли он сладкою, но все таки тревожною, мечтательностью Жуковского, тоскою ли по прошедшем Шатобриана, мрачным ли и сосредоточенным отрицанием Байрона, судорожными ли созданиями Виктора Гюго и литературы 30-х годов, борьбою ли с ним ясной и светлой Пушкинской натуры, подчинением ли ему до морального уничтожения натур Марлинского и Полежаева, Мочаловскими ли созданиями, воплями ли Огаревских монологов или Фетовскими странными, но для души ясными, намеками на какие-то звуки, которые зовут к моему изголовью».
Прибавьте к этому почти столь же мечтательную и трансцендентальную философию, и пред вами весь, так сказать, «пленум» духовной жизни, в которой театр был не только равноценным членом, но почти единственной формой многоголового вселенского чувства.
В лице Щепкина это слияние Московского Малого театра с духовной и интеллектуальной жизнью тогдашнего общества нашло и свое, так сказать, физическое выражение. Щепкин был не только совершенным для своего времени представителем сценического искусства, но и воплощением внутренней связи тогдашней русской интеллигенции и Малого театра. Дом Щепкина собирал весь цвет московской интеллигенции и с ним мог разве поспорить знаменитый «Литературный салон» Каролины Павловой. Щепкин был окружен представителями обеих партий — и западников, и славянофилов. С одной стороны — Станкевич, Белинский, Грановский, Герцен, Огарев, Тургенев, Боткины, гр. Соллогуб и пр., с другой — семья Аксаковых, Хомяков, Киреевские, Погодин, Шевырев и пр. и пр. Были тут и представители отвлеченной науки, как профессор астрономии Перевощиков, от которого Щепкин выслушивал астрономические сведения с таким же интересом, с каким прислушивался к философским спорам в кружке Станкевича и потом Грановского и к эстетическим спорам Белинского с тонким знатоком искусства, В. П. Боткиным.
Летние месяцы 1845 и 1846 годов весь круг московских западников собирался в подмосковной дачной местности Соколове, где жили Грановский и Герцен (Г. Ветринский «В сороковых годах», стр. 371—372). Здесь же жил и Щепкин со своей громадной семьей. В Соколове образовалось нечто в роде конгресса всего лучшего, что было в тогдашней интеллигенции; блестящие представители науки, литературы и искусства съезжались к постоянным обитателям Соколова. Шел деятельный обмен мыслей по всем вопросам нравственно-философским, литературным и эстетическим; полное отсутствие каких бы то ни было стеснений свободно выражаемому мнению, высокий уровень интересов, которые одинаково захватывали и мужское, и женское общество, — все это придавало своеобразный поэтический колорит «рыцарскому братству без писанного устава», которое, по выражению П. Анненкова, сложилось здесь».
Сам Щепкин приписывал свое умственное развитие, как человека и артиста, влиянию среды, в которой он жил в Москве. На первый план он выдвигал дом С. Аксакова. Особую благодарность он питал к Грановскому. «Беседы с Грановским поднимали меня нравственно; укреплял! во мне постоянно упорную и неутомимую любовь к труду и искусству». «Я не сидел на скамьях студентов, — говорил Щепкин, — но с гордостью скажу, что много обязан московскому университету в лице его преподавателей: одни научили меня мыслить, — другие глубоко понимать искусство».
По своим взглядам и влечениям, Щепкин был, конечно, гораздо ближе к западникам, чем к славянофилам. Он верил в единые формы развития человеческого духа и в единую, если можно выразиться, формулу человеческого прогресса. К этому воззрению, которое одновременно было и его чувством, склоняли его, как беседы с представителями кружка Станкевича, на тему о метафизике и натурфилософии, рассматривавшей мир как проявление абсолютного, и стало быть, единого духа и разума, а еще больше, его происхождение, воспоминания о собственном рабстве, картины бесправия, убожества и невежества, памятные с юных лет. Демократический инстинкт был заложен в его натуре, а вместе с тем и трезвый, житейский взгляд на вещи, выработанный борьбой за существование. При всем его преклонении перед Гоголем, при всем чувстве восхищения, он — а с ним и Малый театр, как и вся русская передовая интеллигенция, — отвергнул мистическое направление последнего Гоголевского периода. Хорошо известно письмо Щепкина к Гоголю, который пытался уверить первого, что чиновники «Ревизора» суть наши «разбушевавшиеся страсти». «После моей смерти — писал Гоголю Щепкин — переделывайте их хоть в козлов, а сейчас я вам Держиморду не уступлю». Здесь пером Щепкина водил н
Дата публикации: 30.08.2011

















