Новости
Михаил Иванович Царев. Малый театр
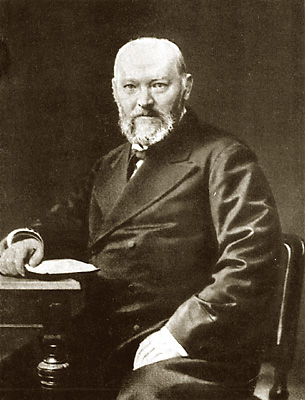
Михаил Иванович Царев. Малый театр
Михаил Иванович Царев. Малый театр
«Дело о литераторе Островском»
В конце 40-х годов в литературно-театральную жизнь Москвы вступил драматург, которому суждено была вписать новую страницу в историю Малого театра и всего русского театра.
14 февраля 1847 года в доме профессора С.П.Шевырева собралась группа московских литераторов, где никому не известный молодой чиновник коммерческого суда Александр Островский прочитал присутствующим свою первую пьесу «Семейная картина». После того как молодой человек окончил чтение, хозяин дома подошел к нему, взял за руку и сказал: «Работайте, у вас большой талант».
«С этого дня,— писал А.Н.Островский,— я стал считать себя русским писателем, и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание».
Хотя собравшиеся высоко оценили первое произведение начинающего драматурга, а сам он «поверил в свое призвание», никто из них не предполагал тогда, что этот день станет днем начала революции в русском драматическом искусстве.
Вдохновленный поддержкой друзей, Островский в 1849 году закончил пьесу «Банкрут», о которой А.Ф.Писемский писал драматургу: «Ваш «Банкрут» — купеческое «Горе от ума», или точнее сказать: купеческие «Мертвые души». Смело поставив молодого драматурга рядом с Грибоедовым и Гоголем, Писемский предугадал ту роль, которую предстояло сыграть Островскому
(1823—1886) в развитии русского искусства.
Как началось шествие пьес Островского по... московским гостиным. Поскольку каждому произведению Островского путь на сцену преграждало лаконичное заключение царской цензуры: «Запрещается», двери императорского театра тотчас же закрывались перед драматургом. Островский создал своеобразный «театр одного актера». В нем впервые и был сыгран «Банкрут». Пров Садовский, Михаил Щепкин и сам Островский каждый вечер читали эту пьесу в различных московских домах. Ее слушали крупнейшие артисты, писатели, журналисты, преподаватели Московского университета. Пьеса получила одобрение Гоголя и Тургенева, ею восхищались Чернышевский и Лев Толстой. В.Ф.Одоевский заявил «Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкруте» я ставлю номер четвертый».
Изданная отдельной книжечкой, пьеса была мгновенно раскуплена. Ежевечерне в кофейных устраивались публичные чтения «Банкрута». Актеры мечтали сыграть эту пьесу, но для театрального представления комедия была запрещена. Запрещалось играть, писать о пьесе, запрещалось ее печатать. В секретном отделении канцелярии московского генерал-губернатора было начато «дело о литераторе Островском», за писателем учрежден надзор. Вот ведь какой «успех» выпал на долю «Банкрута» и его создателя!
А Островский продолжал писать, каждый год выпуская по одной, а иногда по две-три пьесы, создавая тем самым свой театр, театр Островского. Позже И.А.Гончаров писал драматургу: «Вы одни достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У насесть свой русский национальный театр. Он, по справедливости, должен называться: «Театр Островского».
Сценическая жизнь пьес Островского началась с комедии «Не в свои сани не садись». 14 января 1853 года состоялся бенефис артистки Малого театра Л.П.Никулиной-Косицкой, прославившейся позднее замечательным исполнением роли Катерины в «Грозе». Для своего бенефиса актриса выбрала роль Дуни в комедии «Не в свои сани не садись». Так пьеса драматурга впервые увидела свет рампы.
В чем же смысл революции, совершенной А.Н.Островским в искусстве? Почему сегодня мы называем его жизнь подвигом? Почему более полутора веков мы не перестаем удивляться этой жизни и восхищаться ею? Почему день 150-летия А. Н. Островского, которое отмечалось в апреле 1973 года, каждый, кто любит театр, отмечал как свой, личный праздник? Чем же велик Островский и чем он дорог нам? 63 года жизни. Из них 41 год отдан драматургии, 35 лет — театру. Безраздельно, полностью. Ни одного дня — вне искусства, ни одного часа — вне творчества. 48 пьес. Множество статей, записок, писем. Вчитайтесь в них, и вы обнаружите последовательное и стройное учение, практическое и теоретическое обоснование принципов реалистического театрального искусства, принципов русского национального театра.
Н.А.Добролюбов называл пьесы Островского «пьесами жизни». И мы действительно можем по произведениям драматурга изучить целую эпоху, почти полвека жизни России с ее сложностями, социальными изменениями, потрясениями, жизни в ее непрерывном движении, в острейшей борьбе нового и старого.
В самом начале своего творческого пути Островский открыл «страну, никому до сего времени в подробности неизвестную и никем еще из путешественников не описанную». Называлась эта страна Замоскворечье. «Я живу в той стороне,— говорит один персонаж драматурга,— где дни разделяются на легкие и тяжелые; где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах и что, по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться: значит, плохо дело; где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями; где есть свои астрономы, которые наблюдают за кометами и рассматривают двух человек на луне; где своя политика, и тоже получаются депеши, но только все больше из Белой Арапии и стран, к ней прилежащих».
Вот эта страна — Замоскворечье — и стала местом действия многих пьес Островского, представляя собой одну из провинций того «темного царства», которое составляло главный предмет исследований драматурга, с огромной обличительной силой показавшего самодурство и хищничество этого мира, его темноту и невежество, поругание человеческих прав и элементарной справедливости.
В своих пьесах Островский, по его собственному определению, примыкал к «обличительному направлению» русской литературы, продолжая традиции Грибоедова и Гоголя. В суде над миром большовых и кабаних, подхалюзиных и гурмыжских видит он общественную роль театра, свой долг писателя и гражданина. И запреты его пьес — лучшее доказательство того, что драматург оказался достойным преемником своих великих предшественников в русской литературе. А избрание Островского в 1863 году членом-корреспондентом Академии наук свидетельствует не только о признании его собственных заслуг перед искусством, но и о признании его драматургии равноценным жанром среди других литературных жанров. Такое признание драматургия в России получила впервые.
Создавая свои обличительные произведения, свои разящие сатирические портреты, Островский в то же время считал: «Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с комическим». Островский написал эти слова в то время, когда работал над комедией «Бедность не порок», одним из ранних своих произведений. И отныне соединение «высокого и комического» становится программой его творчества.
Вместе с пьесами Островского пришел на русскую сцену национальный положительный герой, зримый идеал эпохи. Рядом с Гамлетом, Карлом Моором, Жанной д\'Арк и Лауренсией на русскую сцену вышла целая плеяда горячих сердец, ищущих и страстных натур, через судьбу которых проходила народная боль и надежды на лучшее будущее. Это был «особый мир», о котором говорил И. А. Гончаров,— герои добра, рыцари совести, певцы честности, проповедники справедливости, поборники свободы духа, борцы с обманом, лучи света в темном царстве. Мир чистых сердец и вдохновенных мыслей.
Островский находил своих героев в среде простых людей из народа. Знаменитое «Шире дорогу, Любим Торцов идет!» — относилось не только к персонажам комедии «Бедность не порок». Вслед за поборником справедливости Любимом Торцовым на сцену вышли десятки героев других пьес драматурга, утверждавших идеи честности и добра.
Почти в каждой пьесе Островского есть женский характер, через который автор выражает свой протест против рабства и бесправия. «Воспитанницы», «бесприданницы», «бедные невесты», жертвы домашнего деспотизма или корыстной любви; они непримиримо, каждая по мере своих возможностей и сил, борются за свою независимость.
Эту способность на подвиг, самоотверженность, страстный порыв к свободе Островский утверждал в прекрасных образах героинь многих своих пьес. Такова Катерина в «Грозе» — натура независимая и гордая, разрывающая цепи семейного рабства, самоубийством бросающая вызов «темному царству». Характер ее, по определению Добролюбова, «прежде всего поражает нас своею противоположностью всяким самодурным началам... он сосредоточенно решителен, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен, в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны».
Ни одному русскому драматургу не удалось воссоздать с такой глубиной и любовью образ русской женщины, как это сделал Островский в своих пьесах, написав Катерину и Ларису, Юлию Тугину и Парашу, Аксюшу и Людмилу.
С такой же удивительной готовностью отдает драматург свое сердце, свою любовь русскому артисту, поскольку для Островского артист — всегда художник, самоотверженно и бескорыстно борющийся за высокие идеалы, а следовательно, он в одном лагере с драматургом, он— его союзник и друг. В «печальных комедиях», таких, как «Без вины виноватые», «Лес», «Таланты и поклонники», создает Островский прекрасные образы актеров. Вспомним эту галерею... Замечательная актриса Негина, сумевшая противопоставить свою нравственную силу гнусной провинциальной богеме и заставить ее отступить; сильная, благородная и одаренная личность — Кручинина; несчастный, гонимый Незнамов, сумевший сбросить с себя наигрыш и браваду, найти верный путь к искусству; романтический Несчастливцев, ценой нищеты купивший независимость и свободу; «маленький человек» — актер Шмага, голодный, высмеянный и избитый, но не потерявший достоинства, по-своему верный дружбе... Эти образы написаны Островским психологически тонко, и оттого они западают так в душу.
Пьесы Островского отражали различные стороны русской действительности второй половины XIX века. Они — плоды наблюдений, обобщений и анализа художника-реалиста. Сочный бытовизм Островского, присутствие «низкой натуры», раскрытие запретной тематики, свободный переход из мира комедии в мир трагедии — все это требовало новой сценической культуры, новых приемов актерской игры.
Появление пьес Островского привело к созданию реалистической школы на русской сцене, сформировало целую плеяду артистов, достойных продолжателей дела М. С. Щепкина. Искусство Островского, как могучий поток, увлекло за собой все живые силы русской сцены. И Малый театр своим истолкованием пьес Островского создал эпоху в истории русского сценического искусства.
В Малом театре не просто играли Островского. Актеры сознавали, что каждая пьеса драматурга и даже каждый отдельный спектакль «есть некоторый строительный акт, правда, лишь слабо задевавший культурный рост масс, но способствовавший росту передового слоя этих масс, разночинной интеллигенции. Отсюда стремление выработать максимально убедительные театральные формы, формы реализма в лучшем смысле этого
слова, то есть искусство, которое отражало бы действительность, придавая ей более резкие контуры, делая ее более заметной для человеческого внимания и понимания»,— писал А. В. Луначарский.
Почти сорок лет был связан драматург с Малым театром, который с гордостью носит почетное имя — «дом Островского». Новые качества драматургии нашли свое воплощение прежде всего на сцене этого театра, несмотря на то что почти каждая пьеса драматурга встречала сопротивление со стороны Дирекции императорских театров, находившей произведения Островского «простонародными» и «вульгарными». Поэтому подавляющее большинство сыгранных театром пьес Островского шло лишь в бенефисы актеров \'. Многие из своих пьес великий драматург писал специально для бенефисов, по просьбе того или иного артиста. Рядом с именем действующего лица он ставил фамилию артиста, для которого он эту роль написал.
Островский был первым исполнителем своих произведений — он обязательно сам читал пьесы актерам. И, по общему признанию, читал их великолепно, «без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу». Таким образом, драматург как бы задавал исполнителям верный тон, необходимую сценическую интонацию. Кроме того, Островский был (как мы называем это сейчас) режиссером-постановщиком своих пьес. Он определял их трактовку и характер исполнения. Он сам проводил репетиции с актерами, воспитывая в них новую исполнительскую культуру, новую сценическую стилистику. На его репертуаре складывалась новая школа актерского искусства с замечательными актерами: это П.М.Садовский, Л.Л.Никулияа-Косицкая, Сергей и Павел Васильевы, А.Е.Мартынов и другие — первое созвездие артистов «театра Островского». Было и второе созвездие, вторая плеяда. Их называли «молодыми современниками Островского»: М.Н.Ермолова, Г.Н.Федотова, Н.И.Музиль, Ольга и Михаил Садовские, А.И.Южин, Е.К.Лешковская, А.П.Ленский, К.А.Варламов, В.Н.Давыдов, М.И.Писарев, М.Г.Савина, В.В.Стрельская, П.А.Стрепетова. Приумножив славу Островского, они сами выросли в величайших мастеров русского театра. М.Н.Ермолова писала в день столетия драматурга: «Островский, великий апостол жизненной правды, простоты и любви к меньшому брату! Как много сделал он и дал людям вообще, а нам, артистам, в особенности. Он вселил в души наши эту правду и простоту на сцене, и мы свято, как умели и могли, стремились вслед за этим... Слава великому русскому художнику А.Н.Островскому!»
С глубочайшим уважением, любовью относились к Островскому и последующие поколения русских актеров. Его пьесы были для них лучшим и самым совершенным сценическим материалом.
Благородные демократические идеи, заложенные в пьесах Островского, их подлинная народность, глубина и яркость характеров давали возможность каждому новому актерскому поколению открывать «своего» Островского, выражать через его произведения идеи своего времени. Передавая из поколения в поколение эстафету правды, актеры не копировали своих предшественников, а заново творили, создавая все новые и новые сценические варианты известных образов. Катерина П.А.Стрепетовой на сцене Александрийского театра в Петербурге была непохожа на Катерину М.Н.Ермоловой в Московском Малом театре, хотя обе были сыграны с потрясающей силой и обе не повторяли в этой роли Л.П.Никулину-Косицкую и ее последовательниц. Современная Островскому реакционная критика и официальное общественное мнение, по существу, травили драматурга за ясно осознанную народность творчества, за социальное звучание произведений, за прославление бедного трудового люда. Однако, несмотря на все нападки реакционной критики, пьесы Островского уверенно заняли ведущее место в репертуаре театров.
Островский был не только драматургом и режиссером, практиком и теоретиком театра, он был активным общественным деятелем своего времени.
В 1865 году Островский вместе с директором Московской консерватории Николаем Рубинштейном и артистом Провом Садовским создали в Москве Артистический кружок, главная заслуга которого состояла в том, что он первый начал разрушать монополию императорских театров, сыграв видную роль в театральной жизни Москвы. Это было творческое объединение деятелей искусства — артистов, писателей, музыкантов, художников. Кроме пропагандистских целей Артистический кружок, по словам Островского, «некоторым образом заменил театральную школу, он дал московской сцене М.П.Садовского, О.О.Садов-скую и В.А.Макшеева; в нем же в первый раз познакомилась московская публика с огромным талантом П.А.Стрепетовой». Островский был душою этого кружка, не раз выступал там с чтением своих пьес, преподавал в нем актерское мастерство.
Много сил отдавал Островский защите прав русских писателей, но все его официальные обращения оставались безответными. Тогда его усилиями было учреждено Собрание (позднее Общество) русских драматических писателей, бессменным председателем которого он оставался вплоть до своей смерти.
Нельзя не удивляться широте и многогранности деятельности драматурга по созданию русского национального театра. Островский творил не для избранных, он творил для всего народа. А «эта близость к народу,— как утверждал драматург,— нисколько не унижает драматической поэзии, а напротив, удваивает ее силы и не дает ей опошлиться и измельчать».
Каждый подлинный драматург создает свой стиль, который требует от театра новой, определенной именно им сценической эстетики. Каждый талантливый артист своей игрой как бы направляет мысль драматурга в новое русло. Великий писатель способствует рождению новой актерской школы, великий актер— рождению новой драматургии. Процессы эти взаимосвязаны и нерасторжимы. Каждый такой творческий союз дает новый толчок литературной и театральной мысли, поднимает театральное искусство на более высокую ступень развития. Ярким примером такого союза в истории русского театра может быть союз драматурга А. Н. Островского и замечательного актера Прова Михайловича Садовского (1818—1872).
«Дело о литераторе Островском»
В конце 40-х годов в литературно-театральную жизнь Москвы вступил драматург, которому суждено была вписать новую страницу в историю Малого театра и всего русского театра.
14 февраля 1847 года в доме профессора С.П.Шевырева собралась группа московских литераторов, где никому не известный молодой чиновник коммерческого суда Александр Островский прочитал присутствующим свою первую пьесу «Семейная картина». После того как молодой человек окончил чтение, хозяин дома подошел к нему, взял за руку и сказал: «Работайте, у вас большой талант».
«С этого дня,— писал А.Н.Островский,— я стал считать себя русским писателем, и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание».
Хотя собравшиеся высоко оценили первое произведение начинающего драматурга, а сам он «поверил в свое призвание», никто из них не предполагал тогда, что этот день станет днем начала революции в русском драматическом искусстве.
Вдохновленный поддержкой друзей, Островский в 1849 году закончил пьесу «Банкрут», о которой А.Ф.Писемский писал драматургу: «Ваш «Банкрут» — купеческое «Горе от ума», или точнее сказать: купеческие «Мертвые души». Смело поставив молодого драматурга рядом с Грибоедовым и Гоголем, Писемский предугадал ту роль, которую предстояло сыграть Островскому
(1823—1886) в развитии русского искусства.
Как началось шествие пьес Островского по... московским гостиным. Поскольку каждому произведению Островского путь на сцену преграждало лаконичное заключение царской цензуры: «Запрещается», двери императорского театра тотчас же закрывались перед драматургом. Островский создал своеобразный «театр одного актера». В нем впервые и был сыгран «Банкрут». Пров Садовский, Михаил Щепкин и сам Островский каждый вечер читали эту пьесу в различных московских домах. Ее слушали крупнейшие артисты, писатели, журналисты, преподаватели Московского университета. Пьеса получила одобрение Гоголя и Тургенева, ею восхищались Чернышевский и Лев Толстой. В.Ф.Одоевский заявил «Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкруте» я ставлю номер четвертый».
Изданная отдельной книжечкой, пьеса была мгновенно раскуплена. Ежевечерне в кофейных устраивались публичные чтения «Банкрута». Актеры мечтали сыграть эту пьесу, но для театрального представления комедия была запрещена. Запрещалось играть, писать о пьесе, запрещалось ее печатать. В секретном отделении канцелярии московского генерал-губернатора было начато «дело о литераторе Островском», за писателем учрежден надзор. Вот ведь какой «успех» выпал на долю «Банкрута» и его создателя!
А Островский продолжал писать, каждый год выпуская по одной, а иногда по две-три пьесы, создавая тем самым свой театр, театр Островского. Позже И.А.Гончаров писал драматургу: «Вы одни достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У насесть свой русский национальный театр. Он, по справедливости, должен называться: «Театр Островского».
Сценическая жизнь пьес Островского началась с комедии «Не в свои сани не садись». 14 января 1853 года состоялся бенефис артистки Малого театра Л.П.Никулиной-Косицкой, прославившейся позднее замечательным исполнением роли Катерины в «Грозе». Для своего бенефиса актриса выбрала роль Дуни в комедии «Не в свои сани не садись». Так пьеса драматурга впервые увидела свет рампы.
В чем же смысл революции, совершенной А.Н.Островским в искусстве? Почему сегодня мы называем его жизнь подвигом? Почему более полутора веков мы не перестаем удивляться этой жизни и восхищаться ею? Почему день 150-летия А. Н. Островского, которое отмечалось в апреле 1973 года, каждый, кто любит театр, отмечал как свой, личный праздник? Чем же велик Островский и чем он дорог нам? 63 года жизни. Из них 41 год отдан драматургии, 35 лет — театру. Безраздельно, полностью. Ни одного дня — вне искусства, ни одного часа — вне творчества. 48 пьес. Множество статей, записок, писем. Вчитайтесь в них, и вы обнаружите последовательное и стройное учение, практическое и теоретическое обоснование принципов реалистического театрального искусства, принципов русского национального театра.
Н.А.Добролюбов называл пьесы Островского «пьесами жизни». И мы действительно можем по произведениям драматурга изучить целую эпоху, почти полвека жизни России с ее сложностями, социальными изменениями, потрясениями, жизни в ее непрерывном движении, в острейшей борьбе нового и старого.
В самом начале своего творческого пути Островский открыл «страну, никому до сего времени в подробности неизвестную и никем еще из путешественников не описанную». Называлась эта страна Замоскворечье. «Я живу в той стороне,— говорит один персонаж драматурга,— где дни разделяются на легкие и тяжелые; где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах и что, по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться: значит, плохо дело; где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями; где есть свои астрономы, которые наблюдают за кометами и рассматривают двух человек на луне; где своя политика, и тоже получаются депеши, но только все больше из Белой Арапии и стран, к ней прилежащих».
Вот эта страна — Замоскворечье — и стала местом действия многих пьес Островского, представляя собой одну из провинций того «темного царства», которое составляло главный предмет исследований драматурга, с огромной обличительной силой показавшего самодурство и хищничество этого мира, его темноту и невежество, поругание человеческих прав и элементарной справедливости.
В своих пьесах Островский, по его собственному определению, примыкал к «обличительному направлению» русской литературы, продолжая традиции Грибоедова и Гоголя. В суде над миром большовых и кабаних, подхалюзиных и гурмыжских видит он общественную роль театра, свой долг писателя и гражданина. И запреты его пьес — лучшее доказательство того, что драматург оказался достойным преемником своих великих предшественников в русской литературе. А избрание Островского в 1863 году членом-корреспондентом Академии наук свидетельствует не только о признании его собственных заслуг перед искусством, но и о признании его драматургии равноценным жанром среди других литературных жанров. Такое признание драматургия в России получила впервые.
Создавая свои обличительные произведения, свои разящие сатирические портреты, Островский в то же время считал: «Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с комическим». Островский написал эти слова в то время, когда работал над комедией «Бедность не порок», одним из ранних своих произведений. И отныне соединение «высокого и комического» становится программой его творчества.
Вместе с пьесами Островского пришел на русскую сцену национальный положительный герой, зримый идеал эпохи. Рядом с Гамлетом, Карлом Моором, Жанной д\'Арк и Лауренсией на русскую сцену вышла целая плеяда горячих сердец, ищущих и страстных натур, через судьбу которых проходила народная боль и надежды на лучшее будущее. Это был «особый мир», о котором говорил И. А. Гончаров,— герои добра, рыцари совести, певцы честности, проповедники справедливости, поборники свободы духа, борцы с обманом, лучи света в темном царстве. Мир чистых сердец и вдохновенных мыслей.
Островский находил своих героев в среде простых людей из народа. Знаменитое «Шире дорогу, Любим Торцов идет!» — относилось не только к персонажам комедии «Бедность не порок». Вслед за поборником справедливости Любимом Торцовым на сцену вышли десятки героев других пьес драматурга, утверждавших идеи честности и добра.
Почти в каждой пьесе Островского есть женский характер, через который автор выражает свой протест против рабства и бесправия. «Воспитанницы», «бесприданницы», «бедные невесты», жертвы домашнего деспотизма или корыстной любви; они непримиримо, каждая по мере своих возможностей и сил, борются за свою независимость.
Эту способность на подвиг, самоотверженность, страстный порыв к свободе Островский утверждал в прекрасных образах героинь многих своих пьес. Такова Катерина в «Грозе» — натура независимая и гордая, разрывающая цепи семейного рабства, самоубийством бросающая вызов «темному царству». Характер ее, по определению Добролюбова, «прежде всего поражает нас своею противоположностью всяким самодурным началам... он сосредоточенно решителен, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен, в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны».
Ни одному русскому драматургу не удалось воссоздать с такой глубиной и любовью образ русской женщины, как это сделал Островский в своих пьесах, написав Катерину и Ларису, Юлию Тугину и Парашу, Аксюшу и Людмилу.
С такой же удивительной готовностью отдает драматург свое сердце, свою любовь русскому артисту, поскольку для Островского артист — всегда художник, самоотверженно и бескорыстно борющийся за высокие идеалы, а следовательно, он в одном лагере с драматургом, он— его союзник и друг. В «печальных комедиях», таких, как «Без вины виноватые», «Лес», «Таланты и поклонники», создает Островский прекрасные образы актеров. Вспомним эту галерею... Замечательная актриса Негина, сумевшая противопоставить свою нравственную силу гнусной провинциальной богеме и заставить ее отступить; сильная, благородная и одаренная личность — Кручинина; несчастный, гонимый Незнамов, сумевший сбросить с себя наигрыш и браваду, найти верный путь к искусству; романтический Несчастливцев, ценой нищеты купивший независимость и свободу; «маленький человек» — актер Шмага, голодный, высмеянный и избитый, но не потерявший достоинства, по-своему верный дружбе... Эти образы написаны Островским психологически тонко, и оттого они западают так в душу.
Пьесы Островского отражали различные стороны русской действительности второй половины XIX века. Они — плоды наблюдений, обобщений и анализа художника-реалиста. Сочный бытовизм Островского, присутствие «низкой натуры», раскрытие запретной тематики, свободный переход из мира комедии в мир трагедии — все это требовало новой сценической культуры, новых приемов актерской игры.
Появление пьес Островского привело к созданию реалистической школы на русской сцене, сформировало целую плеяду артистов, достойных продолжателей дела М. С. Щепкина. Искусство Островского, как могучий поток, увлекло за собой все живые силы русской сцены. И Малый театр своим истолкованием пьес Островского создал эпоху в истории русского сценического искусства.
В Малом театре не просто играли Островского. Актеры сознавали, что каждая пьеса драматурга и даже каждый отдельный спектакль «есть некоторый строительный акт, правда, лишь слабо задевавший культурный рост масс, но способствовавший росту передового слоя этих масс, разночинной интеллигенции. Отсюда стремление выработать максимально убедительные театральные формы, формы реализма в лучшем смысле этого
слова, то есть искусство, которое отражало бы действительность, придавая ей более резкие контуры, делая ее более заметной для человеческого внимания и понимания»,— писал А. В. Луначарский.
Почти сорок лет был связан драматург с Малым театром, который с гордостью носит почетное имя — «дом Островского». Новые качества драматургии нашли свое воплощение прежде всего на сцене этого театра, несмотря на то что почти каждая пьеса драматурга встречала сопротивление со стороны Дирекции императорских театров, находившей произведения Островского «простонародными» и «вульгарными». Поэтому подавляющее большинство сыгранных театром пьес Островского шло лишь в бенефисы актеров \'. Многие из своих пьес великий драматург писал специально для бенефисов, по просьбе того или иного артиста. Рядом с именем действующего лица он ставил фамилию артиста, для которого он эту роль написал.
Островский был первым исполнителем своих произведений — он обязательно сам читал пьесы актерам. И, по общему признанию, читал их великолепно, «без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу». Таким образом, драматург как бы задавал исполнителям верный тон, необходимую сценическую интонацию. Кроме того, Островский был (как мы называем это сейчас) режиссером-постановщиком своих пьес. Он определял их трактовку и характер исполнения. Он сам проводил репетиции с актерами, воспитывая в них новую исполнительскую культуру, новую сценическую стилистику. На его репертуаре складывалась новая школа актерского искусства с замечательными актерами: это П.М.Садовский, Л.Л.Никулияа-Косицкая, Сергей и Павел Васильевы, А.Е.Мартынов и другие — первое созвездие артистов «театра Островского». Было и второе созвездие, вторая плеяда. Их называли «молодыми современниками Островского»: М.Н.Ермолова, Г.Н.Федотова, Н.И.Музиль, Ольга и Михаил Садовские, А.И.Южин, Е.К.Лешковская, А.П.Ленский, К.А.Варламов, В.Н.Давыдов, М.И.Писарев, М.Г.Савина, В.В.Стрельская, П.А.Стрепетова. Приумножив славу Островского, они сами выросли в величайших мастеров русского театра. М.Н.Ермолова писала в день столетия драматурга: «Островский, великий апостол жизненной правды, простоты и любви к меньшому брату! Как много сделал он и дал людям вообще, а нам, артистам, в особенности. Он вселил в души наши эту правду и простоту на сцене, и мы свято, как умели и могли, стремились вслед за этим... Слава великому русскому художнику А.Н.Островскому!»
С глубочайшим уважением, любовью относились к Островскому и последующие поколения русских актеров. Его пьесы были для них лучшим и самым совершенным сценическим материалом.
Благородные демократические идеи, заложенные в пьесах Островского, их подлинная народность, глубина и яркость характеров давали возможность каждому новому актерскому поколению открывать «своего» Островского, выражать через его произведения идеи своего времени. Передавая из поколения в поколение эстафету правды, актеры не копировали своих предшественников, а заново творили, создавая все новые и новые сценические варианты известных образов. Катерина П.А.Стрепетовой на сцене Александрийского театра в Петербурге была непохожа на Катерину М.Н.Ермоловой в Московском Малом театре, хотя обе были сыграны с потрясающей силой и обе не повторяли в этой роли Л.П.Никулину-Косицкую и ее последовательниц. Современная Островскому реакционная критика и официальное общественное мнение, по существу, травили драматурга за ясно осознанную народность творчества, за социальное звучание произведений, за прославление бедного трудового люда. Однако, несмотря на все нападки реакционной критики, пьесы Островского уверенно заняли ведущее место в репертуаре театров.
Островский был не только драматургом и режиссером, практиком и теоретиком театра, он был активным общественным деятелем своего времени.
В 1865 году Островский вместе с директором Московской консерватории Николаем Рубинштейном и артистом Провом Садовским создали в Москве Артистический кружок, главная заслуга которого состояла в том, что он первый начал разрушать монополию императорских театров, сыграв видную роль в театральной жизни Москвы. Это было творческое объединение деятелей искусства — артистов, писателей, музыкантов, художников. Кроме пропагандистских целей Артистический кружок, по словам Островского, «некоторым образом заменил театральную школу, он дал московской сцене М.П.Садовского, О.О.Садов-скую и В.А.Макшеева; в нем же в первый раз познакомилась московская публика с огромным талантом П.А.Стрепетовой». Островский был душою этого кружка, не раз выступал там с чтением своих пьес, преподавал в нем актерское мастерство.
Много сил отдавал Островский защите прав русских писателей, но все его официальные обращения оставались безответными. Тогда его усилиями было учреждено Собрание (позднее Общество) русских драматических писателей, бессменным председателем которого он оставался вплоть до своей смерти.
Нельзя не удивляться широте и многогранности деятельности драматурга по созданию русского национального театра. Островский творил не для избранных, он творил для всего народа. А «эта близость к народу,— как утверждал драматург,— нисколько не унижает драматической поэзии, а напротив, удваивает ее силы и не дает ей опошлиться и измельчать».
Каждый подлинный драматург создает свой стиль, который требует от театра новой, определенной именно им сценической эстетики. Каждый талантливый артист своей игрой как бы направляет мысль драматурга в новое русло. Великий писатель способствует рождению новой актерской школы, великий актер— рождению новой драматургии. Процессы эти взаимосвязаны и нерасторжимы. Каждый такой творческий союз дает новый толчок литературной и театральной мысли, поднимает театральное искусство на более высокую ступень развития. Ярким примером такого союза в истории русского театра может быть союз драматурга А. Н. Островского и замечательного актера Прова Михайловича Садовского (1818—1872).
Дата публикации: 23.04.2004
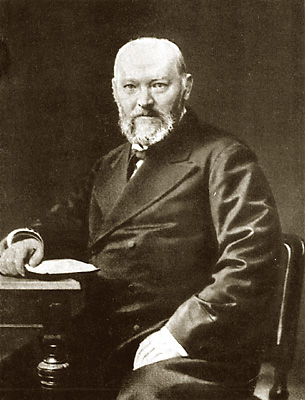
Михаил Иванович Царев. Малый театр
«Дело о литераторе Островском»
В конце 40-х годов в литературно-театральную жизнь Москвы вступил драматург, которому суждено была вписать новую страницу в историю Малого театра и всего русского театра.
14 февраля 1847 года в доме профессора С.П.Шевырева собралась группа московских литераторов, где никому не известный молодой чиновник коммерческого суда Александр Островский прочитал присутствующим свою первую пьесу «Семейная картина». После того как молодой человек окончил чтение, хозяин дома подошел к нему, взял за руку и сказал: «Работайте, у вас большой талант».
«С этого дня,— писал А.Н.Островский,— я стал считать себя русским писателем, и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание».
Хотя собравшиеся высоко оценили первое произведение начинающего драматурга, а сам он «поверил в свое призвание», никто из них не предполагал тогда, что этот день станет днем начала революции в русском драматическом искусстве.
Вдохновленный поддержкой друзей, Островский в 1849 году закончил пьесу «Банкрут», о которой А.Ф.Писемский писал драматургу: «Ваш «Банкрут» — купеческое «Горе от ума», или точнее сказать: купеческие «Мертвые души». Смело поставив молодого драматурга рядом с Грибоедовым и Гоголем, Писемский предугадал ту роль, которую предстояло сыграть Островскому
(1823—1886) в развитии русского искусства.
Как началось шествие пьес Островского по... московским гостиным. Поскольку каждому произведению Островского путь на сцену преграждало лаконичное заключение царской цензуры: «Запрещается», двери императорского театра тотчас же закрывались перед драматургом. Островский создал своеобразный «театр одного актера». В нем впервые и был сыгран «Банкрут». Пров Садовский, Михаил Щепкин и сам Островский каждый вечер читали эту пьесу в различных московских домах. Ее слушали крупнейшие артисты, писатели, журналисты, преподаватели Московского университета. Пьеса получила одобрение Гоголя и Тургенева, ею восхищались Чернышевский и Лев Толстой. В.Ф.Одоевский заявил «Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкруте» я ставлю номер четвертый».
Изданная отдельной книжечкой, пьеса была мгновенно раскуплена. Ежевечерне в кофейных устраивались публичные чтения «Банкрута». Актеры мечтали сыграть эту пьесу, но для театрального представления комедия была запрещена. Запрещалось играть, писать о пьесе, запрещалось ее печатать. В секретном отделении канцелярии московского генерал-губернатора было начато «дело о литераторе Островском», за писателем учрежден надзор. Вот ведь какой «успех» выпал на долю «Банкрута» и его создателя!
А Островский продолжал писать, каждый год выпуская по одной, а иногда по две-три пьесы, создавая тем самым свой театр, театр Островского. Позже И.А.Гончаров писал драматургу: «Вы одни достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У насесть свой русский национальный театр. Он, по справедливости, должен называться: «Театр Островского».
Сценическая жизнь пьес Островского началась с комедии «Не в свои сани не садись». 14 января 1853 года состоялся бенефис артистки Малого театра Л.П.Никулиной-Косицкой, прославившейся позднее замечательным исполнением роли Катерины в «Грозе». Для своего бенефиса актриса выбрала роль Дуни в комедии «Не в свои сани не садись». Так пьеса драматурга впервые увидела свет рампы.
В чем же смысл революции, совершенной А.Н.Островским в искусстве? Почему сегодня мы называем его жизнь подвигом? Почему более полутора веков мы не перестаем удивляться этой жизни и восхищаться ею? Почему день 150-летия А. Н. Островского, которое отмечалось в апреле 1973 года, каждый, кто любит театр, отмечал как свой, личный праздник? Чем же велик Островский и чем он дорог нам? 63 года жизни. Из них 41 год отдан драматургии, 35 лет — театру. Безраздельно, полностью. Ни одного дня — вне искусства, ни одного часа — вне творчества. 48 пьес. Множество статей, записок, писем. Вчитайтесь в них, и вы обнаружите последовательное и стройное учение, практическое и теоретическое обоснование принципов реалистического театрального искусства, принципов русского национального театра.
Н.А.Добролюбов называл пьесы Островского «пьесами жизни». И мы действительно можем по произведениям драматурга изучить целую эпоху, почти полвека жизни России с ее сложностями, социальными изменениями, потрясениями, жизни в ее непрерывном движении, в острейшей борьбе нового и старого.
В самом начале своего творческого пути Островский открыл «страну, никому до сего времени в подробности неизвестную и никем еще из путешественников не описанную». Называлась эта страна Замоскворечье. «Я живу в той стороне,— говорит один персонаж драматурга,— где дни разделяются на легкие и тяжелые; где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах и что, по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться: значит, плохо дело; где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями; где есть свои астрономы, которые наблюдают за кометами и рассматривают двух человек на луне; где своя политика, и тоже получаются депеши, но только все больше из Белой Арапии и стран, к ней прилежащих».
Вот эта страна — Замоскворечье — и стала местом действия многих пьес Островского, представляя собой одну из провинций того «темного царства», которое составляло главный предмет исследований драматурга, с огромной обличительной силой показавшего самодурство и хищничество этого мира, его темноту и невежество, поругание человеческих прав и элементарной справедливости.
В своих пьесах Островский, по его собственному определению, примыкал к «обличительному направлению» русской литературы, продолжая традиции Грибоедова и Гоголя. В суде над миром большовых и кабаних, подхалюзиных и гурмыжских видит он общественную роль театра, свой долг писателя и гражданина. И запреты его пьес — лучшее доказательство того, что драматург оказался достойным преемником своих великих предшественников в русской литературе. А избрание Островского в 1863 году членом-корреспондентом Академии наук свидетельствует не только о признании его собственных заслуг перед искусством, но и о признании его драматургии равноценным жанром среди других литературных жанров. Такое признание драматургия в России получила впервые.
Создавая свои обличительные произведения, свои разящие сатирические портреты, Островский в то же время считал: «Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с комическим». Островский написал эти слова в то время, когда работал над комедией «Бедность не порок», одним из ранних своих произведений. И отныне соединение «высокого и комического» становится программой его творчества.
Вместе с пьесами Островского пришел на русскую сцену национальный положительный герой, зримый идеал эпохи. Рядом с Гамлетом, Карлом Моором, Жанной д\'Арк и Лауренсией на русскую сцену вышла целая плеяда горячих сердец, ищущих и страстных натур, через судьбу которых проходила народная боль и надежды на лучшее будущее. Это был «особый мир», о котором говорил И. А. Гончаров,— герои добра, рыцари совести, певцы честности, проповедники справедливости, поборники свободы духа, борцы с обманом, лучи света в темном царстве. Мир чистых сердец и вдохновенных мыслей.
Островский находил своих героев в среде простых людей из народа. Знаменитое «Шире дорогу, Любим Торцов идет!» — относилось не только к персонажам комедии «Бедность не порок». Вслед за поборником справедливости Любимом Торцовым на сцену вышли десятки героев других пьес драматурга, утверждавших идеи честности и добра.
Почти в каждой пьесе Островского есть женский характер, через который автор выражает свой протест против рабства и бесправия. «Воспитанницы», «бесприданницы», «бедные невесты», жертвы домашнего деспотизма или корыстной любви; они непримиримо, каждая по мере своих возможностей и сил, борются за свою независимость.
Эту способность на подвиг, самоотверженность, страстный порыв к свободе Островский утверждал в прекрасных образах героинь многих своих пьес. Такова Катерина в «Грозе» — натура независимая и гордая, разрывающая цепи семейного рабства, самоубийством бросающая вызов «темному царству». Характер ее, по определению Добролюбова, «прежде всего поражает нас своею противоположностью всяким самодурным началам... он сосредоточенно решителен, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен, в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны».
Ни одному русскому драматургу не удалось воссоздать с такой глубиной и любовью образ русской женщины, как это сделал Островский в своих пьесах, написав Катерину и Ларису, Юлию Тугину и Парашу, Аксюшу и Людмилу.
С такой же удивительной готовностью отдает драматург свое сердце, свою любовь русскому артисту, поскольку для Островского артист — всегда художник, самоотверженно и бескорыстно борющийся за высокие идеалы, а следовательно, он в одном лагере с драматургом, он— его союзник и друг. В «печальных комедиях», таких, как «Без вины виноватые», «Лес», «Таланты и поклонники», создает Островский прекрасные образы актеров. Вспомним эту галерею... Замечательная актриса Негина, сумевшая противопоставить свою нравственную силу гнусной провинциальной богеме и заставить ее отступить; сильная, благородная и одаренная личность — Кручинина; несчастный, гонимый Незнамов, сумевший сбросить с себя наигрыш и браваду, найти верный путь к искусству; романтический Несчастливцев, ценой нищеты купивший независимость и свободу; «маленький человек» — актер Шмага, голодный, высмеянный и избитый, но не потерявший достоинства, по-своему верный дружбе... Эти образы написаны Островским психологически тонко, и оттого они западают так в душу.
Пьесы Островского отражали различные стороны русской действительности второй половины XIX века. Они — плоды наблюдений, обобщений и анализа художника-реалиста. Сочный бытовизм Островского, присутствие «низкой натуры», раскрытие запретной тематики, свободный переход из мира комедии в мир трагедии — все это требовало новой сценической культуры, новых приемов актерской игры.
Появление пьес Островского привело к созданию реалистической школы на русской сцене, сформировало целую плеяду артистов, достойных продолжателей дела М. С. Щепкина. Искусство Островского, как могучий поток, увлекло за собой все живые силы русской сцены. И Малый театр своим истолкованием пьес Островского создал эпоху в истории русского сценического искусства.
В Малом театре не просто играли Островского. Актеры сознавали, что каждая пьеса драматурга и даже каждый отдельный спектакль «есть некоторый строительный акт, правда, лишь слабо задевавший культурный рост масс, но способствовавший росту передового слоя этих масс, разночинной интеллигенции. Отсюда стремление выработать максимально убедительные театральные формы, формы реализма в лучшем смысле этого
слова, то есть искусство, которое отражало бы действительность, придавая ей более резкие контуры, делая ее более заметной для человеческого внимания и понимания»,— писал А. В. Луначарский.
Почти сорок лет был связан драматург с Малым театром, который с гордостью носит почетное имя — «дом Островского». Новые качества драматургии нашли свое воплощение прежде всего на сцене этого театра, несмотря на то что почти каждая пьеса драматурга встречала сопротивление со стороны Дирекции императорских театров, находившей произведения Островского «простонародными» и «вульгарными». Поэтому подавляющее большинство сыгранных театром пьес Островского шло лишь в бенефисы актеров \'. Многие из своих пьес великий драматург писал специально для бенефисов, по просьбе того или иного артиста. Рядом с именем действующего лица он ставил фамилию артиста, для которого он эту роль написал.
Островский был первым исполнителем своих произведений — он обязательно сам читал пьесы актерам. И, по общему признанию, читал их великолепно, «без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу». Таким образом, драматург как бы задавал исполнителям верный тон, необходимую сценическую интонацию. Кроме того, Островский был (как мы называем это сейчас) режиссером-постановщиком своих пьес. Он определял их трактовку и характер исполнения. Он сам проводил репетиции с актерами, воспитывая в них новую исполнительскую культуру, новую сценическую стилистику. На его репертуаре складывалась новая школа актерского искусства с замечательными актерами: это П.М.Садовский, Л.Л.Никулияа-Косицкая, Сергей и Павел Васильевы, А.Е.Мартынов и другие — первое созвездие артистов «театра Островского». Было и второе созвездие, вторая плеяда. Их называли «молодыми современниками Островского»: М.Н.Ермолова, Г.Н.Федотова, Н.И.Музиль, Ольга и Михаил Садовские, А.И.Южин, Е.К.Лешковская, А.П.Ленский, К.А.Варламов, В.Н.Давыдов, М.И.Писарев, М.Г.Савина, В.В.Стрельская, П.А.Стрепетова. Приумножив славу Островского, они сами выросли в величайших мастеров русского театра. М.Н.Ермолова писала в день столетия драматурга: «Островский, великий апостол жизненной правды, простоты и любви к меньшому брату! Как много сделал он и дал людям вообще, а нам, артистам, в особенности. Он вселил в души наши эту правду и простоту на сцене, и мы свято, как умели и могли, стремились вслед за этим... Слава великому русскому художнику А.Н.Островскому!»
С глубочайшим уважением, любовью относились к Островскому и последующие поколения русских актеров. Его пьесы были для них лучшим и самым совершенным сценическим материалом.
Благородные демократические идеи, заложенные в пьесах Островского, их подлинная народность, глубина и яркость характеров давали возможность каждому новому актерскому поколению открывать «своего» Островского, выражать через его произведения идеи своего времени. Передавая из поколения в поколение эстафету правды, актеры не копировали своих предшественников, а заново творили, создавая все новые и новые сценические варианты известных образов. Катерина П.А.Стрепетовой на сцене Александрийского театра в Петербурге была непохожа на Катерину М.Н.Ермоловой в Московском Малом театре, хотя обе были сыграны с потрясающей силой и обе не повторяли в этой роли Л.П.Никулину-Косицкую и ее последовательниц. Современная Островскому реакционная критика и официальное общественное мнение, по существу, травили драматурга за ясно осознанную народность творчества, за социальное звучание произведений, за прославление бедного трудового люда. Однако, несмотря на все нападки реакционной критики, пьесы Островского уверенно заняли ведущее место в репертуаре театров.
Островский был не только драматургом и режиссером, практиком и теоретиком театра, он был активным общественным деятелем своего времени.
В 1865 году Островский вместе с директором Московской консерватории Николаем Рубинштейном и артистом Провом Садовским создали в Москве Артистический кружок, главная заслуга которого состояла в том, что он первый начал разрушать монополию императорских театров, сыграв видную роль в театральной жизни Москвы. Это было творческое объединение деятелей искусства — артистов, писателей, музыкантов, художников. Кроме пропагандистских целей Артистический кружок, по словам Островского, «некоторым образом заменил театральную школу, он дал московской сцене М.П.Садовского, О.О.Садов-скую и В.А.Макшеева; в нем же в первый раз познакомилась московская публика с огромным талантом П.А.Стрепетовой». Островский был душою этого кружка, не раз выступал там с чтением своих пьес, преподавал в нем актерское мастерство.
Много сил отдавал Островский защите прав русских писателей, но все его официальные обращения оставались безответными. Тогда его усилиями было учреждено Собрание (позднее Общество) русских драматических писателей, бессменным председателем которого он оставался вплоть до своей смерти.
Нельзя не удивляться широте и многогранности деятельности драматурга по созданию русского национального театра. Островский творил не для избранных, он творил для всего народа. А «эта близость к народу,— как утверждал драматург,— нисколько не унижает драматической поэзии, а напротив, удваивает ее силы и не дает ей опошлиться и измельчать».
Каждый подлинный драматург создает свой стиль, который требует от театра новой, определенной именно им сценической эстетики. Каждый талантливый артист своей игрой как бы направляет мысль драматурга в новое русло. Великий писатель способствует рождению новой актерской школы, великий актер— рождению новой драматургии. Процессы эти взаимосвязаны и нерасторжимы. Каждый такой творческий союз дает новый толчок литературной и театральной мысли, поднимает театральное искусство на более высокую ступень развития. Ярким примером такого союза в истории русского театра может быть союз драматурга А. Н. Островского и замечательного актера Прова Михайловича Садовского (1818—1872).
«Дело о литераторе Островском»
В конце 40-х годов в литературно-театральную жизнь Москвы вступил драматург, которому суждено была вписать новую страницу в историю Малого театра и всего русского театра.
14 февраля 1847 года в доме профессора С.П.Шевырева собралась группа московских литераторов, где никому не известный молодой чиновник коммерческого суда Александр Островский прочитал присутствующим свою первую пьесу «Семейная картина». После того как молодой человек окончил чтение, хозяин дома подошел к нему, взял за руку и сказал: «Работайте, у вас большой талант».
«С этого дня,— писал А.Н.Островский,— я стал считать себя русским писателем, и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание».
Хотя собравшиеся высоко оценили первое произведение начинающего драматурга, а сам он «поверил в свое призвание», никто из них не предполагал тогда, что этот день станет днем начала революции в русском драматическом искусстве.
Вдохновленный поддержкой друзей, Островский в 1849 году закончил пьесу «Банкрут», о которой А.Ф.Писемский писал драматургу: «Ваш «Банкрут» — купеческое «Горе от ума», или точнее сказать: купеческие «Мертвые души». Смело поставив молодого драматурга рядом с Грибоедовым и Гоголем, Писемский предугадал ту роль, которую предстояло сыграть Островскому
(1823—1886) в развитии русского искусства.
Как началось шествие пьес Островского по... московским гостиным. Поскольку каждому произведению Островского путь на сцену преграждало лаконичное заключение царской цензуры: «Запрещается», двери императорского театра тотчас же закрывались перед драматургом. Островский создал своеобразный «театр одного актера». В нем впервые и был сыгран «Банкрут». Пров Садовский, Михаил Щепкин и сам Островский каждый вечер читали эту пьесу в различных московских домах. Ее слушали крупнейшие артисты, писатели, журналисты, преподаватели Московского университета. Пьеса получила одобрение Гоголя и Тургенева, ею восхищались Чернышевский и Лев Толстой. В.Ф.Одоевский заявил «Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкруте» я ставлю номер четвертый».
Изданная отдельной книжечкой, пьеса была мгновенно раскуплена. Ежевечерне в кофейных устраивались публичные чтения «Банкрута». Актеры мечтали сыграть эту пьесу, но для театрального представления комедия была запрещена. Запрещалось играть, писать о пьесе, запрещалось ее печатать. В секретном отделении канцелярии московского генерал-губернатора было начато «дело о литераторе Островском», за писателем учрежден надзор. Вот ведь какой «успех» выпал на долю «Банкрута» и его создателя!
А Островский продолжал писать, каждый год выпуская по одной, а иногда по две-три пьесы, создавая тем самым свой театр, театр Островского. Позже И.А.Гончаров писал драматургу: «Вы одни достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У насесть свой русский национальный театр. Он, по справедливости, должен называться: «Театр Островского».
Сценическая жизнь пьес Островского началась с комедии «Не в свои сани не садись». 14 января 1853 года состоялся бенефис артистки Малого театра Л.П.Никулиной-Косицкой, прославившейся позднее замечательным исполнением роли Катерины в «Грозе». Для своего бенефиса актриса выбрала роль Дуни в комедии «Не в свои сани не садись». Так пьеса драматурга впервые увидела свет рампы.
В чем же смысл революции, совершенной А.Н.Островским в искусстве? Почему сегодня мы называем его жизнь подвигом? Почему более полутора веков мы не перестаем удивляться этой жизни и восхищаться ею? Почему день 150-летия А. Н. Островского, которое отмечалось в апреле 1973 года, каждый, кто любит театр, отмечал как свой, личный праздник? Чем же велик Островский и чем он дорог нам? 63 года жизни. Из них 41 год отдан драматургии, 35 лет — театру. Безраздельно, полностью. Ни одного дня — вне искусства, ни одного часа — вне творчества. 48 пьес. Множество статей, записок, писем. Вчитайтесь в них, и вы обнаружите последовательное и стройное учение, практическое и теоретическое обоснование принципов реалистического театрального искусства, принципов русского национального театра.
Н.А.Добролюбов называл пьесы Островского «пьесами жизни». И мы действительно можем по произведениям драматурга изучить целую эпоху, почти полвека жизни России с ее сложностями, социальными изменениями, потрясениями, жизни в ее непрерывном движении, в острейшей борьбе нового и старого.
В самом начале своего творческого пути Островский открыл «страну, никому до сего времени в подробности неизвестную и никем еще из путешественников не описанную». Называлась эта страна Замоскворечье. «Я живу в той стороне,— говорит один персонаж драматурга,— где дни разделяются на легкие и тяжелые; где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах и что, по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться: значит, плохо дело; где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями; где есть свои астрономы, которые наблюдают за кометами и рассматривают двух человек на луне; где своя политика, и тоже получаются депеши, но только все больше из Белой Арапии и стран, к ней прилежащих».
Вот эта страна — Замоскворечье — и стала местом действия многих пьес Островского, представляя собой одну из провинций того «темного царства», которое составляло главный предмет исследований драматурга, с огромной обличительной силой показавшего самодурство и хищничество этого мира, его темноту и невежество, поругание человеческих прав и элементарной справедливости.
В своих пьесах Островский, по его собственному определению, примыкал к «обличительному направлению» русской литературы, продолжая традиции Грибоедова и Гоголя. В суде над миром большовых и кабаних, подхалюзиных и гурмыжских видит он общественную роль театра, свой долг писателя и гражданина. И запреты его пьес — лучшее доказательство того, что драматург оказался достойным преемником своих великих предшественников в русской литературе. А избрание Островского в 1863 году членом-корреспондентом Академии наук свидетельствует не только о признании его собственных заслуг перед искусством, но и о признании его драматургии равноценным жанром среди других литературных жанров. Такое признание драматургия в России получила впервые.
Создавая свои обличительные произведения, свои разящие сатирические портреты, Островский в то же время считал: «Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с комическим». Островский написал эти слова в то время, когда работал над комедией «Бедность не порок», одним из ранних своих произведений. И отныне соединение «высокого и комического» становится программой его творчества.
Вместе с пьесами Островского пришел на русскую сцену национальный положительный герой, зримый идеал эпохи. Рядом с Гамлетом, Карлом Моором, Жанной д\'Арк и Лауренсией на русскую сцену вышла целая плеяда горячих сердец, ищущих и страстных натур, через судьбу которых проходила народная боль и надежды на лучшее будущее. Это был «особый мир», о котором говорил И. А. Гончаров,— герои добра, рыцари совести, певцы честности, проповедники справедливости, поборники свободы духа, борцы с обманом, лучи света в темном царстве. Мир чистых сердец и вдохновенных мыслей.
Островский находил своих героев в среде простых людей из народа. Знаменитое «Шире дорогу, Любим Торцов идет!» — относилось не только к персонажам комедии «Бедность не порок». Вслед за поборником справедливости Любимом Торцовым на сцену вышли десятки героев других пьес драматурга, утверждавших идеи честности и добра.
Почти в каждой пьесе Островского есть женский характер, через который автор выражает свой протест против рабства и бесправия. «Воспитанницы», «бесприданницы», «бедные невесты», жертвы домашнего деспотизма или корыстной любви; они непримиримо, каждая по мере своих возможностей и сил, борются за свою независимость.
Эту способность на подвиг, самоотверженность, страстный порыв к свободе Островский утверждал в прекрасных образах героинь многих своих пьес. Такова Катерина в «Грозе» — натура независимая и гордая, разрывающая цепи семейного рабства, самоубийством бросающая вызов «темному царству». Характер ее, по определению Добролюбова, «прежде всего поражает нас своею противоположностью всяким самодурным началам... он сосредоточенно решителен, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен, в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны».
Ни одному русскому драматургу не удалось воссоздать с такой глубиной и любовью образ русской женщины, как это сделал Островский в своих пьесах, написав Катерину и Ларису, Юлию Тугину и Парашу, Аксюшу и Людмилу.
С такой же удивительной готовностью отдает драматург свое сердце, свою любовь русскому артисту, поскольку для Островского артист — всегда художник, самоотверженно и бескорыстно борющийся за высокие идеалы, а следовательно, он в одном лагере с драматургом, он— его союзник и друг. В «печальных комедиях», таких, как «Без вины виноватые», «Лес», «Таланты и поклонники», создает Островский прекрасные образы актеров. Вспомним эту галерею... Замечательная актриса Негина, сумевшая противопоставить свою нравственную силу гнусной провинциальной богеме и заставить ее отступить; сильная, благородная и одаренная личность — Кручинина; несчастный, гонимый Незнамов, сумевший сбросить с себя наигрыш и браваду, найти верный путь к искусству; романтический Несчастливцев, ценой нищеты купивший независимость и свободу; «маленький человек» — актер Шмага, голодный, высмеянный и избитый, но не потерявший достоинства, по-своему верный дружбе... Эти образы написаны Островским психологически тонко, и оттого они западают так в душу.
Пьесы Островского отражали различные стороны русской действительности второй половины XIX века. Они — плоды наблюдений, обобщений и анализа художника-реалиста. Сочный бытовизм Островского, присутствие «низкой натуры», раскрытие запретной тематики, свободный переход из мира комедии в мир трагедии — все это требовало новой сценической культуры, новых приемов актерской игры.
Появление пьес Островского привело к созданию реалистической школы на русской сцене, сформировало целую плеяду артистов, достойных продолжателей дела М. С. Щепкина. Искусство Островского, как могучий поток, увлекло за собой все живые силы русской сцены. И Малый театр своим истолкованием пьес Островского создал эпоху в истории русского сценического искусства.
В Малом театре не просто играли Островского. Актеры сознавали, что каждая пьеса драматурга и даже каждый отдельный спектакль «есть некоторый строительный акт, правда, лишь слабо задевавший культурный рост масс, но способствовавший росту передового слоя этих масс, разночинной интеллигенции. Отсюда стремление выработать максимально убедительные театральные формы, формы реализма в лучшем смысле этого
слова, то есть искусство, которое отражало бы действительность, придавая ей более резкие контуры, делая ее более заметной для человеческого внимания и понимания»,— писал А. В. Луначарский.
Почти сорок лет был связан драматург с Малым театром, который с гордостью носит почетное имя — «дом Островского». Новые качества драматургии нашли свое воплощение прежде всего на сцене этого театра, несмотря на то что почти каждая пьеса драматурга встречала сопротивление со стороны Дирекции императорских театров, находившей произведения Островского «простонародными» и «вульгарными». Поэтому подавляющее большинство сыгранных театром пьес Островского шло лишь в бенефисы актеров \'. Многие из своих пьес великий драматург писал специально для бенефисов, по просьбе того или иного артиста. Рядом с именем действующего лица он ставил фамилию артиста, для которого он эту роль написал.
Островский был первым исполнителем своих произведений — он обязательно сам читал пьесы актерам. И, по общему признанию, читал их великолепно, «без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу». Таким образом, драматург как бы задавал исполнителям верный тон, необходимую сценическую интонацию. Кроме того, Островский был (как мы называем это сейчас) режиссером-постановщиком своих пьес. Он определял их трактовку и характер исполнения. Он сам проводил репетиции с актерами, воспитывая в них новую исполнительскую культуру, новую сценическую стилистику. На его репертуаре складывалась новая школа актерского искусства с замечательными актерами: это П.М.Садовский, Л.Л.Никулияа-Косицкая, Сергей и Павел Васильевы, А.Е.Мартынов и другие — первое созвездие артистов «театра Островского». Было и второе созвездие, вторая плеяда. Их называли «молодыми современниками Островского»: М.Н.Ермолова, Г.Н.Федотова, Н.И.Музиль, Ольга и Михаил Садовские, А.И.Южин, Е.К.Лешковская, А.П.Ленский, К.А.Варламов, В.Н.Давыдов, М.И.Писарев, М.Г.Савина, В.В.Стрельская, П.А.Стрепетова. Приумножив славу Островского, они сами выросли в величайших мастеров русского театра. М.Н.Ермолова писала в день столетия драматурга: «Островский, великий апостол жизненной правды, простоты и любви к меньшому брату! Как много сделал он и дал людям вообще, а нам, артистам, в особенности. Он вселил в души наши эту правду и простоту на сцене, и мы свято, как умели и могли, стремились вслед за этим... Слава великому русскому художнику А.Н.Островскому!»
С глубочайшим уважением, любовью относились к Островскому и последующие поколения русских актеров. Его пьесы были для них лучшим и самым совершенным сценическим материалом.
Благородные демократические идеи, заложенные в пьесах Островского, их подлинная народность, глубина и яркость характеров давали возможность каждому новому актерскому поколению открывать «своего» Островского, выражать через его произведения идеи своего времени. Передавая из поколения в поколение эстафету правды, актеры не копировали своих предшественников, а заново творили, создавая все новые и новые сценические варианты известных образов. Катерина П.А.Стрепетовой на сцене Александрийского театра в Петербурге была непохожа на Катерину М.Н.Ермоловой в Московском Малом театре, хотя обе были сыграны с потрясающей силой и обе не повторяли в этой роли Л.П.Никулину-Косицкую и ее последовательниц. Современная Островскому реакционная критика и официальное общественное мнение, по существу, травили драматурга за ясно осознанную народность творчества, за социальное звучание произведений, за прославление бедного трудового люда. Однако, несмотря на все нападки реакционной критики, пьесы Островского уверенно заняли ведущее место в репертуаре театров.
Островский был не только драматургом и режиссером, практиком и теоретиком театра, он был активным общественным деятелем своего времени.
В 1865 году Островский вместе с директором Московской консерватории Николаем Рубинштейном и артистом Провом Садовским создали в Москве Артистический кружок, главная заслуга которого состояла в том, что он первый начал разрушать монополию императорских театров, сыграв видную роль в театральной жизни Москвы. Это было творческое объединение деятелей искусства — артистов, писателей, музыкантов, художников. Кроме пропагандистских целей Артистический кружок, по словам Островского, «некоторым образом заменил театральную школу, он дал московской сцене М.П.Садовского, О.О.Садов-скую и В.А.Макшеева; в нем же в первый раз познакомилась московская публика с огромным талантом П.А.Стрепетовой». Островский был душою этого кружка, не раз выступал там с чтением своих пьес, преподавал в нем актерское мастерство.
Много сил отдавал Островский защите прав русских писателей, но все его официальные обращения оставались безответными. Тогда его усилиями было учреждено Собрание (позднее Общество) русских драматических писателей, бессменным председателем которого он оставался вплоть до своей смерти.
Нельзя не удивляться широте и многогранности деятельности драматурга по созданию русского национального театра. Островский творил не для избранных, он творил для всего народа. А «эта близость к народу,— как утверждал драматург,— нисколько не унижает драматической поэзии, а напротив, удваивает ее силы и не дает ей опошлиться и измельчать».
Каждый подлинный драматург создает свой стиль, который требует от театра новой, определенной именно им сценической эстетики. Каждый талантливый артист своей игрой как бы направляет мысль драматурга в новое русло. Великий писатель способствует рождению новой актерской школы, великий актер— рождению новой драматургии. Процессы эти взаимосвязаны и нерасторжимы. Каждый такой творческий союз дает новый толчок литературной и театральной мысли, поднимает театральное искусство на более высокую ступень развития. Ярким примером такого союза в истории русского театра может быть союз драматурга А. Н. Островского и замечательного актера Прова Михайловича Садовского (1818—1872).
Дата публикации: 23.04.2004

















