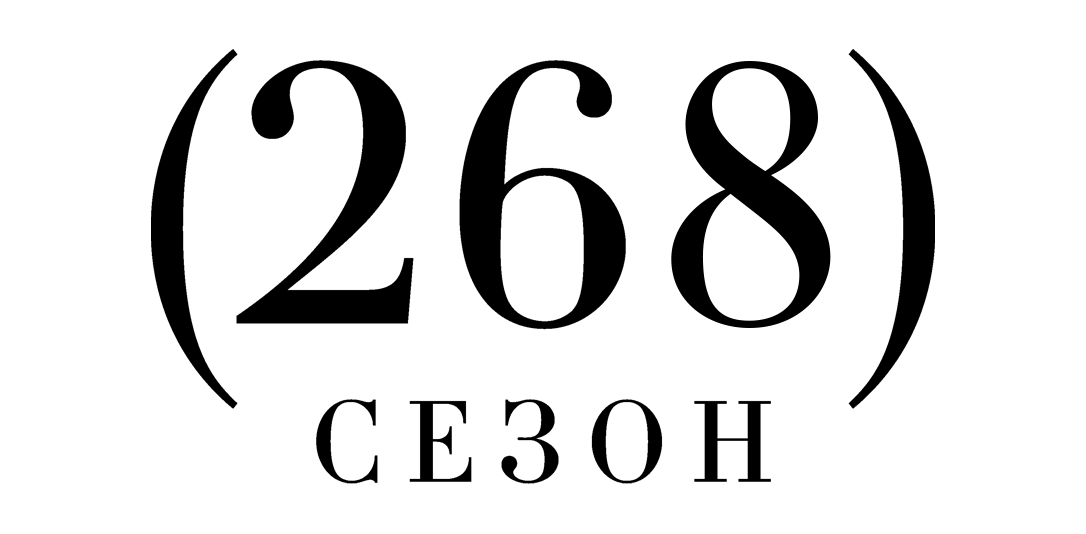Новости
МИХАИЛ ЦАРЕВ

МИХАИЛ ЦАРЕВ
МИХАИЛ ЦАРЕВ. Из сборника Малый театр 1917-1974 года. В Максимова
Говорить о Михаиле Цареве, без которого невозможно представить бытие советского Малого театра,— значит говорить о неповторимости и избранности пути большого художника, в чьем искусстве, равно обогащая друг друга, сосуществуют блестящая риторика Петербургской романтической школы и великорусское течение Малого театра, течение жизни и правды.
Говорить о Цареве — значит говорить о высокой исполнительской культуре, о верности русской актерской традиции в ее эстетическом и идейном содержании; об осознании художником своего искусства как высокой гражданской миссии.
Царев — актер редкой нерастраченности сил. Как часто, отдавая дань уважения мастеру, достигшему преклонного возраста, мы вынуждены обращаться к прошлым победам. Настоящее представляется временем заслуженного отдыха, собиранием плодов славы.
На этот раз ничуть не бывало. Достаточно вспомнить созданные за последние годы роли Вожака, Арбенина, Фамусова, горьковского Старика, Маттиаса Клаузена, чтобы почувствовать: мы являемся свидетелями интереснейшего, если не кульминационного периода в жизни артиста.
В чем причина такого творческого долголетия, великолепно сохраненной формы и постоянной готовности к художественному созиданию? Причина — в целой жизни артиста, где, не в пример иным, более легким и удачливым биографиям,- так мало было «баловства судьбы» и так много труда, самоконтроля и учебы, которая отнюдь не окончилась с выпуском из Школы русской драмы в Петрограде.
В Ревеле, провинциальном городе старой России, во времена юности Царева мало кто слышал о Станиславском и замечательном его творении — Художественном театре. Театральное искусство здесь представляли заезжие трагики-гастролеры, неудачники и скитальцы.
Тогда (в прямом согласии с данными начинающего актера) началось его увлечение романтическим театром. Тогда же родилось и не оставлявшее его всю жизнь беспокойное стремление уметь больше, быть шире и многообразней.
Царев, за которым впоследствии прочно закрепилась слава человека большой собранности, организованности и дисциплины, начинал в тревоге странствий и перемен. После недолгих сезонов в Большом драматическом театре — маленький рабочий Василеостровский театр. Потом московский Театр Корша, где беззаконно царило и буйно цвело актерское начало. Потом провинция — Махачкала, Казань, Симферополь. И снова возвращение в Ленинград, в Академический театр драмы.
Из сегодняшнего далека открывается логика этих внезапных решений. В них не было произвола случая. Были собственный выбор и воля актера. Так он искал и узнавал себя. Так он учился быть хозяином положения, не избегая опасных, но и благотворных для художника рубежных ситуаций, когда все приходится начинать заново и впервые. И позже, в трудные периоды жизни, когда по разным обстоятельствам сходили с театрального небосвода «звезды первой величины», Царев умел сохранять высоту. Даже в неудачах его ощущалось достоинство труда, достоинство отношения к делу жизни.
Судьба подарила ему немало замечательных встреч. Юность прошла под обаянием величественной и властной личности романтика, красавца, стареющего премьера Ленинградской сцены Юрия Михайловича Юрьева. Потом был Мейерхольд. Внезапностью и риском показался друзьям и коллегам молодого Царева уход к Мейерхольду. Познавший первую сладость славы, уже любимый в Ленинграде, актер шел в театр, вступавший в полосу кризиса, театр, над которым в небе 30-х годов начали сгущаться тучи.
Запомнилось, как все это было. Постаревший, совсем уже седой, с каким-то новым выражением опаленности и тревоги в чертах, но по-прежнему стремительный и легкий, Мейерхольд прибыл в Ленинград восстанавливать своего знаменитого «Дон-Жуана». В один из вечеров Царев — Дон Карлос шел в гостиницу «Астория», где обычно останавливался Мейерхольд, дабы узнать от Мастера «секретики роли». (По странной игре случая Царев не раз потом, во время ленинградских гастролей, жил именно в этом номере.) Тогда он скромно присел у двери на банкетку и стал ждать, когда Мейерхольд кончит разговаривать с театральным критиком Константином Державиным.
Мастер был увлечен. Он недавно вернулся из Парижа и видел там странную пьесу. Герои произносили реплики и тут же говорили о том, что они думают на самом деле. А Михаил Царев, сидя у двери, слушал и не слушал, дожидаясь «секретиков». И вздрогнул, когда, словно забыв о молодом госте, Мейерхольд сказал Державину: «Рассуждаю о пьесе, а думаю совсем о другом,— о том, как сманить Царева из Ленинграда, чтобы он сыграл у меня в «Даме с камелиями» Армана Дюваля».
Мейерхольдовская методика воспитания актера, пожалуй, самая загадочная страница в наследии Мастера. Михаил Царев, сыгравший у Мейерхольда Армана Дюваля и Чацкого, считает, что Мейерхольд обладал великолепным чувством актера. Он хотел от художника единственности, неповторимости существования в искусстве; ничто так не ценил, как индивидуальность и мастерски умел «подать» ее. Мейерхольд учил актера быть самим собой, не полагаться на стихию, настроение, случай, а трезво и требовательно оценивать собственные возможности и преимущества. Он утверждал в актере энергию творческого -предвидения, строгий художественный расчет.
Мейерхольдовскую «науку» не забыл Царев и придя в старейший русский театр. И вот более четырех десятилетий длится этот союз — синтез особого свойства, в котором и поначалу не было отказа от себя, торопливой готовности приспособиться, принять, повторить, как не было позже самолюбивой автономии, желания утвердиться в отделенности от всех.
Присутствие актера такого масштаба и своеобразия в коллективе лишь подтверждает сказанные когда-то А. И. Южиным слова о том, что Малый театр — «колоссальное собирательное явление».
Царев — художник особенный в богатой талантами труппе Малого театра.
А вместе с тем Царев — актер Малого театра не по случайной игре судьбы, а по внутренней сути, по праву духовного родства, по своей исполнительской вере. За это говорит высокая культура творчества, культура сценической речи в особенности, и достоинство выполнения актером своего призвания, и постоянный интерес к ролям крупных очертаний, большого общественного содержания, и чувство формы, завершенность формы, и звучащая в созданиях Царева проповедническая, романтическая, трибунная нота.
Приглашая Царева, старики Щепкинского дома — П. М. Садовский, Н. К. Яковлев, А. А. Яблочкина, М. М, Климов — видели в нем прежде всего актера классического репертуара. Он сыграл свою премьеру на сцене Малого театра 17 ноября 1938 года, в день юбилея Щепкина. И это было «Горе от ума». И это был Чацкий — роль, которая прошла через всю его жизнь: он исполнял Чацкого в Ленинграде, в провинции, у Мейерхольда (в новой редакции «Горе уму» 1935 года), и, наконец, шестнадцать лет в Малом театре, с многочисленными Фамусовыми старейшей сцены.
Вначале он играл трагедию любящего и обманутого сердца. Критики говорили, что его Чацкому не хватает сарказма, злости, горькой грибоедовской мизантропии. А он влетал чуть свет в гостиную дома Фамусова и был полон радости. И чудились длинные снежные версты, и бесконечный ритм российских дорог, и напряжение последнего рывка. Он любил подлинно. В нем была восторженность и высота пушкинского Ленского. Он спешил говорить о любви, подгоняя и без того стремительный ритм грибоедовского стиха. Его горе было от сердца, от благородства. Социальная драма начиналась с драмы любви. Любовь казалась желанным прибежищем, отдохновением от уже испытанных ударов судьбы. Но предавала и любовь. И, постепенно ожесточаясь, пристальнее всматриваясь в окружающее, Чацкий — Царев с изумлением и болью вступал в безнадежный поединок с множеством безликих и ничтожных.
В молодости Царев играл трагедию обманутого сердца, в зрелости — трагедию века.
Чеканная риторика сменила непосредственные и порывистые ритмы. Рисунок стал законченней и холодней. Ирония, язвительность и ум говорили о времени терзаний грибоедовского героя. Витийствующий и пылкий, овеянный тенями декабристов, пушкинский, грибоедовский, за Чацким вставал минувший век.
Может быть, так, на этой высоте вдохновения, не стыдясь слез и слов, в ночь декабрьского восстания прощался с друзьями первый русский якобинец Кондратий Рылеев, мученик и поэт. Этим возвышенным слогом писал из забвения Сибирской ссылки полуслепой, погибающий, не ставший ни на йоту трезвее Вильгельм Кюхельбекер. Языком возвышенных страстей изъяснялись «российские либералисты 20-х годов» — России верные сыны. Актер говорил о героях и — о времени.
Так он играл другие классические свои роли — Глумова, Жадова, Незнамова, отдаваясь стилю, тону, ритму письма Островского и всегда имея в виду живую историческую конкретность, тревогу и боль подлинной жизни.
В его Глумове («На всякого мудреца довольно простоты») ощущалась значительная фигура, человек обаятельный и незаурядный. Глумов — Царев покорял блеском импровизаций, победной силой ума. Завлекая окружающих в хитро сплетенную интригу, он увлекался сам — весь легкий, в стремительной непринужденности движений, в смелой элегантности жестов и поз. И на путь отступничества вступал, будто шутя, не отравляя дней своих ни горечью, ни сомнением. И дневник вел с веселой злостью, безмятежно уверенный в своих силах, во многих своих талантах, столь необходимых одряхлевшему миру Мамаевых и Крутицких. Постепенно в блестящей и элегантной оболочке проступала сущность героя — материальность и проза его расчетов, аморальность, беспредельный, совершенный цинизм. Глумов был безмятежен от бессердечия, неуязвим в блестящих латах бессердечия. Этим он был общественно опасен — оруженосец и рыцарь бездушного времени, утратившего идеалы.
В отверженном «подкидыше» Незнамове («Без вины виноватые») Царев разглядел художника, человека творчества прежде всего. Он не идеализировал героя. В развязности незнамовских манер, в экзальтированности слов, в претенциозной, романтической позе проступали мало привлекательные черты российской театральной провинции.
А вместе с тем Незнамов — Царев, силой обстоятельств принадлежащий .пошлой и ремесленной среде, был чужой ей. Ранимость и чуткость души, жажда служения и веры, доброта, глубоко спрятанное, человеческое достоинство — все выдавало натуру незаурядную. В браваде Незнамова звучали усталость и боль. И верилось в его художественную одаренность, и в духовную близость Кручининой — страдалице и труженице театра.
Сильнейшим моментом спектакля и роли стал последний монолог Незнамова. Здесь воедино слились боль оскорбленного новым обманом человека и — дерзость, и смелость, и вдохновенный вызов артиста миру пошлости и обмана. Отверженный и гонимый, Незнамов подымался над обществом сильных и сытых. Мелодраматический монолог звучал у Царева мужественно.
В бедном разночинце Жадове («Доходное место»), которого столь часто играли бунтарем и трибуном, Царев ушел от одномерности прочтения. Здесь все было в противоречии — идеальные устремления и убогие будни героя; прекрасные помыслы и хрупкость воли, необеспеченность мечтаний и метаний действенным, мужественным началом. Жадов Царева плохо, трудно, скудно жил, как мог долго сопротивлялся обстоятельствам. В прекрасных возвышенных словах искал забвения и отрады и на компромиссы решался мученически, загнанный в тупик. Воочию увидев крушение крупного взяточника, не спешил с самооправданием. Жизнь преподала мечтателю суровый урок. Лишь по случаю не совершилось жадовское падение. И потому в финале Царев избегал мажорных, успокоительных нот. Герой испытывал стыд и благодарил судьбу за то, что не допустила падения, и вновь верил в свою правоту. Мы оставляли его погруженным в раздумье. И снова речь шла о времени — о его соблазнах и ловушках, об измене и верности идеалам века, о распутье дней и распутье выбора; о судьбах талантливых людей, загубленных временем, и благородной силе человеческого сопротивления враждебным обстоятельствам; о святой энергии искусства, поднимающего человека над пошлостью и грязью жизни.
Творчество Царева способствовало утверждению на нашей старейшей сцене той части классического наследия, которое по тем или иным причинам в разные периоды жизни коллектива было недоступно или трудно искусству старого Малого театра. Царев — исполнитель главных ролей в спектаклях Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького.
Зрелым мастером, в полном расцвете сил, сознавая власть театральных преданий и трудность соревнования с живьши образцами, после И. М. Москвина, И. Н. Берсенева, М. Ф. Романова, Николая Симонова, актер вышел Федей Протасовым в «Живом трупе». Сознательно убирал актер блеск и мелодичность модуляций своего голоса, избегал драматических кульминаций и эмоциональных пиков, которые, казалось бы, в самом материале роли. Перед нами был человек, погруженный в себя, занятый какой-то очень сложной внутренней работой — последним раздумьем перед выбором.
Он слушал цыган — трагически неподвижный, трагически отделенный от всех. Бережно и нежно говорил с Машей, скрывая всю горечь поздней, лишенной плотских страстей любви. Случайному знакомому рассказывал историю странной своей жизни, а мы ощущали талантливого человека, не состоявшегося в Феде художника. Во всем, что бы он ни делал, проявлялись незаурядная духовная организация, ум, тревожная совестливость.
Неожиданным и новым в роли было то, что Царев играл Федю Протасова человеком, лишенным иллюзий. Его Федя уже давно составил беспощадную характеристику окружающего мира, но он не заблуждался и насчет себя. Его драма — чистого сердца и чуткой совести — была еще и драмой бессильной воли. Неспособный к противодействию, с отвращением отвернувшийся от жизни, Федя избирал уход в небытие.
«Село Степанчиково и его обитатели» Ф. Достоевского На сцене всегда становилось повествованием о Фоме Опискине, о рабе, который стал господином положения, о ханжестве и изощренности зла, рожденного убогой и нищей духом жизнью.
В Малом театре мы увидели спектакль, где подлинным героем оказался Егор Ильич Ростанев — Царев.
Мы открыли Царева — великолепного комедийного актера. Естественная, непосредственная, без нажима и подчеркивания, без грубой шаржировки, комедийность его постоянно просвечивала жизнью, подлинными жизненными проблемами. Актер разгадал сложную диалектику мысли Достоевского, который в ранней своей повести сказал о взаимовлиянии и зависимости добрых и злых начал жизни: там, где уступает добро, немедленно укореняется зло.
Царев играл совершенно доброго человека. В органике дарования актера выражать предельную, главную сущность явления или характера. В Ростаневе он увидел предельность доброты, которая будучи лишенной волевого начала, прочных идейных основ, превращается в беспочвенное прекраснодушие. Со всей энергией и активностью своего искусства Царев сказал о преступном попустительстве добра злу, об опасных последствиях человеческих компромиссов.
Его Егор Ильич был обаятелен, добр до бесконечности. Он был смешон не преувеличением, а напротив, преуменьшением своих истинных качеств. Смешна была сила самовнушения в этом человеке, несчастная способность поддаваться влиянию извне. С какой извиняющейся интонацией, запинаясь и мучительно краснея, произносил Егор Ильич вполне здравые мысли словно величайшую глупость и бестактность. Он всем хотел добра, и тем не менее оказывался причиной многих несчастий, главным виновником возвышения Фомы.
В чеховском «Иванове» актер прочитал драму крупной личности, потерпевшей крушение в «безвременье» 80-х годов. Критика писала об «инерционности» интонаций и движений, о «вялом гневе» Иванова — Царева. Это был человек конченный. И только изредка, сквозь стертые черты, простужал Иванов прежний, деятель, романтик, боец, кого так жертвенно и беззаветно полюбила Сарра. Приоткрывалась высота, с которой совершал свое падение герой.
В молодости он любил истинно. Теперь лишь принимал чужую любовь, заражался на мгновение энергией и верой Саши. Факт человеческого крушений, испепеленность Иванова были засвидетельствованы актером. Почти беспощадно говорил Царев о душевном неряшестве героя, об укоренившейся привычке к большим и малым компромиссам. Но в рефлексии и Многословии самообличений проступала настоящая _ боль. Прошлое и память о нем не отпускали. И особый смысл приобретал выстрел в финале. Актер услышал в нем приговор, но и оправдание своего героя, последнее напряжение воли, последнее мужество и честность с самим собой.
Погибал незаурядный человек, рожденный для больших дел. Несостоявшаяся, оборванная выстрелом судьба становилась обвинением порядку жизни.
Протасов, Ростанев, Иванов, Арбенин и шекспировский Макбет относятся к времени 50-х — начала 60-х годов, когда чуткий художник, Михаил Царев, переживает волнующий период обновления и подъема. В это время с особой силой обнаруживается аналитический характер дарования актера. Пафосом его творчества становится пафос постижения духовной сущности ролей. Актера манит сама сложность мысли, заложенной в образе, возможность выхода через одну мысль, одну судьбу, к широчайшим обобщениям, к проблемам бытия человека, его взаимоотношений с историей и современностью.
Характерная примета именно этого периода в жизни артиста — переосмысление своего искусства, стремительное расширение его границ.
Актер-романтик, актер высокого стиля и блестяще выверенной, отточенной формы, Царев в эти годы все глубже постигает тайну жизненного наполнения, жизненного оправдания образов. Его все более привлекает не только литературный, театральный, а именно жизненный, реальный ракурс бытия героев.
Именно с этой точки зрения замечательна одна из самых крупных работ актера в начале 60-х годов — Арбенин в лермонтовском «Маскараде».
Казалось бы, законная, даже необходимая в репертуаре Царева-романтика роль. Естественно было бы ожидать, что Царев — ученик Юрьева — продолжит «юрьевскую» линию роли, выведет на сцену классического героя, «закованного в латы блестящей театральности».
Однако актер сыграл Арбенина душевно просто, намеренно «не театрально». Для лермонтовских строф была найдена естественная и человечная интонация.
В черно-красном пространстве спектакля, где тускло мерцали люстры и дым стлался над игорными столами, где в судорожном, выморочном веселье неслышно шли маски — участники жизни-маскарада, а в звуках фантастического вальса Прокофьева изливалась тема века-фантома, призрака, блестящего и ничтожного, — блуждал и задыхался живой человек.
В согласии с постановщики спектакля Леонидом Варпаховским, прочитавшим романтическую драму молодого Лермонтова через Лермонтова зрелого, Лермонтова — великого реалиста, Царев лишил Арбенина черт демонизма. Трагедия героя, имевшая вполне реальные и объективные причины, прозвучала трагедией многих, столь же незаурядных и одаренных натур, как лермонтовский герой.
Высокомерно проходил Арбенин — Царев сквозь строй личин-масок, не сливаясь с толпой, отстраняя себя от всех. В нем ощущалось мужество вызова, в чертах и интонациях звучало горькое знание жизни. Холодность, казалось, уже стала его сущностью, но вдруг прорывалась нежданная доброта. В юном Звездиче первых картин «Маскарада» Арбенин видел и любил себя молодого, и увлекался, как в прежние годы, и шел на помощь, щедро даря свое знание и опыт.
Он отдавался любви к Нине просветленно, поклоняясь и благословляя судьбу. Но странно — в любви этой не было прочности и покоя, напротив, ощущалась загнанность, крайность положения героя. Он словно убеждал себя, и давнего приятеля своего Казарина, и целый свет в устойчивости и надежности своего нынешнего бытия. Он хотел оградить и спасти найденный рай, хотел забыть о прошлом, но не мог. Взявший на себя тяжкий крест судьи века, он оказывался пленником его. Слишком долго дышал отравленным воздухом лжи, чтобы верить в правду. Губил Нину, потому что искал улик, а не оправданий.
Роковая связь с презираемой им средой, зараженность ею сильнее всего обнаруживались в сценах карточной игры.
За зеленым столом, где рушились и возвышались надежды и судьбы, где мертво шелестели ассигнации, под тусклым светом ламп, в дыму ночных миражей, Арбенин — Царев был не только самый сильный и первый среди других, он был здесь свой. Неподвижный, бесстрастный, сидел подобно верховному магистру тайного ордена, сжигаемый холодным пламенем азарта и гнева. Нельзя было не смотреть на него, нельзя было оторваться от властных рук на зеленом сукне. И разве могла чистая и светлая Нина соперничать с этим ночным наваждением? Сам не зная того, Арбенин уже принадлежал миражному и мрачному миру. Просветом во тьме оказывалась любовь. А затем судьба заявляла свои права на героя, трагедия которого, страдание которого — неверие в светлые начала жизни.
И лишь в безумии наступало желанное отдохновение. Брошенный оземь своей виной, пытаясь подняться и не находя сил, стремительно пятился Арбенин — Царев назад и закрывал за собой дверь своего дома и — дверь жизни.
Михаил Царев — актер идеи, актер проблемы. Интерес к идейной сущности образа, к его классовому, социальному содержанию, для актера интерес естественный и органический. Социальный ракурс ролей у Царева — всегда мощный стимул творческого исследования и постижения образа.
Классические роли артиста, о которых шла речь выше, прекрасное тому свидетельство. Еще более это заметно в современном репертуаре актера, который никогда не играет одного человека, одну судьбу, но всегда — явление, тип, вызванный к жизни движением времени.
Роль генерала Огнева во «Фронте» А. Корнейчука не стала особенно заметной в биографии артиста, но был в ней один подлинно замечательный эпизод. У карты молодой генерал докладывал план будущей наступательной операции. Он начинал деловито и строго, но, постепенно одушевляясь, увлекал блеском полководческого мастерства, талантливостью, виртуозностью владения суровой профессией войны. В нем жила легкость, победность, великолепная одухотворенность высокой и святой целью. А между тем за стенами театра шел 1942 год. И еще без числа смертей и слез было до последнего дня войны. Генерал Огнев говорил у карты, а зритель военной Москвы 42-го года мысленно устремлялся в будущее, где ждала победа.
Огнев, каким играл его Царев, свидетельствовал появление нового типа военачальника, новой, рожденной в испытаниях первых месяцев войны науки побеждать. Здесь сила проявлялась не в командирской глотке (как у безнадежно отставшего Горлова), не в строгом соблюдении служебной иерархии и даже не в гипнозе личной храбрости. Здесь сила была в интеллекте, профессионализме, культуре и в абсолютном владении сложнейшим механизмом войны. Огнев умел воевать в кровной нераздельности с доверенными ему людьми, которые никогда не сливались для него в абстрактную массу, но всегда были живыми жизнями, бесценными судьбами. За каждого из них он чувствовал себя в ответе. И потому он и подобные ему неминуемо должны были победить в беспримерной войне.
В «Крыльях» А. Корнейчука, сыграв роль секретаря обкома партии Ромодана, актер сказал о важнейших переменах в нашей общественной жизни середины 50-х годов. Его Ромодан — человек с седыми волосами и мягкой улыбкой, за плечами которого нелегкая судьба, — привносил в спектакль особую нравственную атмосферу. Неизменно корректный, с чувством естественного достоинства, он шел к людям с доверием и ждал доверия в ответ. Он был человечен органически, а не по должности и инструкции соотнесенным с людьми. Он был добр. Его рабочий почерк стремителен, четок и легок. Потребность времени в человечности, доверии и доброте стала волнующим звучанием роли. Актер угадал необходимый современности тип лидера — вождя «для людей», а не «над людьми». Сильнейшими моментами роли оказались не мелодраматические, хоть и выигрышные, эпизоды с дочерью и оклеветанной когда-то женой, а именно встречи Ромодана с людьми — простыми тружениками. Царев вскрыл народные истоки характера руководителя ленинской школы, сыграл роль в ключе органической внутренней публицистики.
Эстетический аспект ролей, их формальные особенности, их стилевое качество, тональность, ритм, внутренняя музыкальность — постоянно привлекают внимание Царева-художника. Подлинный представитель Малого театра, Царев знает магическую власть слова, его многомерность, его емкость. Он очень чуток к литературному материалу, умеет использовать и передать своеобразие авторской манеры. Ему одинаково доступны стремительные ритмы афористического, ироничного, возвышенного и земного грибоедовского стиха; и живописное русское слово Островского; и чеканный, литаврами отдающий поэтический слог Лермонтова; и мудрая ясность, весомость и простота толстовской прозы; и горьковская сложность драматического языка, его фразы-формулы, фразы-загадки, и стихийное многословие, негладкость, эмоциональная открытость речей Достоевского. В работе над сложнейшей из сложных ролей — шекспировским Макбетом, в котором, как сказал Гегель, совершается «одичание души», именно через слово, лучше всего через слово Царев передал сущность Шекспира-поэта.
Часто выступающий на концертной эстраде с поэтическими программами, Михаил Царев, как и другие мастера Щепкинского дома, является хранителем нашей речевой культуры. По его произношению можно выверять правильность русских фонетических созвучий.
Сегодня артист действительно переживает великолепный период творчества, отмеченный рядом очень крупных художественных удач. Он и теперь остается верен своей влюбленности в возвышенное, романтическое начало театра. Но нынешний Царев — это прежде всего глубокий и зрелый художник-реалист.
Последние работы открыли новый диапазон Царева — характерного актера. Когда-то в юности, еще в школе Русской драмы, вразрез с общим мнением, один из педагогов предсказал романтическому юноше Цареву славу знаменитого комика Варламова. Тогда это прозвучало парадоксом. Судьба, казалось бы, прочно повела по другой стезе. Но вот в 40-е годы Царев сыграл Сезара де Базана в «Рюи Блазе» В. Гюго.
Этот беспечный и жизнерадостный оборванец, бродяга-бунтарь, в котором время от времени проступали порода и изящество бывшего гранда Испании, привносил в спектакль атмосферу особого веселья, беспечность неистребимого жизнелюбия. Потерявший все родовые привилегии, Дон Сезар обрел единственное сокровище — ему открылась прелесть естественной и вольной жизни. В нем самом бродила и переливалась вольность, богатство многих состояний и оттенков. Царев играл фламандски сочно, безоглядно щедро. Играл смеясь. «Необозримые» монологи Гюго преодолевал с головокружительной легкостью, обращал в блестящие экспромты, в артистическое откровение. Философия и мудрость его героя — жизнелюба — были абсолютно лишены назидания и скуки. Царев создавал национальный характер «гордого испанца», добровольно избравшего нищий и вольный удел, сохранившего в неприкосновенности свою честь, и — вечный тип человека, отбросившего ханжеские условности существования и радостно приветствующего каждый миг бытия.
Потом был Ростанев, теперь — Фамусов...
Однако характерность нынешнего Царева отнюдь не ограничена сферой комического, чувством нелепого, странного, смешного в образе. В ней слышатся и драматические, и трагические тона. Понимать ее следует в том единственно верном и высоком смысле, как понимал это великий Щепкин, практикой и теорией своей утверждал Станиславский, требовавший в каждой роли чуда рождения новой жизни.
В образах, созданных Царевым, проникновенное знание судьбы, условий существования, воспитания, происхождения. В отобранности и виртуозности деталей ясно читается биография, неповторимая человеческая судьба.
Как важны, оказывается, изящные холеные руки старого дипломата Репнина в «Признании» С. Дангулова. Как важна эта старомодная рыцарственность, изящество манер, благородство седин, чтобы рассказать о драме человека, слишком старого, чтобы перейти рубеж революции, чтобы принять и понять ее истинный смысл.
Как много говорит неслышный, жутко-вкрадчивый шаг горьковского Старика и весь его серый, смутный облик. Словно столб мертвого праха поднялся и неслышно движется по земле.
А книжные, мертвые, заученные интонации Вожака — Царева в «Оптимистической трагедии», изжившего свои былые убеждения и идеи и сохранившего лишь шелуху слов!
Прежний Чацкий, Михаил Царев с начала 60-х годов играет Фамусова. Оказалось, что в романтике и герое таился прекрасный художник-бытовик. Перед нами явился Фамусов — хлопотун, рачительный хозяин московской усадьбы, отец взрослой дочери.
Царев сыграл пошлость; душевную вульгарность Фамусова. Угодливая и хищная улыбка сдвигала отяжелевшие черты; то льстиво, то нагло, то угрожающе звучала старомосковская скороговорка. Не вельможа, не аристократ, представитель среднего слоя дворянства, Фамусов выгодно «торговал» взрослую дочь. Средний барин, он был и средним человеком — угодничал, как все, перед сильными и презирал слабых, был в меру моралист и в меру развратник, и крючкотвор, и взяточник, как все. Он был опасен самой распространенностью типа, сходством со средним множеством, тем самым, что держало фундамент старой жизни и не пускало свежие и молодые силы.
Роли последних лет мощно аккумулировали и выявили еще одно принципиальное качество актера. Царев — знаток и толкователь не только человеческой психологии вообще, но социальной психологии по преимуществу. Его часто и по справедливости называют актером политическим.
И потому потрясением и неожиданностью стал для всех его Вожак в «Оптимистической трагедии», образ, в котором после спектакля-легенды в Камерном, после сравнительно недавней ленинградской постановки Товстоногова с великолепным Толубеевым в этой роли, все, казалось, было уже найдено, отлито в окончательные формы.
Всегда в Вожаке звучало звериное, мускульное, анархически-грозное начало. И ум был звериный — изворотливый и беспощадный инстинкт хищника.
Вожак — Царев поражал сразу необычностью внешнего облика — стертостью черт, покатыми, слабыми плечами, мертвой ровностью и книжностью речи, вялой походкой и совсем уже неожиданным интеллигентским пенсне. Царев нашел свое объяснение странной и страшной власти этого человека над матросской вольницей. Тайна влияния была в прошлом — в «страдании», которое принял Вожак на царской каторге и за которое желал получить сполна. Власть Вожака — в его ореоле мученика и борца. Повторилась в спектакле одна странная мизансцена. В самые напряженные моменты действия Вожак вдруг усаживался, скрестив руки на груди, плотно и прочно поставив ступни ног на землю, и так замирал — неподвижно, молча, долго. В стороне от всех и возвышаясь над всеми. В смешной, но и пугающей позе было нечто каменное и неживое. Словно он стилизовал себя под монумент, напоминая о своей избранности.
Пожалуй, впервые так откровенно обнажалась сила брезгливой нелюбви Вожака к людям. Прочитавший много книг, слышавший множество умных споров, Вожак завораживал толпу гипнозом слов. Замечательно и на этот раз разработал актер речевую характеристику персонажа. Слова падали холодно и ровно. Мысль, заключенная в них, давно уже прискучила Вожаку. Давно изверился он в прежних кумирах. Уверенное и снисходительное назидание звучало в интонациях, привычная скука, высокомерное презрение к «тупой» толпе.
Он отгораживался от людей прочной стеной слов. Разговаривая с другими, Вожак слышал себя. «Логично?» — спрашивал он, отправляя на казнь двух несчастных калек-офицеров, и отвечал себе, единственно важному, самому главному, — «логично».
Исподволь открывались тайны этой темной и жестокой души. Ясно читалось прошлое и неминуемое возмездие в настоящем. Будущего не было. Гуманность, светозарность и справедливость революции, совершающейся людьми и для людей, отменяла, делала недействительным этого живого мертвеца. Взявший беззаконно власть, ренегат и отступник, снедаемый бешеным честолюбием, Вожак не имел права существовать.
Именно потому, что Царев никогда не замыкается в границах одной судьбы, в частностях отдельной жизни, столь легко обнаружить созвучие, единство некоторых его образов. Продолжая, развивая, уточняя друг друга, роли Царева как бы выстраиваются в типологические ряды и в непрерывности художественного процесса дают явление в его социальной, исторической, психологической полноте и исчерпанности.
Так, Вожак был продолжен сыгранным позже Стариком, сложнейшей и загадочной ролью горьковского репертуара. Сколько здесь общего! Ореол мученичества и желание получить сполна за «страдание». Высокомерная претензия быть судьей и вершителем судеб. Общая ненависть к людям, для которых Старик находит столь точное и презрительное — «обрыдли». Все то же стремление затопить мир страхом, подчинить, сковать, поставить на колени живую человеческую душу. И алчность, и жадность к земным благам, и ханжеские проповеди о высоких материях.
Старик Царева — это и реальный человек, и символ зла. В нем нет ни единого просвета. Он весь сплошная тьма жизни, но тьма подвижная, действующая, в особенности когда она не встречает сопротивления.
Обе роли одноприродны. Они разоблачают самую сущность фашизма как социального явления, его духовное убожество и ханжеское обличье, реальную опасность бесчеловечной и злой его силы.
Царев в Вожаке и Старике проницателен и активен от ненависти. Он позволяет себе эту крайнюю, предельную концентрацию отрицательных черт, чтобы вызвать в зрителе энергию ответа и сопротивления, активность противодействия.
Интересно, что в «Старике» Царев сыграл еще одну роль — хорошего и талантливого русского человека Мастакова, у которого только одна беда: он деятель, он созидатель, но он не борец. В юности жизнь больно ударила его, и он сохранил эту пришибленность злом. Мастаков отступает почти сразу, сломлен душевно после первой же встречи со Стариком и уже не может освободиться от страха, уже сомневается не только в собственной правоте, но и в самом праве жить.
От Мастакова тянутся нити к добрейшему Егору Ильичу Ростаневу. И там и здесь — общая перед людьми и собой вина попустительства злу. Но если Егору Ильичу судьба дарит в конце концов счастье, то пассивность Мастакова кончается трагедией самоубийства.
Открыто и сильно утверждает Царев необходимость добра мужественного, бдительного, которое может и смеет постоять за себя.
В Мастакове и Старике Царев с особенной силой проявил способность мыслить в образе сложно. Постигая философию характеров, не уклоняясь от неясностей и загадок, не спеша к близлежащему и очевидному результату, актер вскрывает противоречие психологии и мироощущения героев в динамике и диалектике их развития.
В загадочной, написанной в разгар полемики о Достоевском пьесе Горького Царев сумел объяснить многое. Прежде всего причины гибели Мастакова. В странном, поспешном, неожиданном самоубийстве героя, человека деятельного и уж наверное не робкого, актер увидел чудовищную логику жизни, которая породила кошмарный тип Старика и сломала, скомкала страхом душу Мастакова. Героя убило знание подлой жизни. С юности, с того времени, как был он несправедливо осужден, Мастаков не видел ничего вокруг себя, кроме лжи и грязи. Он сам, его дело, построенное разумно и гуманно, представлялось ему исключением в общем порядке вещей. Герой жил в сознании временности, непрочности своего существования. И потому столь легкой оказалась победа Старика.
Виноват Мастаков, отказавшийся стать борцом, не нашедший опоры в себе и окружающих. Но главная причина трагедии — в самом порядке жизни, при котором хороший и благородный человек чувствует себя мнимостью, исключением, а роль судей и жрецов морали берут ничтожества и палачи, подобные Старику.
Ничтожества — об этом актер наступательно и зло сказал в финале. Осыпаемый ударами и упреками девицы, Старик — Царев и впрямь кажется человеческой малостью. Значительным и неуязвимым он был до тех пор, пока внушал страх. Но вот мираж рассеялся,
Говорить о Михаиле Цареве, без которого невозможно представить бытие советского Малого театра,— значит говорить о неповторимости и избранности пути большого художника, в чьем искусстве, равно обогащая друг друга, сосуществуют блестящая риторика Петербургской романтической школы и великорусское течение Малого театра, течение жизни и правды.
Говорить о Цареве — значит говорить о высокой исполнительской культуре, о верности русской актерской традиции в ее эстетическом и идейном содержании; об осознании художником своего искусства как высокой гражданской миссии.
Царев — актер редкой нерастраченности сил. Как часто, отдавая дань уважения мастеру, достигшему преклонного возраста, мы вынуждены обращаться к прошлым победам. Настоящее представляется временем заслуженного отдыха, собиранием плодов славы.
На этот раз ничуть не бывало. Достаточно вспомнить созданные за последние годы роли Вожака, Арбенина, Фамусова, горьковского Старика, Маттиаса Клаузена, чтобы почувствовать: мы являемся свидетелями интереснейшего, если не кульминационного периода в жизни артиста.
В чем причина такого творческого долголетия, великолепно сохраненной формы и постоянной готовности к художественному созиданию? Причина — в целой жизни артиста, где, не в пример иным, более легким и удачливым биографиям,- так мало было «баловства судьбы» и так много труда, самоконтроля и учебы, которая отнюдь не окончилась с выпуском из Школы русской драмы в Петрограде.
В Ревеле, провинциальном городе старой России, во времена юности Царева мало кто слышал о Станиславском и замечательном его творении — Художественном театре. Театральное искусство здесь представляли заезжие трагики-гастролеры, неудачники и скитальцы.
Тогда (в прямом согласии с данными начинающего актера) началось его увлечение романтическим театром. Тогда же родилось и не оставлявшее его всю жизнь беспокойное стремление уметь больше, быть шире и многообразней.
Царев, за которым впоследствии прочно закрепилась слава человека большой собранности, организованности и дисциплины, начинал в тревоге странствий и перемен. После недолгих сезонов в Большом драматическом театре — маленький рабочий Василеостровский театр. Потом московский Театр Корша, где беззаконно царило и буйно цвело актерское начало. Потом провинция — Махачкала, Казань, Симферополь. И снова возвращение в Ленинград, в Академический театр драмы.
Из сегодняшнего далека открывается логика этих внезапных решений. В них не было произвола случая. Были собственный выбор и воля актера. Так он искал и узнавал себя. Так он учился быть хозяином положения, не избегая опасных, но и благотворных для художника рубежных ситуаций, когда все приходится начинать заново и впервые. И позже, в трудные периоды жизни, когда по разным обстоятельствам сходили с театрального небосвода «звезды первой величины», Царев умел сохранять высоту. Даже в неудачах его ощущалось достоинство труда, достоинство отношения к делу жизни.
Судьба подарила ему немало замечательных встреч. Юность прошла под обаянием величественной и властной личности романтика, красавца, стареющего премьера Ленинградской сцены Юрия Михайловича Юрьева. Потом был Мейерхольд. Внезапностью и риском показался друзьям и коллегам молодого Царева уход к Мейерхольду. Познавший первую сладость славы, уже любимый в Ленинграде, актер шел в театр, вступавший в полосу кризиса, театр, над которым в небе 30-х годов начали сгущаться тучи.
Запомнилось, как все это было. Постаревший, совсем уже седой, с каким-то новым выражением опаленности и тревоги в чертах, но по-прежнему стремительный и легкий, Мейерхольд прибыл в Ленинград восстанавливать своего знаменитого «Дон-Жуана». В один из вечеров Царев — Дон Карлос шел в гостиницу «Астория», где обычно останавливался Мейерхольд, дабы узнать от Мастера «секретики роли». (По странной игре случая Царев не раз потом, во время ленинградских гастролей, жил именно в этом номере.) Тогда он скромно присел у двери на банкетку и стал ждать, когда Мейерхольд кончит разговаривать с театральным критиком Константином Державиным.
Мастер был увлечен. Он недавно вернулся из Парижа и видел там странную пьесу. Герои произносили реплики и тут же говорили о том, что они думают на самом деле. А Михаил Царев, сидя у двери, слушал и не слушал, дожидаясь «секретиков». И вздрогнул, когда, словно забыв о молодом госте, Мейерхольд сказал Державину: «Рассуждаю о пьесе, а думаю совсем о другом,— о том, как сманить Царева из Ленинграда, чтобы он сыграл у меня в «Даме с камелиями» Армана Дюваля».
Мейерхольдовская методика воспитания актера, пожалуй, самая загадочная страница в наследии Мастера. Михаил Царев, сыгравший у Мейерхольда Армана Дюваля и Чацкого, считает, что Мейерхольд обладал великолепным чувством актера. Он хотел от художника единственности, неповторимости существования в искусстве; ничто так не ценил, как индивидуальность и мастерски умел «подать» ее. Мейерхольд учил актера быть самим собой, не полагаться на стихию, настроение, случай, а трезво и требовательно оценивать собственные возможности и преимущества. Он утверждал в актере энергию творческого -предвидения, строгий художественный расчет.
Мейерхольдовскую «науку» не забыл Царев и придя в старейший русский театр. И вот более четырех десятилетий длится этот союз — синтез особого свойства, в котором и поначалу не было отказа от себя, торопливой готовности приспособиться, принять, повторить, как не было позже самолюбивой автономии, желания утвердиться в отделенности от всех.
Присутствие актера такого масштаба и своеобразия в коллективе лишь подтверждает сказанные когда-то А. И. Южиным слова о том, что Малый театр — «колоссальное собирательное явление».
Царев — художник особенный в богатой талантами труппе Малого театра.
А вместе с тем Царев — актер Малого театра не по случайной игре судьбы, а по внутренней сути, по праву духовного родства, по своей исполнительской вере. За это говорит высокая культура творчества, культура сценической речи в особенности, и достоинство выполнения актером своего призвания, и постоянный интерес к ролям крупных очертаний, большого общественного содержания, и чувство формы, завершенность формы, и звучащая в созданиях Царева проповедническая, романтическая, трибунная нота.
Приглашая Царева, старики Щепкинского дома — П. М. Садовский, Н. К. Яковлев, А. А. Яблочкина, М. М, Климов — видели в нем прежде всего актера классического репертуара. Он сыграл свою премьеру на сцене Малого театра 17 ноября 1938 года, в день юбилея Щепкина. И это было «Горе от ума». И это был Чацкий — роль, которая прошла через всю его жизнь: он исполнял Чацкого в Ленинграде, в провинции, у Мейерхольда (в новой редакции «Горе уму» 1935 года), и, наконец, шестнадцать лет в Малом театре, с многочисленными Фамусовыми старейшей сцены.
Вначале он играл трагедию любящего и обманутого сердца. Критики говорили, что его Чацкому не хватает сарказма, злости, горькой грибоедовской мизантропии. А он влетал чуть свет в гостиную дома Фамусова и был полон радости. И чудились длинные снежные версты, и бесконечный ритм российских дорог, и напряжение последнего рывка. Он любил подлинно. В нем была восторженность и высота пушкинского Ленского. Он спешил говорить о любви, подгоняя и без того стремительный ритм грибоедовского стиха. Его горе было от сердца, от благородства. Социальная драма начиналась с драмы любви. Любовь казалась желанным прибежищем, отдохновением от уже испытанных ударов судьбы. Но предавала и любовь. И, постепенно ожесточаясь, пристальнее всматриваясь в окружающее, Чацкий — Царев с изумлением и болью вступал в безнадежный поединок с множеством безликих и ничтожных.
В молодости Царев играл трагедию обманутого сердца, в зрелости — трагедию века.
Чеканная риторика сменила непосредственные и порывистые ритмы. Рисунок стал законченней и холодней. Ирония, язвительность и ум говорили о времени терзаний грибоедовского героя. Витийствующий и пылкий, овеянный тенями декабристов, пушкинский, грибоедовский, за Чацким вставал минувший век.
Может быть, так, на этой высоте вдохновения, не стыдясь слез и слов, в ночь декабрьского восстания прощался с друзьями первый русский якобинец Кондратий Рылеев, мученик и поэт. Этим возвышенным слогом писал из забвения Сибирской ссылки полуслепой, погибающий, не ставший ни на йоту трезвее Вильгельм Кюхельбекер. Языком возвышенных страстей изъяснялись «российские либералисты 20-х годов» — России верные сыны. Актер говорил о героях и — о времени.
Так он играл другие классические свои роли — Глумова, Жадова, Незнамова, отдаваясь стилю, тону, ритму письма Островского и всегда имея в виду живую историческую конкретность, тревогу и боль подлинной жизни.
В его Глумове («На всякого мудреца довольно простоты») ощущалась значительная фигура, человек обаятельный и незаурядный. Глумов — Царев покорял блеском импровизаций, победной силой ума. Завлекая окружающих в хитро сплетенную интригу, он увлекался сам — весь легкий, в стремительной непринужденности движений, в смелой элегантности жестов и поз. И на путь отступничества вступал, будто шутя, не отравляя дней своих ни горечью, ни сомнением. И дневник вел с веселой злостью, безмятежно уверенный в своих силах, во многих своих талантах, столь необходимых одряхлевшему миру Мамаевых и Крутицких. Постепенно в блестящей и элегантной оболочке проступала сущность героя — материальность и проза его расчетов, аморальность, беспредельный, совершенный цинизм. Глумов был безмятежен от бессердечия, неуязвим в блестящих латах бессердечия. Этим он был общественно опасен — оруженосец и рыцарь бездушного времени, утратившего идеалы.
В отверженном «подкидыше» Незнамове («Без вины виноватые») Царев разглядел художника, человека творчества прежде всего. Он не идеализировал героя. В развязности незнамовских манер, в экзальтированности слов, в претенциозной, романтической позе проступали мало привлекательные черты российской театральной провинции.
А вместе с тем Незнамов — Царев, силой обстоятельств принадлежащий .пошлой и ремесленной среде, был чужой ей. Ранимость и чуткость души, жажда служения и веры, доброта, глубоко спрятанное, человеческое достоинство — все выдавало натуру незаурядную. В браваде Незнамова звучали усталость и боль. И верилось в его художественную одаренность, и в духовную близость Кручининой — страдалице и труженице театра.
Сильнейшим моментом спектакля и роли стал последний монолог Незнамова. Здесь воедино слились боль оскорбленного новым обманом человека и — дерзость, и смелость, и вдохновенный вызов артиста миру пошлости и обмана. Отверженный и гонимый, Незнамов подымался над обществом сильных и сытых. Мелодраматический монолог звучал у Царева мужественно.
В бедном разночинце Жадове («Доходное место»), которого столь часто играли бунтарем и трибуном, Царев ушел от одномерности прочтения. Здесь все было в противоречии — идеальные устремления и убогие будни героя; прекрасные помыслы и хрупкость воли, необеспеченность мечтаний и метаний действенным, мужественным началом. Жадов Царева плохо, трудно, скудно жил, как мог долго сопротивлялся обстоятельствам. В прекрасных возвышенных словах искал забвения и отрады и на компромиссы решался мученически, загнанный в тупик. Воочию увидев крушение крупного взяточника, не спешил с самооправданием. Жизнь преподала мечтателю суровый урок. Лишь по случаю не совершилось жадовское падение. И потому в финале Царев избегал мажорных, успокоительных нот. Герой испытывал стыд и благодарил судьбу за то, что не допустила падения, и вновь верил в свою правоту. Мы оставляли его погруженным в раздумье. И снова речь шла о времени — о его соблазнах и ловушках, об измене и верности идеалам века, о распутье дней и распутье выбора; о судьбах талантливых людей, загубленных временем, и благородной силе человеческого сопротивления враждебным обстоятельствам; о святой энергии искусства, поднимающего человека над пошлостью и грязью жизни.
Творчество Царева способствовало утверждению на нашей старейшей сцене той части классического наследия, которое по тем или иным причинам в разные периоды жизни коллектива было недоступно или трудно искусству старого Малого театра. Царев — исполнитель главных ролей в спектаклях Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького.
Зрелым мастером, в полном расцвете сил, сознавая власть театральных преданий и трудность соревнования с живьши образцами, после И. М. Москвина, И. Н. Берсенева, М. Ф. Романова, Николая Симонова, актер вышел Федей Протасовым в «Живом трупе». Сознательно убирал актер блеск и мелодичность модуляций своего голоса, избегал драматических кульминаций и эмоциональных пиков, которые, казалось бы, в самом материале роли. Перед нами был человек, погруженный в себя, занятый какой-то очень сложной внутренней работой — последним раздумьем перед выбором.
Он слушал цыган — трагически неподвижный, трагически отделенный от всех. Бережно и нежно говорил с Машей, скрывая всю горечь поздней, лишенной плотских страстей любви. Случайному знакомому рассказывал историю странной своей жизни, а мы ощущали талантливого человека, не состоявшегося в Феде художника. Во всем, что бы он ни делал, проявлялись незаурядная духовная организация, ум, тревожная совестливость.
Неожиданным и новым в роли было то, что Царев играл Федю Протасова человеком, лишенным иллюзий. Его Федя уже давно составил беспощадную характеристику окружающего мира, но он не заблуждался и насчет себя. Его драма — чистого сердца и чуткой совести — была еще и драмой бессильной воли. Неспособный к противодействию, с отвращением отвернувшийся от жизни, Федя избирал уход в небытие.
«Село Степанчиково и его обитатели» Ф. Достоевского На сцене всегда становилось повествованием о Фоме Опискине, о рабе, который стал господином положения, о ханжестве и изощренности зла, рожденного убогой и нищей духом жизнью.
В Малом театре мы увидели спектакль, где подлинным героем оказался Егор Ильич Ростанев — Царев.
Мы открыли Царева — великолепного комедийного актера. Естественная, непосредственная, без нажима и подчеркивания, без грубой шаржировки, комедийность его постоянно просвечивала жизнью, подлинными жизненными проблемами. Актер разгадал сложную диалектику мысли Достоевского, который в ранней своей повести сказал о взаимовлиянии и зависимости добрых и злых начал жизни: там, где уступает добро, немедленно укореняется зло.
Царев играл совершенно доброго человека. В органике дарования актера выражать предельную, главную сущность явления или характера. В Ростаневе он увидел предельность доброты, которая будучи лишенной волевого начала, прочных идейных основ, превращается в беспочвенное прекраснодушие. Со всей энергией и активностью своего искусства Царев сказал о преступном попустительстве добра злу, об опасных последствиях человеческих компромиссов.
Его Егор Ильич был обаятелен, добр до бесконечности. Он был смешон не преувеличением, а напротив, преуменьшением своих истинных качеств. Смешна была сила самовнушения в этом человеке, несчастная способность поддаваться влиянию извне. С какой извиняющейся интонацией, запинаясь и мучительно краснея, произносил Егор Ильич вполне здравые мысли словно величайшую глупость и бестактность. Он всем хотел добра, и тем не менее оказывался причиной многих несчастий, главным виновником возвышения Фомы.
В чеховском «Иванове» актер прочитал драму крупной личности, потерпевшей крушение в «безвременье» 80-х годов. Критика писала об «инерционности» интонаций и движений, о «вялом гневе» Иванова — Царева. Это был человек конченный. И только изредка, сквозь стертые черты, простужал Иванов прежний, деятель, романтик, боец, кого так жертвенно и беззаветно полюбила Сарра. Приоткрывалась высота, с которой совершал свое падение герой.
В молодости он любил истинно. Теперь лишь принимал чужую любовь, заражался на мгновение энергией и верой Саши. Факт человеческого крушений, испепеленность Иванова были засвидетельствованы актером. Почти беспощадно говорил Царев о душевном неряшестве героя, об укоренившейся привычке к большим и малым компромиссам. Но в рефлексии и Многословии самообличений проступала настоящая _ боль. Прошлое и память о нем не отпускали. И особый смысл приобретал выстрел в финале. Актер услышал в нем приговор, но и оправдание своего героя, последнее напряжение воли, последнее мужество и честность с самим собой.
Погибал незаурядный человек, рожденный для больших дел. Несостоявшаяся, оборванная выстрелом судьба становилась обвинением порядку жизни.
Протасов, Ростанев, Иванов, Арбенин и шекспировский Макбет относятся к времени 50-х — начала 60-х годов, когда чуткий художник, Михаил Царев, переживает волнующий период обновления и подъема. В это время с особой силой обнаруживается аналитический характер дарования актера. Пафосом его творчества становится пафос постижения духовной сущности ролей. Актера манит сама сложность мысли, заложенной в образе, возможность выхода через одну мысль, одну судьбу, к широчайшим обобщениям, к проблемам бытия человека, его взаимоотношений с историей и современностью.
Характерная примета именно этого периода в жизни артиста — переосмысление своего искусства, стремительное расширение его границ.
Актер-романтик, актер высокого стиля и блестяще выверенной, отточенной формы, Царев в эти годы все глубже постигает тайну жизненного наполнения, жизненного оправдания образов. Его все более привлекает не только литературный, театральный, а именно жизненный, реальный ракурс бытия героев.
Именно с этой точки зрения замечательна одна из самых крупных работ актера в начале 60-х годов — Арбенин в лермонтовском «Маскараде».
Казалось бы, законная, даже необходимая в репертуаре Царева-романтика роль. Естественно было бы ожидать, что Царев — ученик Юрьева — продолжит «юрьевскую» линию роли, выведет на сцену классического героя, «закованного в латы блестящей театральности».
Однако актер сыграл Арбенина душевно просто, намеренно «не театрально». Для лермонтовских строф была найдена естественная и человечная интонация.
В черно-красном пространстве спектакля, где тускло мерцали люстры и дым стлался над игорными столами, где в судорожном, выморочном веселье неслышно шли маски — участники жизни-маскарада, а в звуках фантастического вальса Прокофьева изливалась тема века-фантома, призрака, блестящего и ничтожного, — блуждал и задыхался живой человек.
В согласии с постановщики спектакля Леонидом Варпаховским, прочитавшим романтическую драму молодого Лермонтова через Лермонтова зрелого, Лермонтова — великого реалиста, Царев лишил Арбенина черт демонизма. Трагедия героя, имевшая вполне реальные и объективные причины, прозвучала трагедией многих, столь же незаурядных и одаренных натур, как лермонтовский герой.
Высокомерно проходил Арбенин — Царев сквозь строй личин-масок, не сливаясь с толпой, отстраняя себя от всех. В нем ощущалось мужество вызова, в чертах и интонациях звучало горькое знание жизни. Холодность, казалось, уже стала его сущностью, но вдруг прорывалась нежданная доброта. В юном Звездиче первых картин «Маскарада» Арбенин видел и любил себя молодого, и увлекался, как в прежние годы, и шел на помощь, щедро даря свое знание и опыт.
Он отдавался любви к Нине просветленно, поклоняясь и благословляя судьбу. Но странно — в любви этой не было прочности и покоя, напротив, ощущалась загнанность, крайность положения героя. Он словно убеждал себя, и давнего приятеля своего Казарина, и целый свет в устойчивости и надежности своего нынешнего бытия. Он хотел оградить и спасти найденный рай, хотел забыть о прошлом, но не мог. Взявший на себя тяжкий крест судьи века, он оказывался пленником его. Слишком долго дышал отравленным воздухом лжи, чтобы верить в правду. Губил Нину, потому что искал улик, а не оправданий.
Роковая связь с презираемой им средой, зараженность ею сильнее всего обнаруживались в сценах карточной игры.
За зеленым столом, где рушились и возвышались надежды и судьбы, где мертво шелестели ассигнации, под тусклым светом ламп, в дыму ночных миражей, Арбенин — Царев был не только самый сильный и первый среди других, он был здесь свой. Неподвижный, бесстрастный, сидел подобно верховному магистру тайного ордена, сжигаемый холодным пламенем азарта и гнева. Нельзя было не смотреть на него, нельзя было оторваться от властных рук на зеленом сукне. И разве могла чистая и светлая Нина соперничать с этим ночным наваждением? Сам не зная того, Арбенин уже принадлежал миражному и мрачному миру. Просветом во тьме оказывалась любовь. А затем судьба заявляла свои права на героя, трагедия которого, страдание которого — неверие в светлые начала жизни.
И лишь в безумии наступало желанное отдохновение. Брошенный оземь своей виной, пытаясь подняться и не находя сил, стремительно пятился Арбенин — Царев назад и закрывал за собой дверь своего дома и — дверь жизни.
Михаил Царев — актер идеи, актер проблемы. Интерес к идейной сущности образа, к его классовому, социальному содержанию, для актера интерес естественный и органический. Социальный ракурс ролей у Царева — всегда мощный стимул творческого исследования и постижения образа.
Классические роли артиста, о которых шла речь выше, прекрасное тому свидетельство. Еще более это заметно в современном репертуаре актера, который никогда не играет одного человека, одну судьбу, но всегда — явление, тип, вызванный к жизни движением времени.
Роль генерала Огнева во «Фронте» А. Корнейчука не стала особенно заметной в биографии артиста, но был в ней один подлинно замечательный эпизод. У карты молодой генерал докладывал план будущей наступательной операции. Он начинал деловито и строго, но, постепенно одушевляясь, увлекал блеском полководческого мастерства, талантливостью, виртуозностью владения суровой профессией войны. В нем жила легкость, победность, великолепная одухотворенность высокой и святой целью. А между тем за стенами театра шел 1942 год. И еще без числа смертей и слез было до последнего дня войны. Генерал Огнев говорил у карты, а зритель военной Москвы 42-го года мысленно устремлялся в будущее, где ждала победа.
Огнев, каким играл его Царев, свидетельствовал появление нового типа военачальника, новой, рожденной в испытаниях первых месяцев войны науки побеждать. Здесь сила проявлялась не в командирской глотке (как у безнадежно отставшего Горлова), не в строгом соблюдении служебной иерархии и даже не в гипнозе личной храбрости. Здесь сила была в интеллекте, профессионализме, культуре и в абсолютном владении сложнейшим механизмом войны. Огнев умел воевать в кровной нераздельности с доверенными ему людьми, которые никогда не сливались для него в абстрактную массу, но всегда были живыми жизнями, бесценными судьбами. За каждого из них он чувствовал себя в ответе. И потому он и подобные ему неминуемо должны были победить в беспримерной войне.
В «Крыльях» А. Корнейчука, сыграв роль секретаря обкома партии Ромодана, актер сказал о важнейших переменах в нашей общественной жизни середины 50-х годов. Его Ромодан — человек с седыми волосами и мягкой улыбкой, за плечами которого нелегкая судьба, — привносил в спектакль особую нравственную атмосферу. Неизменно корректный, с чувством естественного достоинства, он шел к людям с доверием и ждал доверия в ответ. Он был человечен органически, а не по должности и инструкции соотнесенным с людьми. Он был добр. Его рабочий почерк стремителен, четок и легок. Потребность времени в человечности, доверии и доброте стала волнующим звучанием роли. Актер угадал необходимый современности тип лидера — вождя «для людей», а не «над людьми». Сильнейшими моментами роли оказались не мелодраматические, хоть и выигрышные, эпизоды с дочерью и оклеветанной когда-то женой, а именно встречи Ромодана с людьми — простыми тружениками. Царев вскрыл народные истоки характера руководителя ленинской школы, сыграл роль в ключе органической внутренней публицистики.
Эстетический аспект ролей, их формальные особенности, их стилевое качество, тональность, ритм, внутренняя музыкальность — постоянно привлекают внимание Царева-художника. Подлинный представитель Малого театра, Царев знает магическую власть слова, его многомерность, его емкость. Он очень чуток к литературному материалу, умеет использовать и передать своеобразие авторской манеры. Ему одинаково доступны стремительные ритмы афористического, ироничного, возвышенного и земного грибоедовского стиха; и живописное русское слово Островского; и чеканный, литаврами отдающий поэтический слог Лермонтова; и мудрая ясность, весомость и простота толстовской прозы; и горьковская сложность драматического языка, его фразы-формулы, фразы-загадки, и стихийное многословие, негладкость, эмоциональная открытость речей Достоевского. В работе над сложнейшей из сложных ролей — шекспировским Макбетом, в котором, как сказал Гегель, совершается «одичание души», именно через слово, лучше всего через слово Царев передал сущность Шекспира-поэта.
Часто выступающий на концертной эстраде с поэтическими программами, Михаил Царев, как и другие мастера Щепкинского дома, является хранителем нашей речевой культуры. По его произношению можно выверять правильность русских фонетических созвучий.
Сегодня артист действительно переживает великолепный период творчества, отмеченный рядом очень крупных художественных удач. Он и теперь остается верен своей влюбленности в возвышенное, романтическое начало театра. Но нынешний Царев — это прежде всего глубокий и зрелый художник-реалист.
Последние работы открыли новый диапазон Царева — характерного актера. Когда-то в юности, еще в школе Русской драмы, вразрез с общим мнением, один из педагогов предсказал романтическому юноше Цареву славу знаменитого комика Варламова. Тогда это прозвучало парадоксом. Судьба, казалось бы, прочно повела по другой стезе. Но вот в 40-е годы Царев сыграл Сезара де Базана в «Рюи Блазе» В. Гюго.
Этот беспечный и жизнерадостный оборванец, бродяга-бунтарь, в котором время от времени проступали порода и изящество бывшего гранда Испании, привносил в спектакль атмосферу особого веселья, беспечность неистребимого жизнелюбия. Потерявший все родовые привилегии, Дон Сезар обрел единственное сокровище — ему открылась прелесть естественной и вольной жизни. В нем самом бродила и переливалась вольность, богатство многих состояний и оттенков. Царев играл фламандски сочно, безоглядно щедро. Играл смеясь. «Необозримые» монологи Гюго преодолевал с головокружительной легкостью, обращал в блестящие экспромты, в артистическое откровение. Философия и мудрость его героя — жизнелюба — были абсолютно лишены назидания и скуки. Царев создавал национальный характер «гордого испанца», добровольно избравшего нищий и вольный удел, сохранившего в неприкосновенности свою честь, и — вечный тип человека, отбросившего ханжеские условности существования и радостно приветствующего каждый миг бытия.
Потом был Ростанев, теперь — Фамусов...
Однако характерность нынешнего Царева отнюдь не ограничена сферой комического, чувством нелепого, странного, смешного в образе. В ней слышатся и драматические, и трагические тона. Понимать ее следует в том единственно верном и высоком смысле, как понимал это великий Щепкин, практикой и теорией своей утверждал Станиславский, требовавший в каждой роли чуда рождения новой жизни.
В образах, созданных Царевым, проникновенное знание судьбы, условий существования, воспитания, происхождения. В отобранности и виртуозности деталей ясно читается биография, неповторимая человеческая судьба.
Как важны, оказывается, изящные холеные руки старого дипломата Репнина в «Признании» С. Дангулова. Как важна эта старомодная рыцарственность, изящество манер, благородство седин, чтобы рассказать о драме человека, слишком старого, чтобы перейти рубеж революции, чтобы принять и понять ее истинный смысл.
Как много говорит неслышный, жутко-вкрадчивый шаг горьковского Старика и весь его серый, смутный облик. Словно столб мертвого праха поднялся и неслышно движется по земле.
А книжные, мертвые, заученные интонации Вожака — Царева в «Оптимистической трагедии», изжившего свои былые убеждения и идеи и сохранившего лишь шелуху слов!
Прежний Чацкий, Михаил Царев с начала 60-х годов играет Фамусова. Оказалось, что в романтике и герое таился прекрасный художник-бытовик. Перед нами явился Фамусов — хлопотун, рачительный хозяин московской усадьбы, отец взрослой дочери.
Царев сыграл пошлость; душевную вульгарность Фамусова. Угодливая и хищная улыбка сдвигала отяжелевшие черты; то льстиво, то нагло, то угрожающе звучала старомосковская скороговорка. Не вельможа, не аристократ, представитель среднего слоя дворянства, Фамусов выгодно «торговал» взрослую дочь. Средний барин, он был и средним человеком — угодничал, как все, перед сильными и презирал слабых, был в меру моралист и в меру развратник, и крючкотвор, и взяточник, как все. Он был опасен самой распространенностью типа, сходством со средним множеством, тем самым, что держало фундамент старой жизни и не пускало свежие и молодые силы.
Роли последних лет мощно аккумулировали и выявили еще одно принципиальное качество актера. Царев — знаток и толкователь не только человеческой психологии вообще, но социальной психологии по преимуществу. Его часто и по справедливости называют актером политическим.
И потому потрясением и неожиданностью стал для всех его Вожак в «Оптимистической трагедии», образ, в котором после спектакля-легенды в Камерном, после сравнительно недавней ленинградской постановки Товстоногова с великолепным Толубеевым в этой роли, все, казалось, было уже найдено, отлито в окончательные формы.
Всегда в Вожаке звучало звериное, мускульное, анархически-грозное начало. И ум был звериный — изворотливый и беспощадный инстинкт хищника.
Вожак — Царев поражал сразу необычностью внешнего облика — стертостью черт, покатыми, слабыми плечами, мертвой ровностью и книжностью речи, вялой походкой и совсем уже неожиданным интеллигентским пенсне. Царев нашел свое объяснение странной и страшной власти этого человека над матросской вольницей. Тайна влияния была в прошлом — в «страдании», которое принял Вожак на царской каторге и за которое желал получить сполна. Власть Вожака — в его ореоле мученика и борца. Повторилась в спектакле одна странная мизансцена. В самые напряженные моменты действия Вожак вдруг усаживался, скрестив руки на груди, плотно и прочно поставив ступни ног на землю, и так замирал — неподвижно, молча, долго. В стороне от всех и возвышаясь над всеми. В смешной, но и пугающей позе было нечто каменное и неживое. Словно он стилизовал себя под монумент, напоминая о своей избранности.
Пожалуй, впервые так откровенно обнажалась сила брезгливой нелюбви Вожака к людям. Прочитавший много книг, слышавший множество умных споров, Вожак завораживал толпу гипнозом слов. Замечательно и на этот раз разработал актер речевую характеристику персонажа. Слова падали холодно и ровно. Мысль, заключенная в них, давно уже прискучила Вожаку. Давно изверился он в прежних кумирах. Уверенное и снисходительное назидание звучало в интонациях, привычная скука, высокомерное презрение к «тупой» толпе.
Он отгораживался от людей прочной стеной слов. Разговаривая с другими, Вожак слышал себя. «Логично?» — спрашивал он, отправляя на казнь двух несчастных калек-офицеров, и отвечал себе, единственно важному, самому главному, — «логично».
Исподволь открывались тайны этой темной и жестокой души. Ясно читалось прошлое и неминуемое возмездие в настоящем. Будущего не было. Гуманность, светозарность и справедливость революции, совершающейся людьми и для людей, отменяла, делала недействительным этого живого мертвеца. Взявший беззаконно власть, ренегат и отступник, снедаемый бешеным честолюбием, Вожак не имел права существовать.
Именно потому, что Царев никогда не замыкается в границах одной судьбы, в частностях отдельной жизни, столь легко обнаружить созвучие, единство некоторых его образов. Продолжая, развивая, уточняя друг друга, роли Царева как бы выстраиваются в типологические ряды и в непрерывности художественного процесса дают явление в его социальной, исторической, психологической полноте и исчерпанности.
Так, Вожак был продолжен сыгранным позже Стариком, сложнейшей и загадочной ролью горьковского репертуара. Сколько здесь общего! Ореол мученичества и желание получить сполна за «страдание». Высокомерная претензия быть судьей и вершителем судеб. Общая ненависть к людям, для которых Старик находит столь точное и презрительное — «обрыдли». Все то же стремление затопить мир страхом, подчинить, сковать, поставить на колени живую человеческую душу. И алчность, и жадность к земным благам, и ханжеские проповеди о высоких материях.
Старик Царева — это и реальный человек, и символ зла. В нем нет ни единого просвета. Он весь сплошная тьма жизни, но тьма подвижная, действующая, в особенности когда она не встречает сопротивления.
Обе роли одноприродны. Они разоблачают самую сущность фашизма как социального явления, его духовное убожество и ханжеское обличье, реальную опасность бесчеловечной и злой его силы.
Царев в Вожаке и Старике проницателен и активен от ненависти. Он позволяет себе эту крайнюю, предельную концентрацию отрицательных черт, чтобы вызвать в зрителе энергию ответа и сопротивления, активность противодействия.
Интересно, что в «Старике» Царев сыграл еще одну роль — хорошего и талантливого русского человека Мастакова, у которого только одна беда: он деятель, он созидатель, но он не борец. В юности жизнь больно ударила его, и он сохранил эту пришибленность злом. Мастаков отступает почти сразу, сломлен душевно после первой же встречи со Стариком и уже не может освободиться от страха, уже сомневается не только в собственной правоте, но и в самом праве жить.
От Мастакова тянутся нити к добрейшему Егору Ильичу Ростаневу. И там и здесь — общая перед людьми и собой вина попустительства злу. Но если Егору Ильичу судьба дарит в конце концов счастье, то пассивность Мастакова кончается трагедией самоубийства.
Открыто и сильно утверждает Царев необходимость добра мужественного, бдительного, которое может и смеет постоять за себя.
В Мастакове и Старике Царев с особенной силой проявил способность мыслить в образе сложно. Постигая философию характеров, не уклоняясь от неясностей и загадок, не спеша к близлежащему и очевидному результату, актер вскрывает противоречие психологии и мироощущения героев в динамике и диалектике их развития.
В загадочной, написанной в разгар полемики о Достоевском пьесе Горького Царев сумел объяснить многое. Прежде всего причины гибели Мастакова. В странном, поспешном, неожиданном самоубийстве героя, человека деятельного и уж наверное не робкого, актер увидел чудовищную логику жизни, которая породила кошмарный тип Старика и сломала, скомкала страхом душу Мастакова. Героя убило знание подлой жизни. С юности, с того времени, как был он несправедливо осужден, Мастаков не видел ничего вокруг себя, кроме лжи и грязи. Он сам, его дело, построенное разумно и гуманно, представлялось ему исключением в общем порядке вещей. Герой жил в сознании временности, непрочности своего существования. И потому столь легкой оказалась победа Старика.
Виноват Мастаков, отказавшийся стать борцом, не нашедший опоры в себе и окружающих. Но главная причина трагедии — в самом порядке жизни, при котором хороший и благородный человек чувствует себя мнимостью, исключением, а роль судей и жрецов морали берут ничтожества и палачи, подобные Старику.
Ничтожества — об этом актер наступательно и зло сказал в финале. Осыпаемый ударами и упреками девицы, Старик — Царев и впрямь кажется человеческой малостью. Значительным и неуязвимым он был до тех пор, пока внушал страх. Но вот мираж рассеялся,
Дата публикации: 17.03.2003

МИХАИЛ ЦАРЕВ. Из сборника Малый театр 1917-1974 года. В Максимова
Говорить о Михаиле Цареве, без которого невозможно представить бытие советского Малого театра,— значит говорить о неповторимости и избранности пути большого художника, в чьем искусстве, равно обогащая друг друга, сосуществуют блестящая риторика Петербургской романтической школы и великорусское течение Малого театра, течение жизни и правды.
Говорить о Цареве — значит говорить о высокой исполнительской культуре, о верности русской актерской традиции в ее эстетическом и идейном содержании; об осознании художником своего искусства как высокой гражданской миссии.
Царев — актер редкой нерастраченности сил. Как часто, отдавая дань уважения мастеру, достигшему преклонного возраста, мы вынуждены обращаться к прошлым победам. Настоящее представляется временем заслуженного отдыха, собиранием плодов славы.
На этот раз ничуть не бывало. Достаточно вспомнить созданные за последние годы роли Вожака, Арбенина, Фамусова, горьковского Старика, Маттиаса Клаузена, чтобы почувствовать: мы являемся свидетелями интереснейшего, если не кульминационного периода в жизни артиста.
В чем причина такого творческого долголетия, великолепно сохраненной формы и постоянной готовности к художественному созиданию? Причина — в целой жизни артиста, где, не в пример иным, более легким и удачливым биографиям,- так мало было «баловства судьбы» и так много труда, самоконтроля и учебы, которая отнюдь не окончилась с выпуском из Школы русской драмы в Петрограде.
В Ревеле, провинциальном городе старой России, во времена юности Царева мало кто слышал о Станиславском и замечательном его творении — Художественном театре. Театральное искусство здесь представляли заезжие трагики-гастролеры, неудачники и скитальцы.
Тогда (в прямом согласии с данными начинающего актера) началось его увлечение романтическим театром. Тогда же родилось и не оставлявшее его всю жизнь беспокойное стремление уметь больше, быть шире и многообразней.
Царев, за которым впоследствии прочно закрепилась слава человека большой собранности, организованности и дисциплины, начинал в тревоге странствий и перемен. После недолгих сезонов в Большом драматическом театре — маленький рабочий Василеостровский театр. Потом московский Театр Корша, где беззаконно царило и буйно цвело актерское начало. Потом провинция — Махачкала, Казань, Симферополь. И снова возвращение в Ленинград, в Академический театр драмы.
Из сегодняшнего далека открывается логика этих внезапных решений. В них не было произвола случая. Были собственный выбор и воля актера. Так он искал и узнавал себя. Так он учился быть хозяином положения, не избегая опасных, но и благотворных для художника рубежных ситуаций, когда все приходится начинать заново и впервые. И позже, в трудные периоды жизни, когда по разным обстоятельствам сходили с театрального небосвода «звезды первой величины», Царев умел сохранять высоту. Даже в неудачах его ощущалось достоинство труда, достоинство отношения к делу жизни.
Судьба подарила ему немало замечательных встреч. Юность прошла под обаянием величественной и властной личности романтика, красавца, стареющего премьера Ленинградской сцены Юрия Михайловича Юрьева. Потом был Мейерхольд. Внезапностью и риском показался друзьям и коллегам молодого Царева уход к Мейерхольду. Познавший первую сладость славы, уже любимый в Ленинграде, актер шел в театр, вступавший в полосу кризиса, театр, над которым в небе 30-х годов начали сгущаться тучи.
Запомнилось, как все это было. Постаревший, совсем уже седой, с каким-то новым выражением опаленности и тревоги в чертах, но по-прежнему стремительный и легкий, Мейерхольд прибыл в Ленинград восстанавливать своего знаменитого «Дон-Жуана». В один из вечеров Царев — Дон Карлос шел в гостиницу «Астория», где обычно останавливался Мейерхольд, дабы узнать от Мастера «секретики роли». (По странной игре случая Царев не раз потом, во время ленинградских гастролей, жил именно в этом номере.) Тогда он скромно присел у двери на банкетку и стал ждать, когда Мейерхольд кончит разговаривать с театральным критиком Константином Державиным.
Мастер был увлечен. Он недавно вернулся из Парижа и видел там странную пьесу. Герои произносили реплики и тут же говорили о том, что они думают на самом деле. А Михаил Царев, сидя у двери, слушал и не слушал, дожидаясь «секретиков». И вздрогнул, когда, словно забыв о молодом госте, Мейерхольд сказал Державину: «Рассуждаю о пьесе, а думаю совсем о другом,— о том, как сманить Царева из Ленинграда, чтобы он сыграл у меня в «Даме с камелиями» Армана Дюваля».
Мейерхольдовская методика воспитания актера, пожалуй, самая загадочная страница в наследии Мастера. Михаил Царев, сыгравший у Мейерхольда Армана Дюваля и Чацкого, считает, что Мейерхольд обладал великолепным чувством актера. Он хотел от художника единственности, неповторимости существования в искусстве; ничто так не ценил, как индивидуальность и мастерски умел «подать» ее. Мейерхольд учил актера быть самим собой, не полагаться на стихию, настроение, случай, а трезво и требовательно оценивать собственные возможности и преимущества. Он утверждал в актере энергию творческого -предвидения, строгий художественный расчет.
Мейерхольдовскую «науку» не забыл Царев и придя в старейший русский театр. И вот более четырех десятилетий длится этот союз — синтез особого свойства, в котором и поначалу не было отказа от себя, торопливой готовности приспособиться, принять, повторить, как не было позже самолюбивой автономии, желания утвердиться в отделенности от всех.
Присутствие актера такого масштаба и своеобразия в коллективе лишь подтверждает сказанные когда-то А. И. Южиным слова о том, что Малый театр — «колоссальное собирательное явление».
Царев — художник особенный в богатой талантами труппе Малого театра.
А вместе с тем Царев — актер Малого театра не по случайной игре судьбы, а по внутренней сути, по праву духовного родства, по своей исполнительской вере. За это говорит высокая культура творчества, культура сценической речи в особенности, и достоинство выполнения актером своего призвания, и постоянный интерес к ролям крупных очертаний, большого общественного содержания, и чувство формы, завершенность формы, и звучащая в созданиях Царева проповедническая, романтическая, трибунная нота.
Приглашая Царева, старики Щепкинского дома — П. М. Садовский, Н. К. Яковлев, А. А. Яблочкина, М. М, Климов — видели в нем прежде всего актера классического репертуара. Он сыграл свою премьеру на сцене Малого театра 17 ноября 1938 года, в день юбилея Щепкина. И это было «Горе от ума». И это был Чацкий — роль, которая прошла через всю его жизнь: он исполнял Чацкого в Ленинграде, в провинции, у Мейерхольда (в новой редакции «Горе уму» 1935 года), и, наконец, шестнадцать лет в Малом театре, с многочисленными Фамусовыми старейшей сцены.
Вначале он играл трагедию любящего и обманутого сердца. Критики говорили, что его Чацкому не хватает сарказма, злости, горькой грибоедовской мизантропии. А он влетал чуть свет в гостиную дома Фамусова и был полон радости. И чудились длинные снежные версты, и бесконечный ритм российских дорог, и напряжение последнего рывка. Он любил подлинно. В нем была восторженность и высота пушкинского Ленского. Он спешил говорить о любви, подгоняя и без того стремительный ритм грибоедовского стиха. Его горе было от сердца, от благородства. Социальная драма начиналась с драмы любви. Любовь казалась желанным прибежищем, отдохновением от уже испытанных ударов судьбы. Но предавала и любовь. И, постепенно ожесточаясь, пристальнее всматриваясь в окружающее, Чацкий — Царев с изумлением и болью вступал в безнадежный поединок с множеством безликих и ничтожных.
В молодости Царев играл трагедию обманутого сердца, в зрелости — трагедию века.
Чеканная риторика сменила непосредственные и порывистые ритмы. Рисунок стал законченней и холодней. Ирония, язвительность и ум говорили о времени терзаний грибоедовского героя. Витийствующий и пылкий, овеянный тенями декабристов, пушкинский, грибоедовский, за Чацким вставал минувший век.
Может быть, так, на этой высоте вдохновения, не стыдясь слез и слов, в ночь декабрьского восстания прощался с друзьями первый русский якобинец Кондратий Рылеев, мученик и поэт. Этим возвышенным слогом писал из забвения Сибирской ссылки полуслепой, погибающий, не ставший ни на йоту трезвее Вильгельм Кюхельбекер. Языком возвышенных страстей изъяснялись «российские либералисты 20-х годов» — России верные сыны. Актер говорил о героях и — о времени.
Так он играл другие классические свои роли — Глумова, Жадова, Незнамова, отдаваясь стилю, тону, ритму письма Островского и всегда имея в виду живую историческую конкретность, тревогу и боль подлинной жизни.
В его Глумове («На всякого мудреца довольно простоты») ощущалась значительная фигура, человек обаятельный и незаурядный. Глумов — Царев покорял блеском импровизаций, победной силой ума. Завлекая окружающих в хитро сплетенную интригу, он увлекался сам — весь легкий, в стремительной непринужденности движений, в смелой элегантности жестов и поз. И на путь отступничества вступал, будто шутя, не отравляя дней своих ни горечью, ни сомнением. И дневник вел с веселой злостью, безмятежно уверенный в своих силах, во многих своих талантах, столь необходимых одряхлевшему миру Мамаевых и Крутицких. Постепенно в блестящей и элегантной оболочке проступала сущность героя — материальность и проза его расчетов, аморальность, беспредельный, совершенный цинизм. Глумов был безмятежен от бессердечия, неуязвим в блестящих латах бессердечия. Этим он был общественно опасен — оруженосец и рыцарь бездушного времени, утратившего идеалы.
В отверженном «подкидыше» Незнамове («Без вины виноватые») Царев разглядел художника, человека творчества прежде всего. Он не идеализировал героя. В развязности незнамовских манер, в экзальтированности слов, в претенциозной, романтической позе проступали мало привлекательные черты российской театральной провинции.
А вместе с тем Незнамов — Царев, силой обстоятельств принадлежащий .пошлой и ремесленной среде, был чужой ей. Ранимость и чуткость души, жажда служения и веры, доброта, глубоко спрятанное, человеческое достоинство — все выдавало натуру незаурядную. В браваде Незнамова звучали усталость и боль. И верилось в его художественную одаренность, и в духовную близость Кручининой — страдалице и труженице театра.
Сильнейшим моментом спектакля и роли стал последний монолог Незнамова. Здесь воедино слились боль оскорбленного новым обманом человека и — дерзость, и смелость, и вдохновенный вызов артиста миру пошлости и обмана. Отверженный и гонимый, Незнамов подымался над обществом сильных и сытых. Мелодраматический монолог звучал у Царева мужественно.
В бедном разночинце Жадове («Доходное место»), которого столь часто играли бунтарем и трибуном, Царев ушел от одномерности прочтения. Здесь все было в противоречии — идеальные устремления и убогие будни героя; прекрасные помыслы и хрупкость воли, необеспеченность мечтаний и метаний действенным, мужественным началом. Жадов Царева плохо, трудно, скудно жил, как мог долго сопротивлялся обстоятельствам. В прекрасных возвышенных словах искал забвения и отрады и на компромиссы решался мученически, загнанный в тупик. Воочию увидев крушение крупного взяточника, не спешил с самооправданием. Жизнь преподала мечтателю суровый урок. Лишь по случаю не совершилось жадовское падение. И потому в финале Царев избегал мажорных, успокоительных нот. Герой испытывал стыд и благодарил судьбу за то, что не допустила падения, и вновь верил в свою правоту. Мы оставляли его погруженным в раздумье. И снова речь шла о времени — о его соблазнах и ловушках, об измене и верности идеалам века, о распутье дней и распутье выбора; о судьбах талантливых людей, загубленных временем, и благородной силе человеческого сопротивления враждебным обстоятельствам; о святой энергии искусства, поднимающего человека над пошлостью и грязью жизни.
Творчество Царева способствовало утверждению на нашей старейшей сцене той части классического наследия, которое по тем или иным причинам в разные периоды жизни коллектива было недоступно или трудно искусству старого Малого театра. Царев — исполнитель главных ролей в спектаклях Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького.
Зрелым мастером, в полном расцвете сил, сознавая власть театральных преданий и трудность соревнования с живьши образцами, после И. М. Москвина, И. Н. Берсенева, М. Ф. Романова, Николая Симонова, актер вышел Федей Протасовым в «Живом трупе». Сознательно убирал актер блеск и мелодичность модуляций своего голоса, избегал драматических кульминаций и эмоциональных пиков, которые, казалось бы, в самом материале роли. Перед нами был человек, погруженный в себя, занятый какой-то очень сложной внутренней работой — последним раздумьем перед выбором.
Он слушал цыган — трагически неподвижный, трагически отделенный от всех. Бережно и нежно говорил с Машей, скрывая всю горечь поздней, лишенной плотских страстей любви. Случайному знакомому рассказывал историю странной своей жизни, а мы ощущали талантливого человека, не состоявшегося в Феде художника. Во всем, что бы он ни делал, проявлялись незаурядная духовная организация, ум, тревожная совестливость.
Неожиданным и новым в роли было то, что Царев играл Федю Протасова человеком, лишенным иллюзий. Его Федя уже давно составил беспощадную характеристику окружающего мира, но он не заблуждался и насчет себя. Его драма — чистого сердца и чуткой совести — была еще и драмой бессильной воли. Неспособный к противодействию, с отвращением отвернувшийся от жизни, Федя избирал уход в небытие.
«Село Степанчиково и его обитатели» Ф. Достоевского На сцене всегда становилось повествованием о Фоме Опискине, о рабе, который стал господином положения, о ханжестве и изощренности зла, рожденного убогой и нищей духом жизнью.
В Малом театре мы увидели спектакль, где подлинным героем оказался Егор Ильич Ростанев — Царев.
Мы открыли Царева — великолепного комедийного актера. Естественная, непосредственная, без нажима и подчеркивания, без грубой шаржировки, комедийность его постоянно просвечивала жизнью, подлинными жизненными проблемами. Актер разгадал сложную диалектику мысли Достоевского, который в ранней своей повести сказал о взаимовлиянии и зависимости добрых и злых начал жизни: там, где уступает добро, немедленно укореняется зло.
Царев играл совершенно доброго человека. В органике дарования актера выражать предельную, главную сущность явления или характера. В Ростаневе он увидел предельность доброты, которая будучи лишенной волевого начала, прочных идейных основ, превращается в беспочвенное прекраснодушие. Со всей энергией и активностью своего искусства Царев сказал о преступном попустительстве добра злу, об опасных последствиях человеческих компромиссов.
Его Егор Ильич был обаятелен, добр до бесконечности. Он был смешон не преувеличением, а напротив, преуменьшением своих истинных качеств. Смешна была сила самовнушения в этом человеке, несчастная способность поддаваться влиянию извне. С какой извиняющейся интонацией, запинаясь и мучительно краснея, произносил Егор Ильич вполне здравые мысли словно величайшую глупость и бестактность. Он всем хотел добра, и тем не менее оказывался причиной многих несчастий, главным виновником возвышения Фомы.
В чеховском «Иванове» актер прочитал драму крупной личности, потерпевшей крушение в «безвременье» 80-х годов. Критика писала об «инерционности» интонаций и движений, о «вялом гневе» Иванова — Царева. Это был человек конченный. И только изредка, сквозь стертые черты, простужал Иванов прежний, деятель, романтик, боец, кого так жертвенно и беззаветно полюбила Сарра. Приоткрывалась высота, с которой совершал свое падение герой.
В молодости он любил истинно. Теперь лишь принимал чужую любовь, заражался на мгновение энергией и верой Саши. Факт человеческого крушений, испепеленность Иванова были засвидетельствованы актером. Почти беспощадно говорил Царев о душевном неряшестве героя, об укоренившейся привычке к большим и малым компромиссам. Но в рефлексии и Многословии самообличений проступала настоящая _ боль. Прошлое и память о нем не отпускали. И особый смысл приобретал выстрел в финале. Актер услышал в нем приговор, но и оправдание своего героя, последнее напряжение воли, последнее мужество и честность с самим собой.
Погибал незаурядный человек, рожденный для больших дел. Несостоявшаяся, оборванная выстрелом судьба становилась обвинением порядку жизни.
Протасов, Ростанев, Иванов, Арбенин и шекспировский Макбет относятся к времени 50-х — начала 60-х годов, когда чуткий художник, Михаил Царев, переживает волнующий период обновления и подъема. В это время с особой силой обнаруживается аналитический характер дарования актера. Пафосом его творчества становится пафос постижения духовной сущности ролей. Актера манит сама сложность мысли, заложенной в образе, возможность выхода через одну мысль, одну судьбу, к широчайшим обобщениям, к проблемам бытия человека, его взаимоотношений с историей и современностью.
Характерная примета именно этого периода в жизни артиста — переосмысление своего искусства, стремительное расширение его границ.
Актер-романтик, актер высокого стиля и блестяще выверенной, отточенной формы, Царев в эти годы все глубже постигает тайну жизненного наполнения, жизненного оправдания образов. Его все более привлекает не только литературный, театральный, а именно жизненный, реальный ракурс бытия героев.
Именно с этой точки зрения замечательна одна из самых крупных работ актера в начале 60-х годов — Арбенин в лермонтовском «Маскараде».
Казалось бы, законная, даже необходимая в репертуаре Царева-романтика роль. Естественно было бы ожидать, что Царев — ученик Юрьева — продолжит «юрьевскую» линию роли, выведет на сцену классического героя, «закованного в латы блестящей театральности».
Однако актер сыграл Арбенина душевно просто, намеренно «не театрально». Для лермонтовских строф была найдена естественная и человечная интонация.
В черно-красном пространстве спектакля, где тускло мерцали люстры и дым стлался над игорными столами, где в судорожном, выморочном веселье неслышно шли маски — участники жизни-маскарада, а в звуках фантастического вальса Прокофьева изливалась тема века-фантома, призрака, блестящего и ничтожного, — блуждал и задыхался живой человек.
В согласии с постановщики спектакля Леонидом Варпаховским, прочитавшим романтическую драму молодого Лермонтова через Лермонтова зрелого, Лермонтова — великого реалиста, Царев лишил Арбенина черт демонизма. Трагедия героя, имевшая вполне реальные и объективные причины, прозвучала трагедией многих, столь же незаурядных и одаренных натур, как лермонтовский герой.
Высокомерно проходил Арбенин — Царев сквозь строй личин-масок, не сливаясь с толпой, отстраняя себя от всех. В нем ощущалось мужество вызова, в чертах и интонациях звучало горькое знание жизни. Холодность, казалось, уже стала его сущностью, но вдруг прорывалась нежданная доброта. В юном Звездиче первых картин «Маскарада» Арбенин видел и любил себя молодого, и увлекался, как в прежние годы, и шел на помощь, щедро даря свое знание и опыт.
Он отдавался любви к Нине просветленно, поклоняясь и благословляя судьбу. Но странно — в любви этой не было прочности и покоя, напротив, ощущалась загнанность, крайность положения героя. Он словно убеждал себя, и давнего приятеля своего Казарина, и целый свет в устойчивости и надежности своего нынешнего бытия. Он хотел оградить и спасти найденный рай, хотел забыть о прошлом, но не мог. Взявший на себя тяжкий крест судьи века, он оказывался пленником его. Слишком долго дышал отравленным воздухом лжи, чтобы верить в правду. Губил Нину, потому что искал улик, а не оправданий.
Роковая связь с презираемой им средой, зараженность ею сильнее всего обнаруживались в сценах карточной игры.
За зеленым столом, где рушились и возвышались надежды и судьбы, где мертво шелестели ассигнации, под тусклым светом ламп, в дыму ночных миражей, Арбенин — Царев был не только самый сильный и первый среди других, он был здесь свой. Неподвижный, бесстрастный, сидел подобно верховному магистру тайного ордена, сжигаемый холодным пламенем азарта и гнева. Нельзя было не смотреть на него, нельзя было оторваться от властных рук на зеленом сукне. И разве могла чистая и светлая Нина соперничать с этим ночным наваждением? Сам не зная того, Арбенин уже принадлежал миражному и мрачному миру. Просветом во тьме оказывалась любовь. А затем судьба заявляла свои права на героя, трагедия которого, страдание которого — неверие в светлые начала жизни.
И лишь в безумии наступало желанное отдохновение. Брошенный оземь своей виной, пытаясь подняться и не находя сил, стремительно пятился Арбенин — Царев назад и закрывал за собой дверь своего дома и — дверь жизни.
Михаил Царев — актер идеи, актер проблемы. Интерес к идейной сущности образа, к его классовому, социальному содержанию, для актера интерес естественный и органический. Социальный ракурс ролей у Царева — всегда мощный стимул творческого исследования и постижения образа.
Классические роли артиста, о которых шла речь выше, прекрасное тому свидетельство. Еще более это заметно в современном репертуаре актера, который никогда не играет одного человека, одну судьбу, но всегда — явление, тип, вызванный к жизни движением времени.
Роль генерала Огнева во «Фронте» А. Корнейчука не стала особенно заметной в биографии артиста, но был в ней один подлинно замечательный эпизод. У карты молодой генерал докладывал план будущей наступательной операции. Он начинал деловито и строго, но, постепенно одушевляясь, увлекал блеском полководческого мастерства, талантливостью, виртуозностью владения суровой профессией войны. В нем жила легкость, победность, великолепная одухотворенность высокой и святой целью. А между тем за стенами театра шел 1942 год. И еще без числа смертей и слез было до последнего дня войны. Генерал Огнев говорил у карты, а зритель военной Москвы 42-го года мысленно устремлялся в будущее, где ждала победа.
Огнев, каким играл его Царев, свидетельствовал появление нового типа военачальника, новой, рожденной в испытаниях первых месяцев войны науки побеждать. Здесь сила проявлялась не в командирской глотке (как у безнадежно отставшего Горлова), не в строгом соблюдении служебной иерархии и даже не в гипнозе личной храбрости. Здесь сила была в интеллекте, профессионализме, культуре и в абсолютном владении сложнейшим механизмом войны. Огнев умел воевать в кровной нераздельности с доверенными ему людьми, которые никогда не сливались для него в абстрактную массу, но всегда были живыми жизнями, бесценными судьбами. За каждого из них он чувствовал себя в ответе. И потому он и подобные ему неминуемо должны были победить в беспримерной войне.
В «Крыльях» А. Корнейчука, сыграв роль секретаря обкома партии Ромодана, актер сказал о важнейших переменах в нашей общественной жизни середины 50-х годов. Его Ромодан — человек с седыми волосами и мягкой улыбкой, за плечами которого нелегкая судьба, — привносил в спектакль особую нравственную атмосферу. Неизменно корректный, с чувством естественного достоинства, он шел к людям с доверием и ждал доверия в ответ. Он был человечен органически, а не по должности и инструкции соотнесенным с людьми. Он был добр. Его рабочий почерк стремителен, четок и легок. Потребность времени в человечности, доверии и доброте стала волнующим звучанием роли. Актер угадал необходимый современности тип лидера — вождя «для людей», а не «над людьми». Сильнейшими моментами роли оказались не мелодраматические, хоть и выигрышные, эпизоды с дочерью и оклеветанной когда-то женой, а именно встречи Ромодана с людьми — простыми тружениками. Царев вскрыл народные истоки характера руководителя ленинской школы, сыграл роль в ключе органической внутренней публицистики.
Эстетический аспект ролей, их формальные особенности, их стилевое качество, тональность, ритм, внутренняя музыкальность — постоянно привлекают внимание Царева-художника. Подлинный представитель Малого театра, Царев знает магическую власть слова, его многомерность, его емкость. Он очень чуток к литературному материалу, умеет использовать и передать своеобразие авторской манеры. Ему одинаково доступны стремительные ритмы афористического, ироничного, возвышенного и земного грибоедовского стиха; и живописное русское слово Островского; и чеканный, литаврами отдающий поэтический слог Лермонтова; и мудрая ясность, весомость и простота толстовской прозы; и горьковская сложность драматического языка, его фразы-формулы, фразы-загадки, и стихийное многословие, негладкость, эмоциональная открытость речей Достоевского. В работе над сложнейшей из сложных ролей — шекспировским Макбетом, в котором, как сказал Гегель, совершается «одичание души», именно через слово, лучше всего через слово Царев передал сущность Шекспира-поэта.
Часто выступающий на концертной эстраде с поэтическими программами, Михаил Царев, как и другие мастера Щепкинского дома, является хранителем нашей речевой культуры. По его произношению можно выверять правильность русских фонетических созвучий.
Сегодня артист действительно переживает великолепный период творчества, отмеченный рядом очень крупных художественных удач. Он и теперь остается верен своей влюбленности в возвышенное, романтическое начало театра. Но нынешний Царев — это прежде всего глубокий и зрелый художник-реалист.
Последние работы открыли новый диапазон Царева — характерного актера. Когда-то в юности, еще в школе Русской драмы, вразрез с общим мнением, один из педагогов предсказал романтическому юноше Цареву славу знаменитого комика Варламова. Тогда это прозвучало парадоксом. Судьба, казалось бы, прочно повела по другой стезе. Но вот в 40-е годы Царев сыграл Сезара де Базана в «Рюи Блазе» В. Гюго.
Этот беспечный и жизнерадостный оборванец, бродяга-бунтарь, в котором время от времени проступали порода и изящество бывшего гранда Испании, привносил в спектакль атмосферу особого веселья, беспечность неистребимого жизнелюбия. Потерявший все родовые привилегии, Дон Сезар обрел единственное сокровище — ему открылась прелесть естественной и вольной жизни. В нем самом бродила и переливалась вольность, богатство многих состояний и оттенков. Царев играл фламандски сочно, безоглядно щедро. Играл смеясь. «Необозримые» монологи Гюго преодолевал с головокружительной легкостью, обращал в блестящие экспромты, в артистическое откровение. Философия и мудрость его героя — жизнелюба — были абсолютно лишены назидания и скуки. Царев создавал национальный характер «гордого испанца», добровольно избравшего нищий и вольный удел, сохранившего в неприкосновенности свою честь, и — вечный тип человека, отбросившего ханжеские условности существования и радостно приветствующего каждый миг бытия.
Потом был Ростанев, теперь — Фамусов...
Однако характерность нынешнего Царева отнюдь не ограничена сферой комического, чувством нелепого, странного, смешного в образе. В ней слышатся и драматические, и трагические тона. Понимать ее следует в том единственно верном и высоком смысле, как понимал это великий Щепкин, практикой и теорией своей утверждал Станиславский, требовавший в каждой роли чуда рождения новой жизни.
В образах, созданных Царевым, проникновенное знание судьбы, условий существования, воспитания, происхождения. В отобранности и виртуозности деталей ясно читается биография, неповторимая человеческая судьба.
Как важны, оказывается, изящные холеные руки старого дипломата Репнина в «Признании» С. Дангулова. Как важна эта старомодная рыцарственность, изящество манер, благородство седин, чтобы рассказать о драме человека, слишком старого, чтобы перейти рубеж революции, чтобы принять и понять ее истинный смысл.
Как много говорит неслышный, жутко-вкрадчивый шаг горьковского Старика и весь его серый, смутный облик. Словно столб мертвого праха поднялся и неслышно движется по земле.
А книжные, мертвые, заученные интонации Вожака — Царева в «Оптимистической трагедии», изжившего свои былые убеждения и идеи и сохранившего лишь шелуху слов!
Прежний Чацкий, Михаил Царев с начала 60-х годов играет Фамусова. Оказалось, что в романтике и герое таился прекрасный художник-бытовик. Перед нами явился Фамусов — хлопотун, рачительный хозяин московской усадьбы, отец взрослой дочери.
Царев сыграл пошлость; душевную вульгарность Фамусова. Угодливая и хищная улыбка сдвигала отяжелевшие черты; то льстиво, то нагло, то угрожающе звучала старомосковская скороговорка. Не вельможа, не аристократ, представитель среднего слоя дворянства, Фамусов выгодно «торговал» взрослую дочь. Средний барин, он был и средним человеком — угодничал, как все, перед сильными и презирал слабых, был в меру моралист и в меру развратник, и крючкотвор, и взяточник, как все. Он был опасен самой распространенностью типа, сходством со средним множеством, тем самым, что держало фундамент старой жизни и не пускало свежие и молодые силы.
Роли последних лет мощно аккумулировали и выявили еще одно принципиальное качество актера. Царев — знаток и толкователь не только человеческой психологии вообще, но социальной психологии по преимуществу. Его часто и по справедливости называют актером политическим.
И потому потрясением и неожиданностью стал для всех его Вожак в «Оптимистической трагедии», образ, в котором после спектакля-легенды в Камерном, после сравнительно недавней ленинградской постановки Товстоногова с великолепным Толубеевым в этой роли, все, казалось, было уже найдено, отлито в окончательные формы.
Всегда в Вожаке звучало звериное, мускульное, анархически-грозное начало. И ум был звериный — изворотливый и беспощадный инстинкт хищника.
Вожак — Царев поражал сразу необычностью внешнего облика — стертостью черт, покатыми, слабыми плечами, мертвой ровностью и книжностью речи, вялой походкой и совсем уже неожиданным интеллигентским пенсне. Царев нашел свое объяснение странной и страшной власти этого человека над матросской вольницей. Тайна влияния была в прошлом — в «страдании», которое принял Вожак на царской каторге и за которое желал получить сполна. Власть Вожака — в его ореоле мученика и борца. Повторилась в спектакле одна странная мизансцена. В самые напряженные моменты действия Вожак вдруг усаживался, скрестив руки на груди, плотно и прочно поставив ступни ног на землю, и так замирал — неподвижно, молча, долго. В стороне от всех и возвышаясь над всеми. В смешной, но и пугающей позе было нечто каменное и неживое. Словно он стилизовал себя под монумент, напоминая о своей избранности.
Пожалуй, впервые так откровенно обнажалась сила брезгливой нелюбви Вожака к людям. Прочитавший много книг, слышавший множество умных споров, Вожак завораживал толпу гипнозом слов. Замечательно и на этот раз разработал актер речевую характеристику персонажа. Слова падали холодно и ровно. Мысль, заключенная в них, давно уже прискучила Вожаку. Давно изверился он в прежних кумирах. Уверенное и снисходительное назидание звучало в интонациях, привычная скука, высокомерное презрение к «тупой» толпе.
Он отгораживался от людей прочной стеной слов. Разговаривая с другими, Вожак слышал себя. «Логично?» — спрашивал он, отправляя на казнь двух несчастных калек-офицеров, и отвечал себе, единственно важному, самому главному, — «логично».
Исподволь открывались тайны этой темной и жестокой души. Ясно читалось прошлое и неминуемое возмездие в настоящем. Будущего не было. Гуманность, светозарность и справедливость революции, совершающейся людьми и для людей, отменяла, делала недействительным этого живого мертвеца. Взявший беззаконно власть, ренегат и отступник, снедаемый бешеным честолюбием, Вожак не имел права существовать.
Именно потому, что Царев никогда не замыкается в границах одной судьбы, в частностях отдельной жизни, столь легко обнаружить созвучие, единство некоторых его образов. Продолжая, развивая, уточняя друг друга, роли Царева как бы выстраиваются в типологические ряды и в непрерывности художественного процесса дают явление в его социальной, исторической, психологической полноте и исчерпанности.
Так, Вожак был продолжен сыгранным позже Стариком, сложнейшей и загадочной ролью горьковского репертуара. Сколько здесь общего! Ореол мученичества и желание получить сполна за «страдание». Высокомерная претензия быть судьей и вершителем судеб. Общая ненависть к людям, для которых Старик находит столь точное и презрительное — «обрыдли». Все то же стремление затопить мир страхом, подчинить, сковать, поставить на колени живую человеческую душу. И алчность, и жадность к земным благам, и ханжеские проповеди о высоких материях.
Старик Царева — это и реальный человек, и символ зла. В нем нет ни единого просвета. Он весь сплошная тьма жизни, но тьма подвижная, действующая, в особенности когда она не встречает сопротивления.
Обе роли одноприродны. Они разоблачают самую сущность фашизма как социального явления, его духовное убожество и ханжеское обличье, реальную опасность бесчеловечной и злой его силы.
Царев в Вожаке и Старике проницателен и активен от ненависти. Он позволяет себе эту крайнюю, предельную концентрацию отрицательных черт, чтобы вызвать в зрителе энергию ответа и сопротивления, активность противодействия.
Интересно, что в «Старике» Царев сыграл еще одну роль — хорошего и талантливого русского человека Мастакова, у которого только одна беда: он деятель, он созидатель, но он не борец. В юности жизнь больно ударила его, и он сохранил эту пришибленность злом. Мастаков отступает почти сразу, сломлен душевно после первой же встречи со Стариком и уже не может освободиться от страха, уже сомневается не только в собственной правоте, но и в самом праве жить.
От Мастакова тянутся нити к добрейшему Егору Ильичу Ростаневу. И там и здесь — общая перед людьми и собой вина попустительства злу. Но если Егору Ильичу судьба дарит в конце концов счастье, то пассивность Мастакова кончается трагедией самоубийства.
Открыто и сильно утверждает Царев необходимость добра мужественного, бдительного, которое может и смеет постоять за себя.
В Мастакове и Старике Царев с особенной силой проявил способность мыслить в образе сложно. Постигая философию характеров, не уклоняясь от неясностей и загадок, не спеша к близлежащему и очевидному результату, актер вскрывает противоречие психологии и мироощущения героев в динамике и диалектике их развития.
В загадочной, написанной в разгар полемики о Достоевском пьесе Горького Царев сумел объяснить многое. Прежде всего причины гибели Мастакова. В странном, поспешном, неожиданном самоубийстве героя, человека деятельного и уж наверное не робкого, актер увидел чудовищную логику жизни, которая породила кошмарный тип Старика и сломала, скомкала страхом душу Мастакова. Героя убило знание подлой жизни. С юности, с того времени, как был он несправедливо осужден, Мастаков не видел ничего вокруг себя, кроме лжи и грязи. Он сам, его дело, построенное разумно и гуманно, представлялось ему исключением в общем порядке вещей. Герой жил в сознании временности, непрочности своего существования. И потому столь легкой оказалась победа Старика.
Виноват Мастаков, отказавшийся стать борцом, не нашедший опоры в себе и окружающих. Но главная причина трагедии — в самом порядке жизни, при котором хороший и благородный человек чувствует себя мнимостью, исключением, а роль судей и жрецов морали берут ничтожества и палачи, подобные Старику.
Ничтожества — об этом актер наступательно и зло сказал в финале. Осыпаемый ударами и упреками девицы, Старик — Царев и впрямь кажется человеческой малостью. Значительным и неуязвимым он был до тех пор, пока внушал страх. Но вот мираж рассеялся,
Говорить о Михаиле Цареве, без которого невозможно представить бытие советского Малого театра,— значит говорить о неповторимости и избранности пути большого художника, в чьем искусстве, равно обогащая друг друга, сосуществуют блестящая риторика Петербургской романтической школы и великорусское течение Малого театра, течение жизни и правды.
Говорить о Цареве — значит говорить о высокой исполнительской культуре, о верности русской актерской традиции в ее эстетическом и идейном содержании; об осознании художником своего искусства как высокой гражданской миссии.
Царев — актер редкой нерастраченности сил. Как часто, отдавая дань уважения мастеру, достигшему преклонного возраста, мы вынуждены обращаться к прошлым победам. Настоящее представляется временем заслуженного отдыха, собиранием плодов славы.
На этот раз ничуть не бывало. Достаточно вспомнить созданные за последние годы роли Вожака, Арбенина, Фамусова, горьковского Старика, Маттиаса Клаузена, чтобы почувствовать: мы являемся свидетелями интереснейшего, если не кульминационного периода в жизни артиста.
В чем причина такого творческого долголетия, великолепно сохраненной формы и постоянной готовности к художественному созиданию? Причина — в целой жизни артиста, где, не в пример иным, более легким и удачливым биографиям,- так мало было «баловства судьбы» и так много труда, самоконтроля и учебы, которая отнюдь не окончилась с выпуском из Школы русской драмы в Петрограде.
В Ревеле, провинциальном городе старой России, во времена юности Царева мало кто слышал о Станиславском и замечательном его творении — Художественном театре. Театральное искусство здесь представляли заезжие трагики-гастролеры, неудачники и скитальцы.
Тогда (в прямом согласии с данными начинающего актера) началось его увлечение романтическим театром. Тогда же родилось и не оставлявшее его всю жизнь беспокойное стремление уметь больше, быть шире и многообразней.
Царев, за которым впоследствии прочно закрепилась слава человека большой собранности, организованности и дисциплины, начинал в тревоге странствий и перемен. После недолгих сезонов в Большом драматическом театре — маленький рабочий Василеостровский театр. Потом московский Театр Корша, где беззаконно царило и буйно цвело актерское начало. Потом провинция — Махачкала, Казань, Симферополь. И снова возвращение в Ленинград, в Академический театр драмы.
Из сегодняшнего далека открывается логика этих внезапных решений. В них не было произвола случая. Были собственный выбор и воля актера. Так он искал и узнавал себя. Так он учился быть хозяином положения, не избегая опасных, но и благотворных для художника рубежных ситуаций, когда все приходится начинать заново и впервые. И позже, в трудные периоды жизни, когда по разным обстоятельствам сходили с театрального небосвода «звезды первой величины», Царев умел сохранять высоту. Даже в неудачах его ощущалось достоинство труда, достоинство отношения к делу жизни.
Судьба подарила ему немало замечательных встреч. Юность прошла под обаянием величественной и властной личности романтика, красавца, стареющего премьера Ленинградской сцены Юрия Михайловича Юрьева. Потом был Мейерхольд. Внезапностью и риском показался друзьям и коллегам молодого Царева уход к Мейерхольду. Познавший первую сладость славы, уже любимый в Ленинграде, актер шел в театр, вступавший в полосу кризиса, театр, над которым в небе 30-х годов начали сгущаться тучи.
Запомнилось, как все это было. Постаревший, совсем уже седой, с каким-то новым выражением опаленности и тревоги в чертах, но по-прежнему стремительный и легкий, Мейерхольд прибыл в Ленинград восстанавливать своего знаменитого «Дон-Жуана». В один из вечеров Царев — Дон Карлос шел в гостиницу «Астория», где обычно останавливался Мейерхольд, дабы узнать от Мастера «секретики роли». (По странной игре случая Царев не раз потом, во время ленинградских гастролей, жил именно в этом номере.) Тогда он скромно присел у двери на банкетку и стал ждать, когда Мейерхольд кончит разговаривать с театральным критиком Константином Державиным.
Мастер был увлечен. Он недавно вернулся из Парижа и видел там странную пьесу. Герои произносили реплики и тут же говорили о том, что они думают на самом деле. А Михаил Царев, сидя у двери, слушал и не слушал, дожидаясь «секретиков». И вздрогнул, когда, словно забыв о молодом госте, Мейерхольд сказал Державину: «Рассуждаю о пьесе, а думаю совсем о другом,— о том, как сманить Царева из Ленинграда, чтобы он сыграл у меня в «Даме с камелиями» Армана Дюваля».
Мейерхольдовская методика воспитания актера, пожалуй, самая загадочная страница в наследии Мастера. Михаил Царев, сыгравший у Мейерхольда Армана Дюваля и Чацкого, считает, что Мейерхольд обладал великолепным чувством актера. Он хотел от художника единственности, неповторимости существования в искусстве; ничто так не ценил, как индивидуальность и мастерски умел «подать» ее. Мейерхольд учил актера быть самим собой, не полагаться на стихию, настроение, случай, а трезво и требовательно оценивать собственные возможности и преимущества. Он утверждал в актере энергию творческого -предвидения, строгий художественный расчет.
Мейерхольдовскую «науку» не забыл Царев и придя в старейший русский театр. И вот более четырех десятилетий длится этот союз — синтез особого свойства, в котором и поначалу не было отказа от себя, торопливой готовности приспособиться, принять, повторить, как не было позже самолюбивой автономии, желания утвердиться в отделенности от всех.
Присутствие актера такого масштаба и своеобразия в коллективе лишь подтверждает сказанные когда-то А. И. Южиным слова о том, что Малый театр — «колоссальное собирательное явление».
Царев — художник особенный в богатой талантами труппе Малого театра.
А вместе с тем Царев — актер Малого театра не по случайной игре судьбы, а по внутренней сути, по праву духовного родства, по своей исполнительской вере. За это говорит высокая культура творчества, культура сценической речи в особенности, и достоинство выполнения актером своего призвания, и постоянный интерес к ролям крупных очертаний, большого общественного содержания, и чувство формы, завершенность формы, и звучащая в созданиях Царева проповедническая, романтическая, трибунная нота.
Приглашая Царева, старики Щепкинского дома — П. М. Садовский, Н. К. Яковлев, А. А. Яблочкина, М. М, Климов — видели в нем прежде всего актера классического репертуара. Он сыграл свою премьеру на сцене Малого театра 17 ноября 1938 года, в день юбилея Щепкина. И это было «Горе от ума». И это был Чацкий — роль, которая прошла через всю его жизнь: он исполнял Чацкого в Ленинграде, в провинции, у Мейерхольда (в новой редакции «Горе уму» 1935 года), и, наконец, шестнадцать лет в Малом театре, с многочисленными Фамусовыми старейшей сцены.
Вначале он играл трагедию любящего и обманутого сердца. Критики говорили, что его Чацкому не хватает сарказма, злости, горькой грибоедовской мизантропии. А он влетал чуть свет в гостиную дома Фамусова и был полон радости. И чудились длинные снежные версты, и бесконечный ритм российских дорог, и напряжение последнего рывка. Он любил подлинно. В нем была восторженность и высота пушкинского Ленского. Он спешил говорить о любви, подгоняя и без того стремительный ритм грибоедовского стиха. Его горе было от сердца, от благородства. Социальная драма начиналась с драмы любви. Любовь казалась желанным прибежищем, отдохновением от уже испытанных ударов судьбы. Но предавала и любовь. И, постепенно ожесточаясь, пристальнее всматриваясь в окружающее, Чацкий — Царев с изумлением и болью вступал в безнадежный поединок с множеством безликих и ничтожных.
В молодости Царев играл трагедию обманутого сердца, в зрелости — трагедию века.
Чеканная риторика сменила непосредственные и порывистые ритмы. Рисунок стал законченней и холодней. Ирония, язвительность и ум говорили о времени терзаний грибоедовского героя. Витийствующий и пылкий, овеянный тенями декабристов, пушкинский, грибоедовский, за Чацким вставал минувший век.
Может быть, так, на этой высоте вдохновения, не стыдясь слез и слов, в ночь декабрьского восстания прощался с друзьями первый русский якобинец Кондратий Рылеев, мученик и поэт. Этим возвышенным слогом писал из забвения Сибирской ссылки полуслепой, погибающий, не ставший ни на йоту трезвее Вильгельм Кюхельбекер. Языком возвышенных страстей изъяснялись «российские либералисты 20-х годов» — России верные сыны. Актер говорил о героях и — о времени.
Так он играл другие классические свои роли — Глумова, Жадова, Незнамова, отдаваясь стилю, тону, ритму письма Островского и всегда имея в виду живую историческую конкретность, тревогу и боль подлинной жизни.
В его Глумове («На всякого мудреца довольно простоты») ощущалась значительная фигура, человек обаятельный и незаурядный. Глумов — Царев покорял блеском импровизаций, победной силой ума. Завлекая окружающих в хитро сплетенную интригу, он увлекался сам — весь легкий, в стремительной непринужденности движений, в смелой элегантности жестов и поз. И на путь отступничества вступал, будто шутя, не отравляя дней своих ни горечью, ни сомнением. И дневник вел с веселой злостью, безмятежно уверенный в своих силах, во многих своих талантах, столь необходимых одряхлевшему миру Мамаевых и Крутицких. Постепенно в блестящей и элегантной оболочке проступала сущность героя — материальность и проза его расчетов, аморальность, беспредельный, совершенный цинизм. Глумов был безмятежен от бессердечия, неуязвим в блестящих латах бессердечия. Этим он был общественно опасен — оруженосец и рыцарь бездушного времени, утратившего идеалы.
В отверженном «подкидыше» Незнамове («Без вины виноватые») Царев разглядел художника, человека творчества прежде всего. Он не идеализировал героя. В развязности незнамовских манер, в экзальтированности слов, в претенциозной, романтической позе проступали мало привлекательные черты российской театральной провинции.
А вместе с тем Незнамов — Царев, силой обстоятельств принадлежащий .пошлой и ремесленной среде, был чужой ей. Ранимость и чуткость души, жажда служения и веры, доброта, глубоко спрятанное, человеческое достоинство — все выдавало натуру незаурядную. В браваде Незнамова звучали усталость и боль. И верилось в его художественную одаренность, и в духовную близость Кручининой — страдалице и труженице театра.
Сильнейшим моментом спектакля и роли стал последний монолог Незнамова. Здесь воедино слились боль оскорбленного новым обманом человека и — дерзость, и смелость, и вдохновенный вызов артиста миру пошлости и обмана. Отверженный и гонимый, Незнамов подымался над обществом сильных и сытых. Мелодраматический монолог звучал у Царева мужественно.
В бедном разночинце Жадове («Доходное место»), которого столь часто играли бунтарем и трибуном, Царев ушел от одномерности прочтения. Здесь все было в противоречии — идеальные устремления и убогие будни героя; прекрасные помыслы и хрупкость воли, необеспеченность мечтаний и метаний действенным, мужественным началом. Жадов Царева плохо, трудно, скудно жил, как мог долго сопротивлялся обстоятельствам. В прекрасных возвышенных словах искал забвения и отрады и на компромиссы решался мученически, загнанный в тупик. Воочию увидев крушение крупного взяточника, не спешил с самооправданием. Жизнь преподала мечтателю суровый урок. Лишь по случаю не совершилось жадовское падение. И потому в финале Царев избегал мажорных, успокоительных нот. Герой испытывал стыд и благодарил судьбу за то, что не допустила падения, и вновь верил в свою правоту. Мы оставляли его погруженным в раздумье. И снова речь шла о времени — о его соблазнах и ловушках, об измене и верности идеалам века, о распутье дней и распутье выбора; о судьбах талантливых людей, загубленных временем, и благородной силе человеческого сопротивления враждебным обстоятельствам; о святой энергии искусства, поднимающего человека над пошлостью и грязью жизни.
Творчество Царева способствовало утверждению на нашей старейшей сцене той части классического наследия, которое по тем или иным причинам в разные периоды жизни коллектива было недоступно или трудно искусству старого Малого театра. Царев — исполнитель главных ролей в спектаклях Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького.
Зрелым мастером, в полном расцвете сил, сознавая власть театральных преданий и трудность соревнования с живьши образцами, после И. М. Москвина, И. Н. Берсенева, М. Ф. Романова, Николая Симонова, актер вышел Федей Протасовым в «Живом трупе». Сознательно убирал актер блеск и мелодичность модуляций своего голоса, избегал драматических кульминаций и эмоциональных пиков, которые, казалось бы, в самом материале роли. Перед нами был человек, погруженный в себя, занятый какой-то очень сложной внутренней работой — последним раздумьем перед выбором.
Он слушал цыган — трагически неподвижный, трагически отделенный от всех. Бережно и нежно говорил с Машей, скрывая всю горечь поздней, лишенной плотских страстей любви. Случайному знакомому рассказывал историю странной своей жизни, а мы ощущали талантливого человека, не состоявшегося в Феде художника. Во всем, что бы он ни делал, проявлялись незаурядная духовная организация, ум, тревожная совестливость.
Неожиданным и новым в роли было то, что Царев играл Федю Протасова человеком, лишенным иллюзий. Его Федя уже давно составил беспощадную характеристику окружающего мира, но он не заблуждался и насчет себя. Его драма — чистого сердца и чуткой совести — была еще и драмой бессильной воли. Неспособный к противодействию, с отвращением отвернувшийся от жизни, Федя избирал уход в небытие.
«Село Степанчиково и его обитатели» Ф. Достоевского На сцене всегда становилось повествованием о Фоме Опискине, о рабе, который стал господином положения, о ханжестве и изощренности зла, рожденного убогой и нищей духом жизнью.
В Малом театре мы увидели спектакль, где подлинным героем оказался Егор Ильич Ростанев — Царев.
Мы открыли Царева — великолепного комедийного актера. Естественная, непосредственная, без нажима и подчеркивания, без грубой шаржировки, комедийность его постоянно просвечивала жизнью, подлинными жизненными проблемами. Актер разгадал сложную диалектику мысли Достоевского, который в ранней своей повести сказал о взаимовлиянии и зависимости добрых и злых начал жизни: там, где уступает добро, немедленно укореняется зло.
Царев играл совершенно доброго человека. В органике дарования актера выражать предельную, главную сущность явления или характера. В Ростаневе он увидел предельность доброты, которая будучи лишенной волевого начала, прочных идейных основ, превращается в беспочвенное прекраснодушие. Со всей энергией и активностью своего искусства Царев сказал о преступном попустительстве добра злу, об опасных последствиях человеческих компромиссов.
Его Егор Ильич был обаятелен, добр до бесконечности. Он был смешон не преувеличением, а напротив, преуменьшением своих истинных качеств. Смешна была сила самовнушения в этом человеке, несчастная способность поддаваться влиянию извне. С какой извиняющейся интонацией, запинаясь и мучительно краснея, произносил Егор Ильич вполне здравые мысли словно величайшую глупость и бестактность. Он всем хотел добра, и тем не менее оказывался причиной многих несчастий, главным виновником возвышения Фомы.
В чеховском «Иванове» актер прочитал драму крупной личности, потерпевшей крушение в «безвременье» 80-х годов. Критика писала об «инерционности» интонаций и движений, о «вялом гневе» Иванова — Царева. Это был человек конченный. И только изредка, сквозь стертые черты, простужал Иванов прежний, деятель, романтик, боец, кого так жертвенно и беззаветно полюбила Сарра. Приоткрывалась высота, с которой совершал свое падение герой.
В молодости он любил истинно. Теперь лишь принимал чужую любовь, заражался на мгновение энергией и верой Саши. Факт человеческого крушений, испепеленность Иванова были засвидетельствованы актером. Почти беспощадно говорил Царев о душевном неряшестве героя, об укоренившейся привычке к большим и малым компромиссам. Но в рефлексии и Многословии самообличений проступала настоящая _ боль. Прошлое и память о нем не отпускали. И особый смысл приобретал выстрел в финале. Актер услышал в нем приговор, но и оправдание своего героя, последнее напряжение воли, последнее мужество и честность с самим собой.
Погибал незаурядный человек, рожденный для больших дел. Несостоявшаяся, оборванная выстрелом судьба становилась обвинением порядку жизни.
Протасов, Ростанев, Иванов, Арбенин и шекспировский Макбет относятся к времени 50-х — начала 60-х годов, когда чуткий художник, Михаил Царев, переживает волнующий период обновления и подъема. В это время с особой силой обнаруживается аналитический характер дарования актера. Пафосом его творчества становится пафос постижения духовной сущности ролей. Актера манит сама сложность мысли, заложенной в образе, возможность выхода через одну мысль, одну судьбу, к широчайшим обобщениям, к проблемам бытия человека, его взаимоотношений с историей и современностью.
Характерная примета именно этого периода в жизни артиста — переосмысление своего искусства, стремительное расширение его границ.
Актер-романтик, актер высокого стиля и блестяще выверенной, отточенной формы, Царев в эти годы все глубже постигает тайну жизненного наполнения, жизненного оправдания образов. Его все более привлекает не только литературный, театральный, а именно жизненный, реальный ракурс бытия героев.
Именно с этой точки зрения замечательна одна из самых крупных работ актера в начале 60-х годов — Арбенин в лермонтовском «Маскараде».
Казалось бы, законная, даже необходимая в репертуаре Царева-романтика роль. Естественно было бы ожидать, что Царев — ученик Юрьева — продолжит «юрьевскую» линию роли, выведет на сцену классического героя, «закованного в латы блестящей театральности».
Однако актер сыграл Арбенина душевно просто, намеренно «не театрально». Для лермонтовских строф была найдена естественная и человечная интонация.
В черно-красном пространстве спектакля, где тускло мерцали люстры и дым стлался над игорными столами, где в судорожном, выморочном веселье неслышно шли маски — участники жизни-маскарада, а в звуках фантастического вальса Прокофьева изливалась тема века-фантома, призрака, блестящего и ничтожного, — блуждал и задыхался живой человек.
В согласии с постановщики спектакля Леонидом Варпаховским, прочитавшим романтическую драму молодого Лермонтова через Лермонтова зрелого, Лермонтова — великого реалиста, Царев лишил Арбенина черт демонизма. Трагедия героя, имевшая вполне реальные и объективные причины, прозвучала трагедией многих, столь же незаурядных и одаренных натур, как лермонтовский герой.
Высокомерно проходил Арбенин — Царев сквозь строй личин-масок, не сливаясь с толпой, отстраняя себя от всех. В нем ощущалось мужество вызова, в чертах и интонациях звучало горькое знание жизни. Холодность, казалось, уже стала его сущностью, но вдруг прорывалась нежданная доброта. В юном Звездиче первых картин «Маскарада» Арбенин видел и любил себя молодого, и увлекался, как в прежние годы, и шел на помощь, щедро даря свое знание и опыт.
Он отдавался любви к Нине просветленно, поклоняясь и благословляя судьбу. Но странно — в любви этой не было прочности и покоя, напротив, ощущалась загнанность, крайность положения героя. Он словно убеждал себя, и давнего приятеля своего Казарина, и целый свет в устойчивости и надежности своего нынешнего бытия. Он хотел оградить и спасти найденный рай, хотел забыть о прошлом, но не мог. Взявший на себя тяжкий крест судьи века, он оказывался пленником его. Слишком долго дышал отравленным воздухом лжи, чтобы верить в правду. Губил Нину, потому что искал улик, а не оправданий.
Роковая связь с презираемой им средой, зараженность ею сильнее всего обнаруживались в сценах карточной игры.
За зеленым столом, где рушились и возвышались надежды и судьбы, где мертво шелестели ассигнации, под тусклым светом ламп, в дыму ночных миражей, Арбенин — Царев был не только самый сильный и первый среди других, он был здесь свой. Неподвижный, бесстрастный, сидел подобно верховному магистру тайного ордена, сжигаемый холодным пламенем азарта и гнева. Нельзя было не смотреть на него, нельзя было оторваться от властных рук на зеленом сукне. И разве могла чистая и светлая Нина соперничать с этим ночным наваждением? Сам не зная того, Арбенин уже принадлежал миражному и мрачному миру. Просветом во тьме оказывалась любовь. А затем судьба заявляла свои права на героя, трагедия которого, страдание которого — неверие в светлые начала жизни.
И лишь в безумии наступало желанное отдохновение. Брошенный оземь своей виной, пытаясь подняться и не находя сил, стремительно пятился Арбенин — Царев назад и закрывал за собой дверь своего дома и — дверь жизни.
Михаил Царев — актер идеи, актер проблемы. Интерес к идейной сущности образа, к его классовому, социальному содержанию, для актера интерес естественный и органический. Социальный ракурс ролей у Царева — всегда мощный стимул творческого исследования и постижения образа.
Классические роли артиста, о которых шла речь выше, прекрасное тому свидетельство. Еще более это заметно в современном репертуаре актера, который никогда не играет одного человека, одну судьбу, но всегда — явление, тип, вызванный к жизни движением времени.
Роль генерала Огнева во «Фронте» А. Корнейчука не стала особенно заметной в биографии артиста, но был в ней один подлинно замечательный эпизод. У карты молодой генерал докладывал план будущей наступательной операции. Он начинал деловито и строго, но, постепенно одушевляясь, увлекал блеском полководческого мастерства, талантливостью, виртуозностью владения суровой профессией войны. В нем жила легкость, победность, великолепная одухотворенность высокой и святой целью. А между тем за стенами театра шел 1942 год. И еще без числа смертей и слез было до последнего дня войны. Генерал Огнев говорил у карты, а зритель военной Москвы 42-го года мысленно устремлялся в будущее, где ждала победа.
Огнев, каким играл его Царев, свидетельствовал появление нового типа военачальника, новой, рожденной в испытаниях первых месяцев войны науки побеждать. Здесь сила проявлялась не в командирской глотке (как у безнадежно отставшего Горлова), не в строгом соблюдении служебной иерархии и даже не в гипнозе личной храбрости. Здесь сила была в интеллекте, профессионализме, культуре и в абсолютном владении сложнейшим механизмом войны. Огнев умел воевать в кровной нераздельности с доверенными ему людьми, которые никогда не сливались для него в абстрактную массу, но всегда были живыми жизнями, бесценными судьбами. За каждого из них он чувствовал себя в ответе. И потому он и подобные ему неминуемо должны были победить в беспримерной войне.
В «Крыльях» А. Корнейчука, сыграв роль секретаря обкома партии Ромодана, актер сказал о важнейших переменах в нашей общественной жизни середины 50-х годов. Его Ромодан — человек с седыми волосами и мягкой улыбкой, за плечами которого нелегкая судьба, — привносил в спектакль особую нравственную атмосферу. Неизменно корректный, с чувством естественного достоинства, он шел к людям с доверием и ждал доверия в ответ. Он был человечен органически, а не по должности и инструкции соотнесенным с людьми. Он был добр. Его рабочий почерк стремителен, четок и легок. Потребность времени в человечности, доверии и доброте стала волнующим звучанием роли. Актер угадал необходимый современности тип лидера — вождя «для людей», а не «над людьми». Сильнейшими моментами роли оказались не мелодраматические, хоть и выигрышные, эпизоды с дочерью и оклеветанной когда-то женой, а именно встречи Ромодана с людьми — простыми тружениками. Царев вскрыл народные истоки характера руководителя ленинской школы, сыграл роль в ключе органической внутренней публицистики.
Эстетический аспект ролей, их формальные особенности, их стилевое качество, тональность, ритм, внутренняя музыкальность — постоянно привлекают внимание Царева-художника. Подлинный представитель Малого театра, Царев знает магическую власть слова, его многомерность, его емкость. Он очень чуток к литературному материалу, умеет использовать и передать своеобразие авторской манеры. Ему одинаково доступны стремительные ритмы афористического, ироничного, возвышенного и земного грибоедовского стиха; и живописное русское слово Островского; и чеканный, литаврами отдающий поэтический слог Лермонтова; и мудрая ясность, весомость и простота толстовской прозы; и горьковская сложность драматического языка, его фразы-формулы, фразы-загадки, и стихийное многословие, негладкость, эмоциональная открытость речей Достоевского. В работе над сложнейшей из сложных ролей — шекспировским Макбетом, в котором, как сказал Гегель, совершается «одичание души», именно через слово, лучше всего через слово Царев передал сущность Шекспира-поэта.
Часто выступающий на концертной эстраде с поэтическими программами, Михаил Царев, как и другие мастера Щепкинского дома, является хранителем нашей речевой культуры. По его произношению можно выверять правильность русских фонетических созвучий.
Сегодня артист действительно переживает великолепный период творчества, отмеченный рядом очень крупных художественных удач. Он и теперь остается верен своей влюбленности в возвышенное, романтическое начало театра. Но нынешний Царев — это прежде всего глубокий и зрелый художник-реалист.
Последние работы открыли новый диапазон Царева — характерного актера. Когда-то в юности, еще в школе Русской драмы, вразрез с общим мнением, один из педагогов предсказал романтическому юноше Цареву славу знаменитого комика Варламова. Тогда это прозвучало парадоксом. Судьба, казалось бы, прочно повела по другой стезе. Но вот в 40-е годы Царев сыграл Сезара де Базана в «Рюи Блазе» В. Гюго.
Этот беспечный и жизнерадостный оборванец, бродяга-бунтарь, в котором время от времени проступали порода и изящество бывшего гранда Испании, привносил в спектакль атмосферу особого веселья, беспечность неистребимого жизнелюбия. Потерявший все родовые привилегии, Дон Сезар обрел единственное сокровище — ему открылась прелесть естественной и вольной жизни. В нем самом бродила и переливалась вольность, богатство многих состояний и оттенков. Царев играл фламандски сочно, безоглядно щедро. Играл смеясь. «Необозримые» монологи Гюго преодолевал с головокружительной легкостью, обращал в блестящие экспромты, в артистическое откровение. Философия и мудрость его героя — жизнелюба — были абсолютно лишены назидания и скуки. Царев создавал национальный характер «гордого испанца», добровольно избравшего нищий и вольный удел, сохранившего в неприкосновенности свою честь, и — вечный тип человека, отбросившего ханжеские условности существования и радостно приветствующего каждый миг бытия.
Потом был Ростанев, теперь — Фамусов...
Однако характерность нынешнего Царева отнюдь не ограничена сферой комического, чувством нелепого, странного, смешного в образе. В ней слышатся и драматические, и трагические тона. Понимать ее следует в том единственно верном и высоком смысле, как понимал это великий Щепкин, практикой и теорией своей утверждал Станиславский, требовавший в каждой роли чуда рождения новой жизни.
В образах, созданных Царевым, проникновенное знание судьбы, условий существования, воспитания, происхождения. В отобранности и виртуозности деталей ясно читается биография, неповторимая человеческая судьба.
Как важны, оказывается, изящные холеные руки старого дипломата Репнина в «Признании» С. Дангулова. Как важна эта старомодная рыцарственность, изящество манер, благородство седин, чтобы рассказать о драме человека, слишком старого, чтобы перейти рубеж революции, чтобы принять и понять ее истинный смысл.
Как много говорит неслышный, жутко-вкрадчивый шаг горьковского Старика и весь его серый, смутный облик. Словно столб мертвого праха поднялся и неслышно движется по земле.
А книжные, мертвые, заученные интонации Вожака — Царева в «Оптимистической трагедии», изжившего свои былые убеждения и идеи и сохранившего лишь шелуху слов!
Прежний Чацкий, Михаил Царев с начала 60-х годов играет Фамусова. Оказалось, что в романтике и герое таился прекрасный художник-бытовик. Перед нами явился Фамусов — хлопотун, рачительный хозяин московской усадьбы, отец взрослой дочери.
Царев сыграл пошлость; душевную вульгарность Фамусова. Угодливая и хищная улыбка сдвигала отяжелевшие черты; то льстиво, то нагло, то угрожающе звучала старомосковская скороговорка. Не вельможа, не аристократ, представитель среднего слоя дворянства, Фамусов выгодно «торговал» взрослую дочь. Средний барин, он был и средним человеком — угодничал, как все, перед сильными и презирал слабых, был в меру моралист и в меру развратник, и крючкотвор, и взяточник, как все. Он был опасен самой распространенностью типа, сходством со средним множеством, тем самым, что держало фундамент старой жизни и не пускало свежие и молодые силы.
Роли последних лет мощно аккумулировали и выявили еще одно принципиальное качество актера. Царев — знаток и толкователь не только человеческой психологии вообще, но социальной психологии по преимуществу. Его часто и по справедливости называют актером политическим.
И потому потрясением и неожиданностью стал для всех его Вожак в «Оптимистической трагедии», образ, в котором после спектакля-легенды в Камерном, после сравнительно недавней ленинградской постановки Товстоногова с великолепным Толубеевым в этой роли, все, казалось, было уже найдено, отлито в окончательные формы.
Всегда в Вожаке звучало звериное, мускульное, анархически-грозное начало. И ум был звериный — изворотливый и беспощадный инстинкт хищника.
Вожак — Царев поражал сразу необычностью внешнего облика — стертостью черт, покатыми, слабыми плечами, мертвой ровностью и книжностью речи, вялой походкой и совсем уже неожиданным интеллигентским пенсне. Царев нашел свое объяснение странной и страшной власти этого человека над матросской вольницей. Тайна влияния была в прошлом — в «страдании», которое принял Вожак на царской каторге и за которое желал получить сполна. Власть Вожака — в его ореоле мученика и борца. Повторилась в спектакле одна странная мизансцена. В самые напряженные моменты действия Вожак вдруг усаживался, скрестив руки на груди, плотно и прочно поставив ступни ног на землю, и так замирал — неподвижно, молча, долго. В стороне от всех и возвышаясь над всеми. В смешной, но и пугающей позе было нечто каменное и неживое. Словно он стилизовал себя под монумент, напоминая о своей избранности.
Пожалуй, впервые так откровенно обнажалась сила брезгливой нелюбви Вожака к людям. Прочитавший много книг, слышавший множество умных споров, Вожак завораживал толпу гипнозом слов. Замечательно и на этот раз разработал актер речевую характеристику персонажа. Слова падали холодно и ровно. Мысль, заключенная в них, давно уже прискучила Вожаку. Давно изверился он в прежних кумирах. Уверенное и снисходительное назидание звучало в интонациях, привычная скука, высокомерное презрение к «тупой» толпе.
Он отгораживался от людей прочной стеной слов. Разговаривая с другими, Вожак слышал себя. «Логично?» — спрашивал он, отправляя на казнь двух несчастных калек-офицеров, и отвечал себе, единственно важному, самому главному, — «логично».
Исподволь открывались тайны этой темной и жестокой души. Ясно читалось прошлое и неминуемое возмездие в настоящем. Будущего не было. Гуманность, светозарность и справедливость революции, совершающейся людьми и для людей, отменяла, делала недействительным этого живого мертвеца. Взявший беззаконно власть, ренегат и отступник, снедаемый бешеным честолюбием, Вожак не имел права существовать.
Именно потому, что Царев никогда не замыкается в границах одной судьбы, в частностях отдельной жизни, столь легко обнаружить созвучие, единство некоторых его образов. Продолжая, развивая, уточняя друг друга, роли Царева как бы выстраиваются в типологические ряды и в непрерывности художественного процесса дают явление в его социальной, исторической, психологической полноте и исчерпанности.
Так, Вожак был продолжен сыгранным позже Стариком, сложнейшей и загадочной ролью горьковского репертуара. Сколько здесь общего! Ореол мученичества и желание получить сполна за «страдание». Высокомерная претензия быть судьей и вершителем судеб. Общая ненависть к людям, для которых Старик находит столь точное и презрительное — «обрыдли». Все то же стремление затопить мир страхом, подчинить, сковать, поставить на колени живую человеческую душу. И алчность, и жадность к земным благам, и ханжеские проповеди о высоких материях.
Старик Царева — это и реальный человек, и символ зла. В нем нет ни единого просвета. Он весь сплошная тьма жизни, но тьма подвижная, действующая, в особенности когда она не встречает сопротивления.
Обе роли одноприродны. Они разоблачают самую сущность фашизма как социального явления, его духовное убожество и ханжеское обличье, реальную опасность бесчеловечной и злой его силы.
Царев в Вожаке и Старике проницателен и активен от ненависти. Он позволяет себе эту крайнюю, предельную концентрацию отрицательных черт, чтобы вызвать в зрителе энергию ответа и сопротивления, активность противодействия.
Интересно, что в «Старике» Царев сыграл еще одну роль — хорошего и талантливого русского человека Мастакова, у которого только одна беда: он деятель, он созидатель, но он не борец. В юности жизнь больно ударила его, и он сохранил эту пришибленность злом. Мастаков отступает почти сразу, сломлен душевно после первой же встречи со Стариком и уже не может освободиться от страха, уже сомневается не только в собственной правоте, но и в самом праве жить.
От Мастакова тянутся нити к добрейшему Егору Ильичу Ростаневу. И там и здесь — общая перед людьми и собой вина попустительства злу. Но если Егору Ильичу судьба дарит в конце концов счастье, то пассивность Мастакова кончается трагедией самоубийства.
Открыто и сильно утверждает Царев необходимость добра мужественного, бдительного, которое может и смеет постоять за себя.
В Мастакове и Старике Царев с особенной силой проявил способность мыслить в образе сложно. Постигая философию характеров, не уклоняясь от неясностей и загадок, не спеша к близлежащему и очевидному результату, актер вскрывает противоречие психологии и мироощущения героев в динамике и диалектике их развития.
В загадочной, написанной в разгар полемики о Достоевском пьесе Горького Царев сумел объяснить многое. Прежде всего причины гибели Мастакова. В странном, поспешном, неожиданном самоубийстве героя, человека деятельного и уж наверное не робкого, актер увидел чудовищную логику жизни, которая породила кошмарный тип Старика и сломала, скомкала страхом душу Мастакова. Героя убило знание подлой жизни. С юности, с того времени, как был он несправедливо осужден, Мастаков не видел ничего вокруг себя, кроме лжи и грязи. Он сам, его дело, построенное разумно и гуманно, представлялось ему исключением в общем порядке вещей. Герой жил в сознании временности, непрочности своего существования. И потому столь легкой оказалась победа Старика.
Виноват Мастаков, отказавшийся стать борцом, не нашедший опоры в себе и окружающих. Но главная причина трагедии — в самом порядке жизни, при котором хороший и благородный человек чувствует себя мнимостью, исключением, а роль судей и жрецов морали берут ничтожества и палачи, подобные Старику.
Ничтожества — об этом актер наступательно и зло сказал в финале. Осыпаемый ударами и упреками девицы, Старик — Царев и впрямь кажется человеческой малостью. Значительным и неуязвимым он был до тех пор, пока внушал страх. Но вот мираж рассеялся,
Дата публикации: 17.03.2003