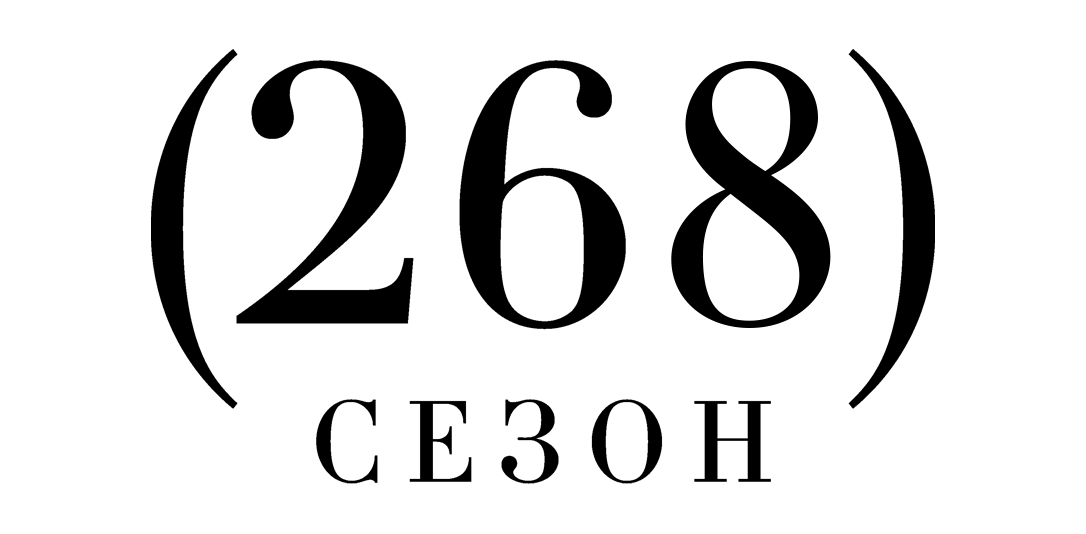Новости
«ВОЛКИ И ОВЦЫ» А.Н.ОСТРОВСКОГО В ПОСТАНОВКЕ К.П.ХОХЛОВА

«ВОЛКИ И ОВЦЫ» А.Н.ОСТРОВСКОГО В ПОСТАНОВКЕ К.П.ХОХЛОВА
«ВОЛКИ И ОВЦЫ» А.Н.ОСТРОВСКОГО В ПОСТАНОВКЕ К.П.ХОХЛОВА
Из книги Ю.А.Дмитриева «Академический Малый театр. 1917-1941»
Еще больше вульгарное социологизирование сказалось на постановке пьесы «Волки и овцы», осуществленной К. Хохловым и оформленной В. Дмитриевым (премьера 5 февраля 1935 года). И это не было случайностью.
В «Истории советского драматического театра» справедливо говорится: «Успехи советского театра в 30-е годы не означали, что вульгарная социология, формализм, псевдоноваторство были всецело преодолены. Все это жило в искусстве прежде всего тех коллективов и художников, которые эпигонски, нетворчески, некритически восприняли уроки крупных режиссеров, в частности Мейерхольда» (История советского драматического театра, т. 4. М., «Наука», 1968, с. 18). Хохлов в рассматриваемое время принадлежал к их числу.
В 1934 и 1936 годах были приняты решения Коммунистической партии и Советского правительства о преподавании истории в школе, подвергнуты критике вульгарно-социологические ошибки М. Н. Покровского и его соратников. Ранее, в 1929 — 1930 годах, прошла оживленная дискуссия, на которой критиковали ошибки В. И. Переверзева и его учеников, отстаивавших вульгарно-социологические принципы в литературоведении. Маститый литературовед В. М. Фриче также во многих случаях подменял подлинный марксизм вульгарным социологизмом. Влияние этих и других ученых вульгарно-социологического толка было достаточно велико и не так быстро изживалось.
Так, Переверзев, справедливо стремясь утвердить социальную, классовую доминанту при разборе художественных произведений, только с этой позиции рассматривал произведения, все объясняя классовой принадлежностью художника. С его точки зрения, если Лермонтов по происхождению дворянин, значит, все его произведения написаны с дворянских позиций. Что же касается Островского, то вся его драматургия, по мнению Переверзева и его учеников, отражала идеологию буржуазных классов. Стало быть, при постановке драматургическому произведению следовало придавать большую социальную силу, социальную определенность.
Все это надо принять во внимание, когда речь пойдет о постановке пьесы «Волки и овцы».
Беседуя в день премьеры с журналистом, К. Хохлов напомнил ему, что в сентябре 1874 года в Московском окружном суде слушалось дело игумений Владыченского монастыря Митрофании, в миру баронессы Розен. Выступая на процессе, известный адвокат Ф. Н. Плевако сказал: «Овечья шкура на волке не должна ослепить нас».
Осенью 1875 года Островский закончил пьесу «Волки и овцы» и дал одной из главных героинь имя, часто встречающееся среди монахинь,— Меропия. Какой же вывод из всего этого сделал режиссер? Островский знал о процессе, интересовался им и хотел написать пьесу из монастырской жизни, но не смог этого сделать из-за цензурных установлений, категорически запрещавших выводить на сцену лиц духовного звания... Значит, сейчас, когда цензурных препон нет, задача театра перенести пьесу в монастырские стены.
«В противовес показному келейному смирению и внешнему самоотречению мы выдвигаем праздную пышность жизни легкомысленной и самоуверенной барыньки Купавиной, беспризорное богатство которой является предметом алчных вожделений Меропии и Беркутова...». Что же касается Лыняева, то это «засыпающая помещичья Россия, по инерции бормочущая вольные сентенции» (Хохлов К. «Волки и овцы».— «Сов. искусство», 1935, 5 февр.).

В.Н.Пашенная – Мурзавецкая, В.А.Владиславский – Чугунов в комедии А.Н.Островского «Волки и овцы», постановка К.П.Хохлова (1935)
Режиссер решил перенести действие в женский монастырь. Не без иронии в этой связи исследователь спрашивал: «Почему монастырь дает больше оснований для сатиры, чем помещичий быт?» (Филиппов Вл. Отечественная классика на русской сцене после Октябрьской революции.— «Театральный альманах». Кн. 1. М., ВТО, 1944, с. 141).
Разумеется, перемена места действия потребовала и других изменений. Так, дворецкий Павлин превратился в келейницу, мать Павлинию. Но некоторые обстоятельства пьесы решительно нельзя было объяснить в новых условиях. Например, как мог молодой человек Аполлон Мурзавецкий проживать в женском монастыре? В условиях монастырского быта речь многих действующих лиц стала звучать фальшиво, а вместе с тем фальшивыми оказались и их характеры. Прав был О. Литовский, когда писал, что режиссер, «не осваивал критически классику, а приспосабливал ее к режиссерскому домыслу» (Литовский О. Театральные заметки.— «Театр и драматургия», 1935, № 8, с. 7).
Вообще подход Хохлова и вместе с ним молодого тогда художника Дмитриева к пьесе Островского можно было определить как озорство, стремление перевести пьесу в план антирелигиозной агитки. Отсюда попытки режиссера ввести в спектакль ряд деталей, в общем довольно нелепых.
Так, Мурзавецкая держала архиерейский посох, никак ей по чину не полагающийся. В аналое открывалась дверца, и там стоял штоф водки, к которому Мурзавецкая (игуменья мать Меропия) время от времени прикладывалась. Появилась совсем новая сцена, в которой во время крестного хода губернатор и священник сопровождали игуменью. Аполлон Мурзавецкий из скромного армейского офицера был превращен в гусара, вероятно, по причине того, что гусары славились кутежами. Сцену в доме Купавиной режиссер трактовал в плане комедии-буфф, особенно упирая на эротические моменты.
В соответствии с замыслом режиссера художник превратил жилую комнату Мурзавецкой в приемную монастыря, а поэтический парк Купавиной был подан как некое пространство между двумя круглыми будками, обитыми материей, вышитой крестом. В середине сцены красовалось возвышение, покрытое зеленым плюшем. Известный театровед С. С. Игнатов отметил: «Оформление создавало впечатление большой пышности и яркости, которое глушило актерское исполнение» (Игнатов С. Две трактовки Островского.— «Театр и драматургия», 1935, № 5, с. 37).
Танцы, поставленные Н. Н. Глан на крестьянском гулянье, были чересчур современны. Тот же критик подчеркивал: «Это диссонировало с Островским и с реализмом всей актерской игры» (Игнатов С. Две трактовки Островского.— «Театр и драматургия», 1935, № 5, с. 37).
Рецензент газеты «Советское искусство» В. Эрманс дал такую оценку спектаклю: «Беда в том, что Хохлов, точно не веря в мощь Островского-драматурга, в магическую силу его слова, на протяжении всего представления старался всеми имеющимися в распоряжении театра средствами обогатить, расцветить спектакль. (...) Тут и интермедии мюзик-холльного порядка при соблазне Лыняева. И очень затянувшиеся демонстрация туалетов и шляп в салоне Купавиной и сцена в платяном шкафу, взятая из водевиля. Все эти режиссерские новинки и находки не только не поднимали спектакль, но, наоборот, местами снижали качество драматургии» (Эрманс В. «Волки и овцы».— «Сов. искусство», 1935, 11 февр.). Лыняева, оказавшегося в будуаре Глафиры, укладывали спать в шкафу, на голову Чугунова сыпались предметы дамского туалета, Мурзавецкий на монастырском крыльце, под золотыми крестами, не только пил водку, но и курил, что было очевидным кощунством.
Конечно, в таком спектакле трудно было актерам. Аполлон Мурзавецкий в исполнении Н. Светловидова оказался только комическим персонажем, беспробудным пьяницей, потерявшим человеческий облик; Лыняева, заплывшего жиром либерала-помещика, Н. Костромской превратил в персонажа, стремящегося к протесту.
Пашенной, игравшей Мурзавецкую, монашеская ряса и клобук скорее мешали, чем помогали выявить тот страстный характер волчицы, которая готова пойти на все, только чтобы сохранить свое положение и умножить капитал, она постоянно должна была демонстрировать смирение. Впрочем, актриса поднималась почти до трагической высоты, когда она была вынуждена сдаться перед Беркутовым, униженно просить у него пощады. В плане традиционного театрального героя изображал Беркутова В. Ольховский. По мнению критика, Н. Белевцева не пошла дальше показа «пустоты и кукольной простоты Купавиной».
Самое большое впечатление производила Глафира в исполнении Е. Гоголевой. Это была властная, решительная, эгоистичная и отчаянная авантюристка. У этой женщины было большое обаяние, налет легкомыслия какой-то столичной изощренности и в то же время волчья паразитическая сущность. Она вела наступление на Лыняева, может быть, даже слишком напористо, не сдаться перед таким напором было невозможно.
В целом спектакль, «несмотря на внешнюю помпезность, забавные трюки и каскадную веселость, не достиг той цели, которую преследовал постановщик, и не получил отклика и у зрителей» (Никольский Б. «Волки и овцы» на сцене Малого театра.— В кн.: А. Н. Островский. Сборник материалов и статей. М., ВТО, 1935, с. 276).
Режиссера многие упрекали в формализме, но прав был Литовский, утверждавший, что это не формализм. «Хохлов не понял идеи пьесы и исходил из житейского случая, из судебного дела игуменьи Митрофании, которое якобы послужило идейной основой пьесе Островского» (Литовский О. Так и было, с. 209).
Из книги Ю.А.Дмитриева «Академический Малый театр. 1917-1941»
Еще больше вульгарное социологизирование сказалось на постановке пьесы «Волки и овцы», осуществленной К. Хохловым и оформленной В. Дмитриевым (премьера 5 февраля 1935 года). И это не было случайностью.
В «Истории советского драматического театра» справедливо говорится: «Успехи советского театра в 30-е годы не означали, что вульгарная социология, формализм, псевдоноваторство были всецело преодолены. Все это жило в искусстве прежде всего тех коллективов и художников, которые эпигонски, нетворчески, некритически восприняли уроки крупных режиссеров, в частности Мейерхольда» (История советского драматического театра, т. 4. М., «Наука», 1968, с. 18). Хохлов в рассматриваемое время принадлежал к их числу.
В 1934 и 1936 годах были приняты решения Коммунистической партии и Советского правительства о преподавании истории в школе, подвергнуты критике вульгарно-социологические ошибки М. Н. Покровского и его соратников. Ранее, в 1929 — 1930 годах, прошла оживленная дискуссия, на которой критиковали ошибки В. И. Переверзева и его учеников, отстаивавших вульгарно-социологические принципы в литературоведении. Маститый литературовед В. М. Фриче также во многих случаях подменял подлинный марксизм вульгарным социологизмом. Влияние этих и других ученых вульгарно-социологического толка было достаточно велико и не так быстро изживалось.
Так, Переверзев, справедливо стремясь утвердить социальную, классовую доминанту при разборе художественных произведений, только с этой позиции рассматривал произведения, все объясняя классовой принадлежностью художника. С его точки зрения, если Лермонтов по происхождению дворянин, значит, все его произведения написаны с дворянских позиций. Что же касается Островского, то вся его драматургия, по мнению Переверзева и его учеников, отражала идеологию буржуазных классов. Стало быть, при постановке драматургическому произведению следовало придавать большую социальную силу, социальную определенность.
Все это надо принять во внимание, когда речь пойдет о постановке пьесы «Волки и овцы».
Беседуя в день премьеры с журналистом, К. Хохлов напомнил ему, что в сентябре 1874 года в Московском окружном суде слушалось дело игумений Владыченского монастыря Митрофании, в миру баронессы Розен. Выступая на процессе, известный адвокат Ф. Н. Плевако сказал: «Овечья шкура на волке не должна ослепить нас».
Осенью 1875 года Островский закончил пьесу «Волки и овцы» и дал одной из главных героинь имя, часто встречающееся среди монахинь,— Меропия. Какой же вывод из всего этого сделал режиссер? Островский знал о процессе, интересовался им и хотел написать пьесу из монастырской жизни, но не смог этого сделать из-за цензурных установлений, категорически запрещавших выводить на сцену лиц духовного звания... Значит, сейчас, когда цензурных препон нет, задача театра перенести пьесу в монастырские стены.
«В противовес показному келейному смирению и внешнему самоотречению мы выдвигаем праздную пышность жизни легкомысленной и самоуверенной барыньки Купавиной, беспризорное богатство которой является предметом алчных вожделений Меропии и Беркутова...». Что же касается Лыняева, то это «засыпающая помещичья Россия, по инерции бормочущая вольные сентенции» (Хохлов К. «Волки и овцы».— «Сов. искусство», 1935, 5 февр.).

В.Н.Пашенная – Мурзавецкая, В.А.Владиславский – Чугунов в комедии А.Н.Островского «Волки и овцы», постановка К.П.Хохлова (1935)
Режиссер решил перенести действие в женский монастырь. Не без иронии в этой связи исследователь спрашивал: «Почему монастырь дает больше оснований для сатиры, чем помещичий быт?» (Филиппов Вл. Отечественная классика на русской сцене после Октябрьской революции.— «Театральный альманах». Кн. 1. М., ВТО, 1944, с. 141).
Разумеется, перемена места действия потребовала и других изменений. Так, дворецкий Павлин превратился в келейницу, мать Павлинию. Но некоторые обстоятельства пьесы решительно нельзя было объяснить в новых условиях. Например, как мог молодой человек Аполлон Мурзавецкий проживать в женском монастыре? В условиях монастырского быта речь многих действующих лиц стала звучать фальшиво, а вместе с тем фальшивыми оказались и их характеры. Прав был О. Литовский, когда писал, что режиссер, «не осваивал критически классику, а приспосабливал ее к режиссерскому домыслу» (Литовский О. Театральные заметки.— «Театр и драматургия», 1935, № 8, с. 7).
Вообще подход Хохлова и вместе с ним молодого тогда художника Дмитриева к пьесе Островского можно было определить как озорство, стремление перевести пьесу в план антирелигиозной агитки. Отсюда попытки режиссера ввести в спектакль ряд деталей, в общем довольно нелепых.
Так, Мурзавецкая держала архиерейский посох, никак ей по чину не полагающийся. В аналое открывалась дверца, и там стоял штоф водки, к которому Мурзавецкая (игуменья мать Меропия) время от времени прикладывалась. Появилась совсем новая сцена, в которой во время крестного хода губернатор и священник сопровождали игуменью. Аполлон Мурзавецкий из скромного армейского офицера был превращен в гусара, вероятно, по причине того, что гусары славились кутежами. Сцену в доме Купавиной режиссер трактовал в плане комедии-буфф, особенно упирая на эротические моменты.
В соответствии с замыслом режиссера художник превратил жилую комнату Мурзавецкой в приемную монастыря, а поэтический парк Купавиной был подан как некое пространство между двумя круглыми будками, обитыми материей, вышитой крестом. В середине сцены красовалось возвышение, покрытое зеленым плюшем. Известный театровед С. С. Игнатов отметил: «Оформление создавало впечатление большой пышности и яркости, которое глушило актерское исполнение» (Игнатов С. Две трактовки Островского.— «Театр и драматургия», 1935, № 5, с. 37).
Танцы, поставленные Н. Н. Глан на крестьянском гулянье, были чересчур современны. Тот же критик подчеркивал: «Это диссонировало с Островским и с реализмом всей актерской игры» (Игнатов С. Две трактовки Островского.— «Театр и драматургия», 1935, № 5, с. 37).
Рецензент газеты «Советское искусство» В. Эрманс дал такую оценку спектаклю: «Беда в том, что Хохлов, точно не веря в мощь Островского-драматурга, в магическую силу его слова, на протяжении всего представления старался всеми имеющимися в распоряжении театра средствами обогатить, расцветить спектакль. (...) Тут и интермедии мюзик-холльного порядка при соблазне Лыняева. И очень затянувшиеся демонстрация туалетов и шляп в салоне Купавиной и сцена в платяном шкафу, взятая из водевиля. Все эти режиссерские новинки и находки не только не поднимали спектакль, но, наоборот, местами снижали качество драматургии» (Эрманс В. «Волки и овцы».— «Сов. искусство», 1935, 11 февр.). Лыняева, оказавшегося в будуаре Глафиры, укладывали спать в шкафу, на голову Чугунова сыпались предметы дамского туалета, Мурзавецкий на монастырском крыльце, под золотыми крестами, не только пил водку, но и курил, что было очевидным кощунством.
Конечно, в таком спектакле трудно было актерам. Аполлон Мурзавецкий в исполнении Н. Светловидова оказался только комическим персонажем, беспробудным пьяницей, потерявшим человеческий облик; Лыняева, заплывшего жиром либерала-помещика, Н. Костромской превратил в персонажа, стремящегося к протесту.
Пашенной, игравшей Мурзавецкую, монашеская ряса и клобук скорее мешали, чем помогали выявить тот страстный характер волчицы, которая готова пойти на все, только чтобы сохранить свое положение и умножить капитал, она постоянно должна была демонстрировать смирение. Впрочем, актриса поднималась почти до трагической высоты, когда она была вынуждена сдаться перед Беркутовым, униженно просить у него пощады. В плане традиционного театрального героя изображал Беркутова В. Ольховский. По мнению критика, Н. Белевцева не пошла дальше показа «пустоты и кукольной простоты Купавиной».
Самое большое впечатление производила Глафира в исполнении Е. Гоголевой. Это была властная, решительная, эгоистичная и отчаянная авантюристка. У этой женщины было большое обаяние, налет легкомыслия какой-то столичной изощренности и в то же время волчья паразитическая сущность. Она вела наступление на Лыняева, может быть, даже слишком напористо, не сдаться перед таким напором было невозможно.
В целом спектакль, «несмотря на внешнюю помпезность, забавные трюки и каскадную веселость, не достиг той цели, которую преследовал постановщик, и не получил отклика и у зрителей» (Никольский Б. «Волки и овцы» на сцене Малого театра.— В кн.: А. Н. Островский. Сборник материалов и статей. М., ВТО, 1935, с. 276).
Режиссера многие упрекали в формализме, но прав был Литовский, утверждавший, что это не формализм. «Хохлов не понял идеи пьесы и исходил из житейского случая, из судебного дела игуменьи Митрофании, которое якобы послужило идейной основой пьесе Островского» (Литовский О. Так и было, с. 209).
Дата публикации: 05.02.1935

«ВОЛКИ И ОВЦЫ» А.Н.ОСТРОВСКОГО В ПОСТАНОВКЕ К.П.ХОХЛОВА
Из книги Ю.А.Дмитриева «Академический Малый театр. 1917-1941»
Еще больше вульгарное социологизирование сказалось на постановке пьесы «Волки и овцы», осуществленной К. Хохловым и оформленной В. Дмитриевым (премьера 5 февраля 1935 года). И это не было случайностью.
В «Истории советского драматического театра» справедливо говорится: «Успехи советского театра в 30-е годы не означали, что вульгарная социология, формализм, псевдоноваторство были всецело преодолены. Все это жило в искусстве прежде всего тех коллективов и художников, которые эпигонски, нетворчески, некритически восприняли уроки крупных режиссеров, в частности Мейерхольда» (История советского драматического театра, т. 4. М., «Наука», 1968, с. 18). Хохлов в рассматриваемое время принадлежал к их числу.
В 1934 и 1936 годах были приняты решения Коммунистической партии и Советского правительства о преподавании истории в школе, подвергнуты критике вульгарно-социологические ошибки М. Н. Покровского и его соратников. Ранее, в 1929 — 1930 годах, прошла оживленная дискуссия, на которой критиковали ошибки В. И. Переверзева и его учеников, отстаивавших вульгарно-социологические принципы в литературоведении. Маститый литературовед В. М. Фриче также во многих случаях подменял подлинный марксизм вульгарным социологизмом. Влияние этих и других ученых вульгарно-социологического толка было достаточно велико и не так быстро изживалось.
Так, Переверзев, справедливо стремясь утвердить социальную, классовую доминанту при разборе художественных произведений, только с этой позиции рассматривал произведения, все объясняя классовой принадлежностью художника. С его точки зрения, если Лермонтов по происхождению дворянин, значит, все его произведения написаны с дворянских позиций. Что же касается Островского, то вся его драматургия, по мнению Переверзева и его учеников, отражала идеологию буржуазных классов. Стало быть, при постановке драматургическому произведению следовало придавать большую социальную силу, социальную определенность.
Все это надо принять во внимание, когда речь пойдет о постановке пьесы «Волки и овцы».
Беседуя в день премьеры с журналистом, К. Хохлов напомнил ему, что в сентябре 1874 года в Московском окружном суде слушалось дело игумений Владыченского монастыря Митрофании, в миру баронессы Розен. Выступая на процессе, известный адвокат Ф. Н. Плевако сказал: «Овечья шкура на волке не должна ослепить нас».
Осенью 1875 года Островский закончил пьесу «Волки и овцы» и дал одной из главных героинь имя, часто встречающееся среди монахинь,— Меропия. Какой же вывод из всего этого сделал режиссер? Островский знал о процессе, интересовался им и хотел написать пьесу из монастырской жизни, но не смог этого сделать из-за цензурных установлений, категорически запрещавших выводить на сцену лиц духовного звания... Значит, сейчас, когда цензурных препон нет, задача театра перенести пьесу в монастырские стены.
«В противовес показному келейному смирению и внешнему самоотречению мы выдвигаем праздную пышность жизни легкомысленной и самоуверенной барыньки Купавиной, беспризорное богатство которой является предметом алчных вожделений Меропии и Беркутова...». Что же касается Лыняева, то это «засыпающая помещичья Россия, по инерции бормочущая вольные сентенции» (Хохлов К. «Волки и овцы».— «Сов. искусство», 1935, 5 февр.).

В.Н.Пашенная – Мурзавецкая, В.А.Владиславский – Чугунов в комедии А.Н.Островского «Волки и овцы», постановка К.П.Хохлова (1935)
Режиссер решил перенести действие в женский монастырь. Не без иронии в этой связи исследователь спрашивал: «Почему монастырь дает больше оснований для сатиры, чем помещичий быт?» (Филиппов Вл. Отечественная классика на русской сцене после Октябрьской революции.— «Театральный альманах». Кн. 1. М., ВТО, 1944, с. 141).
Разумеется, перемена места действия потребовала и других изменений. Так, дворецкий Павлин превратился в келейницу, мать Павлинию. Но некоторые обстоятельства пьесы решительно нельзя было объяснить в новых условиях. Например, как мог молодой человек Аполлон Мурзавецкий проживать в женском монастыре? В условиях монастырского быта речь многих действующих лиц стала звучать фальшиво, а вместе с тем фальшивыми оказались и их характеры. Прав был О. Литовский, когда писал, что режиссер, «не осваивал критически классику, а приспосабливал ее к режиссерскому домыслу» (Литовский О. Театральные заметки.— «Театр и драматургия», 1935, № 8, с. 7).
Вообще подход Хохлова и вместе с ним молодого тогда художника Дмитриева к пьесе Островского можно было определить как озорство, стремление перевести пьесу в план антирелигиозной агитки. Отсюда попытки режиссера ввести в спектакль ряд деталей, в общем довольно нелепых.
Так, Мурзавецкая держала архиерейский посох, никак ей по чину не полагающийся. В аналое открывалась дверца, и там стоял штоф водки, к которому Мурзавецкая (игуменья мать Меропия) время от времени прикладывалась. Появилась совсем новая сцена, в которой во время крестного хода губернатор и священник сопровождали игуменью. Аполлон Мурзавецкий из скромного армейского офицера был превращен в гусара, вероятно, по причине того, что гусары славились кутежами. Сцену в доме Купавиной режиссер трактовал в плане комедии-буфф, особенно упирая на эротические моменты.
В соответствии с замыслом режиссера художник превратил жилую комнату Мурзавецкой в приемную монастыря, а поэтический парк Купавиной был подан как некое пространство между двумя круглыми будками, обитыми материей, вышитой крестом. В середине сцены красовалось возвышение, покрытое зеленым плюшем. Известный театровед С. С. Игнатов отметил: «Оформление создавало впечатление большой пышности и яркости, которое глушило актерское исполнение» (Игнатов С. Две трактовки Островского.— «Театр и драматургия», 1935, № 5, с. 37).
Танцы, поставленные Н. Н. Глан на крестьянском гулянье, были чересчур современны. Тот же критик подчеркивал: «Это диссонировало с Островским и с реализмом всей актерской игры» (Игнатов С. Две трактовки Островского.— «Театр и драматургия», 1935, № 5, с. 37).
Рецензент газеты «Советское искусство» В. Эрманс дал такую оценку спектаклю: «Беда в том, что Хохлов, точно не веря в мощь Островского-драматурга, в магическую силу его слова, на протяжении всего представления старался всеми имеющимися в распоряжении театра средствами обогатить, расцветить спектакль. (...) Тут и интермедии мюзик-холльного порядка при соблазне Лыняева. И очень затянувшиеся демонстрация туалетов и шляп в салоне Купавиной и сцена в платяном шкафу, взятая из водевиля. Все эти режиссерские новинки и находки не только не поднимали спектакль, но, наоборот, местами снижали качество драматургии» (Эрманс В. «Волки и овцы».— «Сов. искусство», 1935, 11 февр.). Лыняева, оказавшегося в будуаре Глафиры, укладывали спать в шкафу, на голову Чугунова сыпались предметы дамского туалета, Мурзавецкий на монастырском крыльце, под золотыми крестами, не только пил водку, но и курил, что было очевидным кощунством.
Конечно, в таком спектакле трудно было актерам. Аполлон Мурзавецкий в исполнении Н. Светловидова оказался только комическим персонажем, беспробудным пьяницей, потерявшим человеческий облик; Лыняева, заплывшего жиром либерала-помещика, Н. Костромской превратил в персонажа, стремящегося к протесту.
Пашенной, игравшей Мурзавецкую, монашеская ряса и клобук скорее мешали, чем помогали выявить тот страстный характер волчицы, которая готова пойти на все, только чтобы сохранить свое положение и умножить капитал, она постоянно должна была демонстрировать смирение. Впрочем, актриса поднималась почти до трагической высоты, когда она была вынуждена сдаться перед Беркутовым, униженно просить у него пощады. В плане традиционного театрального героя изображал Беркутова В. Ольховский. По мнению критика, Н. Белевцева не пошла дальше показа «пустоты и кукольной простоты Купавиной».
Самое большое впечатление производила Глафира в исполнении Е. Гоголевой. Это была властная, решительная, эгоистичная и отчаянная авантюристка. У этой женщины было большое обаяние, налет легкомыслия какой-то столичной изощренности и в то же время волчья паразитическая сущность. Она вела наступление на Лыняева, может быть, даже слишком напористо, не сдаться перед таким напором было невозможно.
В целом спектакль, «несмотря на внешнюю помпезность, забавные трюки и каскадную веселость, не достиг той цели, которую преследовал постановщик, и не получил отклика и у зрителей» (Никольский Б. «Волки и овцы» на сцене Малого театра.— В кн.: А. Н. Островский. Сборник материалов и статей. М., ВТО, 1935, с. 276).
Режиссера многие упрекали в формализме, но прав был Литовский, утверждавший, что это не формализм. «Хохлов не понял идеи пьесы и исходил из житейского случая, из судебного дела игуменьи Митрофании, которое якобы послужило идейной основой пьесе Островского» (Литовский О. Так и было, с. 209).
Из книги Ю.А.Дмитриева «Академический Малый театр. 1917-1941»
Еще больше вульгарное социологизирование сказалось на постановке пьесы «Волки и овцы», осуществленной К. Хохловым и оформленной В. Дмитриевым (премьера 5 февраля 1935 года). И это не было случайностью.
В «Истории советского драматического театра» справедливо говорится: «Успехи советского театра в 30-е годы не означали, что вульгарная социология, формализм, псевдоноваторство были всецело преодолены. Все это жило в искусстве прежде всего тех коллективов и художников, которые эпигонски, нетворчески, некритически восприняли уроки крупных режиссеров, в частности Мейерхольда» (История советского драматического театра, т. 4. М., «Наука», 1968, с. 18). Хохлов в рассматриваемое время принадлежал к их числу.
В 1934 и 1936 годах были приняты решения Коммунистической партии и Советского правительства о преподавании истории в школе, подвергнуты критике вульгарно-социологические ошибки М. Н. Покровского и его соратников. Ранее, в 1929 — 1930 годах, прошла оживленная дискуссия, на которой критиковали ошибки В. И. Переверзева и его учеников, отстаивавших вульгарно-социологические принципы в литературоведении. Маститый литературовед В. М. Фриче также во многих случаях подменял подлинный марксизм вульгарным социологизмом. Влияние этих и других ученых вульгарно-социологического толка было достаточно велико и не так быстро изживалось.
Так, Переверзев, справедливо стремясь утвердить социальную, классовую доминанту при разборе художественных произведений, только с этой позиции рассматривал произведения, все объясняя классовой принадлежностью художника. С его точки зрения, если Лермонтов по происхождению дворянин, значит, все его произведения написаны с дворянских позиций. Что же касается Островского, то вся его драматургия, по мнению Переверзева и его учеников, отражала идеологию буржуазных классов. Стало быть, при постановке драматургическому произведению следовало придавать большую социальную силу, социальную определенность.
Все это надо принять во внимание, когда речь пойдет о постановке пьесы «Волки и овцы».
Беседуя в день премьеры с журналистом, К. Хохлов напомнил ему, что в сентябре 1874 года в Московском окружном суде слушалось дело игумений Владыченского монастыря Митрофании, в миру баронессы Розен. Выступая на процессе, известный адвокат Ф. Н. Плевако сказал: «Овечья шкура на волке не должна ослепить нас».
Осенью 1875 года Островский закончил пьесу «Волки и овцы» и дал одной из главных героинь имя, часто встречающееся среди монахинь,— Меропия. Какой же вывод из всего этого сделал режиссер? Островский знал о процессе, интересовался им и хотел написать пьесу из монастырской жизни, но не смог этого сделать из-за цензурных установлений, категорически запрещавших выводить на сцену лиц духовного звания... Значит, сейчас, когда цензурных препон нет, задача театра перенести пьесу в монастырские стены.
«В противовес показному келейному смирению и внешнему самоотречению мы выдвигаем праздную пышность жизни легкомысленной и самоуверенной барыньки Купавиной, беспризорное богатство которой является предметом алчных вожделений Меропии и Беркутова...». Что же касается Лыняева, то это «засыпающая помещичья Россия, по инерции бормочущая вольные сентенции» (Хохлов К. «Волки и овцы».— «Сов. искусство», 1935, 5 февр.).

В.Н.Пашенная – Мурзавецкая, В.А.Владиславский – Чугунов в комедии А.Н.Островского «Волки и овцы», постановка К.П.Хохлова (1935)
Режиссер решил перенести действие в женский монастырь. Не без иронии в этой связи исследователь спрашивал: «Почему монастырь дает больше оснований для сатиры, чем помещичий быт?» (Филиппов Вл. Отечественная классика на русской сцене после Октябрьской революции.— «Театральный альманах». Кн. 1. М., ВТО, 1944, с. 141).
Разумеется, перемена места действия потребовала и других изменений. Так, дворецкий Павлин превратился в келейницу, мать Павлинию. Но некоторые обстоятельства пьесы решительно нельзя было объяснить в новых условиях. Например, как мог молодой человек Аполлон Мурзавецкий проживать в женском монастыре? В условиях монастырского быта речь многих действующих лиц стала звучать фальшиво, а вместе с тем фальшивыми оказались и их характеры. Прав был О. Литовский, когда писал, что режиссер, «не осваивал критически классику, а приспосабливал ее к режиссерскому домыслу» (Литовский О. Театральные заметки.— «Театр и драматургия», 1935, № 8, с. 7).
Вообще подход Хохлова и вместе с ним молодого тогда художника Дмитриева к пьесе Островского можно было определить как озорство, стремление перевести пьесу в план антирелигиозной агитки. Отсюда попытки режиссера ввести в спектакль ряд деталей, в общем довольно нелепых.
Так, Мурзавецкая держала архиерейский посох, никак ей по чину не полагающийся. В аналое открывалась дверца, и там стоял штоф водки, к которому Мурзавецкая (игуменья мать Меропия) время от времени прикладывалась. Появилась совсем новая сцена, в которой во время крестного хода губернатор и священник сопровождали игуменью. Аполлон Мурзавецкий из скромного армейского офицера был превращен в гусара, вероятно, по причине того, что гусары славились кутежами. Сцену в доме Купавиной режиссер трактовал в плане комедии-буфф, особенно упирая на эротические моменты.
В соответствии с замыслом режиссера художник превратил жилую комнату Мурзавецкой в приемную монастыря, а поэтический парк Купавиной был подан как некое пространство между двумя круглыми будками, обитыми материей, вышитой крестом. В середине сцены красовалось возвышение, покрытое зеленым плюшем. Известный театровед С. С. Игнатов отметил: «Оформление создавало впечатление большой пышности и яркости, которое глушило актерское исполнение» (Игнатов С. Две трактовки Островского.— «Театр и драматургия», 1935, № 5, с. 37).
Танцы, поставленные Н. Н. Глан на крестьянском гулянье, были чересчур современны. Тот же критик подчеркивал: «Это диссонировало с Островским и с реализмом всей актерской игры» (Игнатов С. Две трактовки Островского.— «Театр и драматургия», 1935, № 5, с. 37).
Рецензент газеты «Советское искусство» В. Эрманс дал такую оценку спектаклю: «Беда в том, что Хохлов, точно не веря в мощь Островского-драматурга, в магическую силу его слова, на протяжении всего представления старался всеми имеющимися в распоряжении театра средствами обогатить, расцветить спектакль. (...) Тут и интермедии мюзик-холльного порядка при соблазне Лыняева. И очень затянувшиеся демонстрация туалетов и шляп в салоне Купавиной и сцена в платяном шкафу, взятая из водевиля. Все эти режиссерские новинки и находки не только не поднимали спектакль, но, наоборот, местами снижали качество драматургии» (Эрманс В. «Волки и овцы».— «Сов. искусство», 1935, 11 февр.). Лыняева, оказавшегося в будуаре Глафиры, укладывали спать в шкафу, на голову Чугунова сыпались предметы дамского туалета, Мурзавецкий на монастырском крыльце, под золотыми крестами, не только пил водку, но и курил, что было очевидным кощунством.
Конечно, в таком спектакле трудно было актерам. Аполлон Мурзавецкий в исполнении Н. Светловидова оказался только комическим персонажем, беспробудным пьяницей, потерявшим человеческий облик; Лыняева, заплывшего жиром либерала-помещика, Н. Костромской превратил в персонажа, стремящегося к протесту.
Пашенной, игравшей Мурзавецкую, монашеская ряса и клобук скорее мешали, чем помогали выявить тот страстный характер волчицы, которая готова пойти на все, только чтобы сохранить свое положение и умножить капитал, она постоянно должна была демонстрировать смирение. Впрочем, актриса поднималась почти до трагической высоты, когда она была вынуждена сдаться перед Беркутовым, униженно просить у него пощады. В плане традиционного театрального героя изображал Беркутова В. Ольховский. По мнению критика, Н. Белевцева не пошла дальше показа «пустоты и кукольной простоты Купавиной».
Самое большое впечатление производила Глафира в исполнении Е. Гоголевой. Это была властная, решительная, эгоистичная и отчаянная авантюристка. У этой женщины было большое обаяние, налет легкомыслия какой-то столичной изощренности и в то же время волчья паразитическая сущность. Она вела наступление на Лыняева, может быть, даже слишком напористо, не сдаться перед таким напором было невозможно.
В целом спектакль, «несмотря на внешнюю помпезность, забавные трюки и каскадную веселость, не достиг той цели, которую преследовал постановщик, и не получил отклика и у зрителей» (Никольский Б. «Волки и овцы» на сцене Малого театра.— В кн.: А. Н. Островский. Сборник материалов и статей. М., ВТО, 1935, с. 276).
Режиссера многие упрекали в формализме, но прав был Литовский, утверждавший, что это не формализм. «Хохлов не понял идеи пьесы и исходил из житейского случая, из судебного дела игуменьи Митрофании, которое якобы послужило идейной основой пьесе Островского» (Литовский О. Так и было, с. 209).
Дата публикации: 05.02.1935