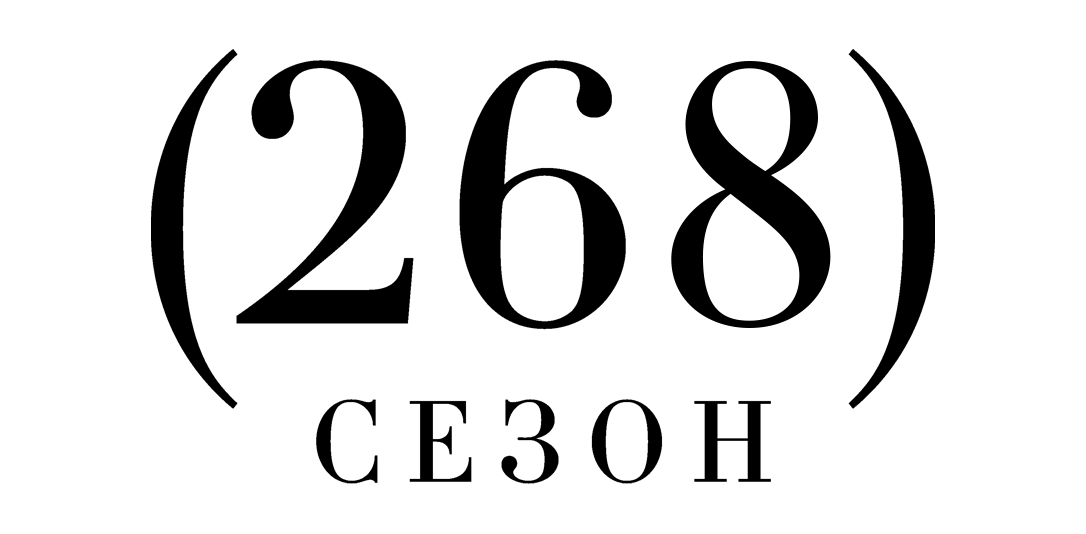Новости
ЯРОСЛАВ БАРЫШЕВ: «ДАЛЬ НАЗВАЛ МЕНЯ ЯРЫМ»

ЯРОСЛАВ БАРЫШЕВ: «ДАЛЬ НАЗВАЛ МЕНЯ ЯРЫМ»
ЯРОСЛАВ БАРЫШЕВ: «ДАЛЬ НАЗВАЛ МЕНЯ ЯРЫМ»
Он всю жизнь проработал в Государственном академическом Малом театре, и я намеревалась поговорить с ним о том, как сегодня живется «театру с колоннами» и его артистам в нашей стране. Но когда он заговорил, мне очень захотелось понять, что же это за человек — актер Ярослав Барышев, за что критики называют его последним русским трагиком…
Ярослав Павлович Барышев — лауреат Государственной премии России, народный артист России. Родился в селе Ставрово Владимирской области 15 января 1942 года. Окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина.
С 1 августа 1963 года работает в Государственном академическом Малом театре. Сыграл около восьмидесяти ролей, среди которых — Чацкий, Стародум, Ляпкин-Тяпкин, Беркутов, доктор Дорн, Понтий Пилат, Шекспир, Карл Моор, кардинал Ришелье, герои Шиллера, Теккерея, Шекспира, Флобера, Ибсена и т.д. Сыграл в фильмах — «Батальоны просят огня», «Если бы знать», «Вначале было Слово», «Охота». Его педагоги — Н. Анненков, В. Пашенная, Б. Бабочкин.
Его партнеры — М. Царев, И. Ильинский, В. Хохряков, Н. Светловидов, В. Доронин, И. Смоктуновский, Е. Весник. Его сокурсники — В. Соломин, О. Даль, В. Павлов, М. Кононов.
- Ярослав Павлович, какая из сыгранных ролей стала для Вас самой значимой?
- Думаю, что их у меня три — Илья Рамзин в пьесе «Выбор» (по роману Бондарева), Пушкин (в радиоспектакле «Пушкин в Лицее» и в телефильме «Зелёная лампа») и Иван Грозный в «Князе Серебряном» и «Царе Иоанне Грозном» по А.К. Толстому. Еще мальчишкой я смотрел военную кинохронику. Особенно запомнился мне один из эпизодов. Там несколько офицеров с собаками ведут колонну наших пленных (а она нескончаемая, как широкая черная река). Один из немцев, покурив, бросает наземь окурок. И тут же толпа пленных, толкая друг друга, за этим окурком бросается… Представляете, до чего были доведены люди, какую личную трагедию они переживали?
Когда мне дали роль Ильи Рамзина — молодого лейтенанта, попавшего в плен, – я вспомнил эти кадры. Я «увидел» Рамзина комбата не предателем Родины, а человеком, попавшим в страшную мясорубку, человеком, сделавшим мучительный для себя выбор. И играл я его душевную драму. Вскоре в газетах появились рецензии на спектакль, в которых меня упрекали в «безыдейности», в отсутствии патриотизма. Но однажды я получил письмо от очень пожилой женщины. Сначала она долго извинялась за беспокойство, а потом писала: «Ну что они там все против вас имеют. Я-то знаю, почему Рамзин не возвращался. Я-то знаю»… И вот это письмо дало мне силы играть так, как я решил изначально. И, наверное, все-таки правильно решил, раз в 1984 году за Рамзина мне дали Государственную премию России.
- А что Вам подсказало, как играть Пушкина и Грозного?
- О Пушкине я прочел все, что смог достать (воспоминания современников, статьи критиков, его переписку, стихи). Это произвело на меня колоссальное впечатление. Но я «перенасытился» информацией и уже начинал в ней запутываться. Исписал ремарками весь текст роли, пытаясь выделить главное в характере Пушкина, но что-то не складывалось, и я постоянно об этом думал. Ну, и однажды Пушкин мне приснился. Не помпезным, не «отлакированным», а маленьким, черненьким… вертлявым каким-то. Он подошел ко мне и внимательно-внимательно посмотрел. Я проснулся, будто от толчка, и сразу понял, что должен делать на сцене. Между прочим, после этого сна я еще и стихи хулиганские писать начал…
А Грозного понять мне помог Репин. Когда я увидел его картину «Иван Грозный и сын его Иван», увидел выпученные глаза Иоанна и его дрожащие руки, я понял: передо мной — потрясенный человек, который с ужасом пытается осознать произошедшее. Он собственными руками убил своего ребенка. И за что? За то, что сын попросил у него войско. Так ведь он хотел помочь… Он не метил на престол, а просто хотел помочь. Как сын, как друг… Перед первым спектаклем я пошел в церковь, поставил две свечки — помолился за себя и за Иоанна. Сразу как-то спокойнее на душе стало, и играл я его свободно, легко. Я так вживался в роль, что порой мне казалось, что на сцене уже и не я вовсе.
Однажды в «Царя Иоанна Грозного» ввели актера, которому только что сделали операцию, вставив в ногу искусственный сустав. У него была роль боярина Захарьина-Юрьева. Играем сцену, где бояре отказывают Грозному в поддержке. Иоанн в гневе поднимается с трона, а бояре, естественно, опускаются перед ним на колени. И тут я смотрю — все опускаются, а Захарьин-Юрьев стоит. Я, взбешенный, подскакиваю к нему, хватаю за плечи и начинаю давить, давить его к полу, на колени (между прочим, рост и вес у меня соответствующие). Чувствую, он упирается, а люди на сцене побелели. Я ничего не понимаю. Давлю, давлю, и вдруг Захарьин-Юрьев шепчет: «Ярослав Палыч, вы че, я же только ходить начал?».
В «Князе Серебряном» Володя Носик играл отца Федьки Басманова, а я – Иоанна. По роли за предательство Басманову-младшему Грозный на глазах у отца перерезает горло. Несколько спектаклей я так и «делал», но однажды где-то прочел, что, оказывается, оба Басманова были против царя. Как же так, думаю: они – за одно, а Иоанн только сына убивает? Ведь, по логике, он и отца должен наказать. Поговорили с Володей, подумали и решили, как играть будем.
Начинается эта сцена. Я замахиваюсь на Басманова посохом, тот падает и чуть-чуть откатывается. Со стороны — полная иллюзия, что я втыкаю посох в его тело. А посох, между прочим, у меня настоящий: тяжелый с острым наконечником. Я снова замахиваюсь на Носика. Он видит, что посох «идет», и собирается снова «крутнуться»… Но тут из-за кулис (это без приказа царя-то?) выскакивают четыре «опричника», хватают Володю за руки-за ноги, и что-то бормоча, оттаскивают за кулисы. А он со смеху помирает. Оказывается, они, всерьез испугавшись, сказали: «Ну, Барышев сегодня совсем ох…л!»
В другой сцене князь Вяземский пошел перед царем вальяжно так. Чувствую, вдруг во мне что-то «вскипело»… Я та-ак на него рявкнул, что он аж присел. А потом за кулисами говорит: «Ярослав П-п-палыч, ну нельзя же т-так – я же з-заикаться буду!» Что это было? Наверное, я и сам так рявкнуть могу, но тут уж явно кто-то во мне рявкнул…
Но ведь Грозным его не случайно назвали? Ведь было за что? А у Вас он — то жестокий, властный, своенравный, то страдающий и несчастный. Даже жалко его как-то…
- Грозным назвали его бояре и, действительно, было за что. Но ведь разве не они сами его таким сделали? Вот, например, мальчишкой бояре сажали его под стол, за которым сами пировали, и бросали ему на пол, как собаке, кости, которые он объедал. А ведь он был по крови царевич!Вот говорят, «понять – вполовину простить». Я его понял и поэтому играл таким, каким он, по-моему, и был — слабым и сильным, жестоким и талантливым. Ведь, представьте, вся его жизнь была трагедией. Трагедией сильной Личности, которую перемалывают обстоятельства и время.
А ведь Иван писал неплохие стихи и музыку, дирижировал исполняющим ее монашеским хором. Он был полководцем и царем, глубоко страдающим за свою страну. Он убивал всех, кто отказывал ему в помощи, в поддержке, кто плел против него козни, прекрасно понимая, ЧТО делает. Он убивал и искренне каялся, разбивая в кровь голову о пол храма… А потом опять убивал. И опять каялся. И опять искренне. Да разве другие правители меньше душ загубили? Петр, что ли, меньше, Сталин меньше? Неужто же в Афгане и в Чечне меньше пацанов «положили»? Зато, если бы не было Грозного, не было бы и России.
- Ярослав Павлович, а что такое для Вас – «Россия», «Родина»?
-Я родился в январе 42-го во владимирской деревне. Слабенький был, меня все доходягой считали. Жили мы в избе, а там – коза. И вот мне каждый день давали стакан козьего молока. И все равно очень есть хотелось. Помню… Отца с нами нет (на фронте, что ли, был). У меня живот «режет» от голода. Я стою под образами и прошу: «Боженька, пошли нам хлебушка. Ну, пожалуйста. Так кушать хочется». И вдруг стук в дверь. Бабка с матерью – к порогу. Стоит человек. «Вот, — говорит, — Павел Сергеевич прислал вам чемодан». Мать его открывает, а в этом огромном чемодане одна буханка хлеба.
И хотя в школу пошел уже в Москве, в деревню приезжал каждое лето. Вот она и есть для меня Родина. И первые мои воспоминания о ней. Большая брюква, которую держу в руках (подарок 9 мая 45-го от колхоза каждому жителю деревни в честь Победы), и длинный стол «на всех» на деревенской улице, накрытый праздничной скатертью.
Прозрачные озерца на лугах после разлива речки Колокши, в которых кишмя кишит рыба. Ломоть горячего хлеба, испеченного бабкой (мы называли ее – «бабенька»), с хрустящими малосольными огурцами и плошка духмяной земляники, залитой жирным молоком. Пушистая, обжигающая ступни, пыль на дороге, которая поднимается до колен и оседает на новых штанах из солдатского сукна, «вжикающих» при ходьбе. Простая, светлая, ласковая мама и суровый рассудительный отец. Это все – Родина. А Россия?.. Я вот не могу понять, как можно было разделить Союз, по какому праву? Крым и Севастополь отдали. Безо всяких документов отдали… Не могу я понять, когда «демократы» успели свои миллиарды заработать? Хочу знать, сколько еще нашим старикам «подъедать, доживать, донашивать»?
Прекрасных, красивых, талантливых, мастеровитых людей у нас много. Много. Но, как вам сказать… Чего-то не хватает им. Уважения к самому себе, что ли? Почему мы в своей стране не хозяева, в крови, что ли, эта покорность? Может, это от пьянства или мы бесправности своей боимся? Почему у нас чувство собственного достоинства просыпается, только когда мы прижаты к стенке, а в остальное время все на «авось»? Пора, пора нам всем, как Чехов говорил, раба из себя выдавливать. По капле, по капле…
- И Вам тоже?
- А как же? Я секрет открою: это я с виду такой смелый, могу такие монологи закатывать, когда несправедливость вижу. И я знаю, что прав, но внутри червячок грызет: «Кому нужна твоя правота? Ты за эту правду обязательно расплатишься». И смолчу порой. А потом так стыдно бывает. Стыдно, что «теряю себя», становлюсь хуже, мельче, даже ростом меньше становлюсь. Это так разъедает. Ну, и тоже »грешу и каюсь».
- Ярослав Павлович, откуда у Вас такое обостренное чувство трагизма? И большинство своих героев Вы играете как людей «с надломом»?
- Мне было 16-17 лет, когда родители погибли в автокатастрофе. Мы ехали отдыхать в Азов к родственникам. Раннее утро, я сплю и вдруг слышу мамин крик: «Павел!». В это время – удар… Мама — сразу, в одну секунду, а папа успел выдохнуть. Я тогда долго не понимал, что их нет, хотя сам их из машины вытащил, накрыл какими-то простынями... Помню ноги свои по щиколотку в крови, как в густой липкой краске, и рой жирных зеленых мух… А машины мимо проезжали. Я что-то кричал, видно, шок у меня был, истерика. И кто-то сказал мне: «Ну, чего ты орешь? Они же уже мертвые». Правда, милицию вызвал и «скорую».
- Простите…
- Да, ничего, давно это было, почти полвека назад… Тогда я и понял, что человек бывает разным – и один человек в разные минуты жизни может поступить и как герой, и как подлец. Я после всего этого таким стал, что даже в театральной характеристике написали, что я обладаю «неистовым сценическим темпераментом». Вообще-то меня ведь родители Вячеславом назвали, и в паспорте у меня это имя. Но, когда я еще в Щепке учился, то во время репетиций настолько в роль входил, что начинал и стулья ломать, и чуть ли не на люстре качаться. Вот Олег Даль как-то и говорит: «Какой ты – Вячеслав? Ты – ярый!». Ну и стал после этого я себя называть Ярославом.
- Ярослав Павлович, ведь каждый спектакль уникален и неповторим. Почему же Вы не используете такую возможность, как кино, чтобы запечатлеть то, что Вы умеете, как актер? Почему не снимаетесь?
- Это как у Островского: «Кирюша, бери взятки» – «Так ведь не дают, маменька!» Я в фильмах снимался, но что-то у нас с кинематографом не сложилось… Когда мы были студентами, некоторые ребята ходили по киностудиям, заглядывали в дверь и спрашивали: «Вам актеры не нужны?». А потом по ночам снимались в массовках, в эпизодах. А мне — второкурснику, сразу на трех студиях (Горьковской, Рижской и Довженко) предложили главные роли. Я согласился, но встретил своего педагога. Он и говорит: «Что ты, Славочка, не надо, не разменивайся. Сниматься — так только на «Мосфильме» и в главной роли». Я и послушался. Потом жалел. Ну, что ж, сделал глупость — сам виноват.
Как-то предложили мне роль в «Арапе Петра Великого». Сняли тридцать проб, сказали, что подхожу, что скоро начну работать. Но на студию долго не вызывали. А когда я пришел туда сам, оказалось, что все это время режиссер ждал, пока Высоцкий, давший согласие сниматься, приедет из Парижа. У меня тогда такой срыв был! Потом я «пробовался» на «Красную площадь». Тоже говорили, что подошел на сто процентов, и опять не взяли. Дальше — еще фильм, еще фильм, еще фильм. Пробы прохожу, а играть — не играю. Ну, я и махнул рукой на все на это.
- А еще о чем-то в своей жизни жалеете?
- Да нет, пожалуй. Я работаю. У меня – хорошая семья, прекрасные дети. Дочь (Лада Барышева) – бизнес-леди, с обложек журналов не сходит. Алешка закончил Академию управления (правда, пока не так «раскрутился», как Лада, но неплохо все), Сережка окончил «Плешку». Внучка от первого брака живет в Англии.
- А в ком из них Вы особенно «повторились»?
- Да во всех, вообще-то. У всех — мои родинки, каждый чем-то похож на меня. Но у Сережки еще и характер мой, моя «взрывчатость». Оба мальчишки занимались самодеятельностью, но в актеры не пошли. Спрашивал, почему, а они – не хотим и все. Однажды приятель сказал: «Ты — преступник! Почему Сережку в театральную школу не отдаешь? Приводи ко мне, я сейчас курс набираю». Но ведь за уши не потащишь…Видели, наверное, как я переживал, когда у меня ролей не было. Хотя, когда я был в простое (лет пять, наверное), я не пил, не впадал в депрессию, не побирался. Я просто начал рисовать, опять стал писать стихи. Хотя, конечно, для меня как для актера это была нелегкая пора.
- Помните, в Советском Союзе считалось, что интеллигенция должна быть в гуще классовой борьбы, мол, только так она может воспитывать массы. Как Вы считаете, стоит ли художнику, актеру лезть в политику, «махать кулаками, отстаивая свою гражданскую позицию?
- Не надо, не надо! Если человек машет кулаками, всенародно заявляя о своей гражданской позиции, значит он хочет себя показать. Значит, он не уверен в своей правоте и ищет поддержки. Думаю, что художнику не нужно на это отвлекаться, надо просто делать свое дело так, чтобы его позиция была понятна из этого дела.
- Похоже, не зря Юрий Соломин сказал о Вас: «Это человек, который занимается только искусством».
- У меня нет желания тратить жизнь на политику, интриги, какие-то разборки. Надо просто работать. И на сцене, как в смерти, надо честным быть. Ведь ни любовь не «сыграешь», ни горе не «сыграешь» — глаза выдадут…
Елена Кудрявцева,
TatCenter.ru, 27 июня 2008 года
Он всю жизнь проработал в Государственном академическом Малом театре, и я намеревалась поговорить с ним о том, как сегодня живется «театру с колоннами» и его артистам в нашей стране. Но когда он заговорил, мне очень захотелось понять, что же это за человек — актер Ярослав Барышев, за что критики называют его последним русским трагиком…
Ярослав Павлович Барышев — лауреат Государственной премии России, народный артист России. Родился в селе Ставрово Владимирской области 15 января 1942 года. Окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина.
С 1 августа 1963 года работает в Государственном академическом Малом театре. Сыграл около восьмидесяти ролей, среди которых — Чацкий, Стародум, Ляпкин-Тяпкин, Беркутов, доктор Дорн, Понтий Пилат, Шекспир, Карл Моор, кардинал Ришелье, герои Шиллера, Теккерея, Шекспира, Флобера, Ибсена и т.д. Сыграл в фильмах — «Батальоны просят огня», «Если бы знать», «Вначале было Слово», «Охота». Его педагоги — Н. Анненков, В. Пашенная, Б. Бабочкин.
Его партнеры — М. Царев, И. Ильинский, В. Хохряков, Н. Светловидов, В. Доронин, И. Смоктуновский, Е. Весник. Его сокурсники — В. Соломин, О. Даль, В. Павлов, М. Кононов.
- Ярослав Павлович, какая из сыгранных ролей стала для Вас самой значимой?
- Думаю, что их у меня три — Илья Рамзин в пьесе «Выбор» (по роману Бондарева), Пушкин (в радиоспектакле «Пушкин в Лицее» и в телефильме «Зелёная лампа») и Иван Грозный в «Князе Серебряном» и «Царе Иоанне Грозном» по А.К. Толстому. Еще мальчишкой я смотрел военную кинохронику. Особенно запомнился мне один из эпизодов. Там несколько офицеров с собаками ведут колонну наших пленных (а она нескончаемая, как широкая черная река). Один из немцев, покурив, бросает наземь окурок. И тут же толпа пленных, толкая друг друга, за этим окурком бросается… Представляете, до чего были доведены люди, какую личную трагедию они переживали?
Когда мне дали роль Ильи Рамзина — молодого лейтенанта, попавшего в плен, – я вспомнил эти кадры. Я «увидел» Рамзина комбата не предателем Родины, а человеком, попавшим в страшную мясорубку, человеком, сделавшим мучительный для себя выбор. И играл я его душевную драму. Вскоре в газетах появились рецензии на спектакль, в которых меня упрекали в «безыдейности», в отсутствии патриотизма. Но однажды я получил письмо от очень пожилой женщины. Сначала она долго извинялась за беспокойство, а потом писала: «Ну что они там все против вас имеют. Я-то знаю, почему Рамзин не возвращался. Я-то знаю»… И вот это письмо дало мне силы играть так, как я решил изначально. И, наверное, все-таки правильно решил, раз в 1984 году за Рамзина мне дали Государственную премию России.
- А что Вам подсказало, как играть Пушкина и Грозного?
- О Пушкине я прочел все, что смог достать (воспоминания современников, статьи критиков, его переписку, стихи). Это произвело на меня колоссальное впечатление. Но я «перенасытился» информацией и уже начинал в ней запутываться. Исписал ремарками весь текст роли, пытаясь выделить главное в характере Пушкина, но что-то не складывалось, и я постоянно об этом думал. Ну, и однажды Пушкин мне приснился. Не помпезным, не «отлакированным», а маленьким, черненьким… вертлявым каким-то. Он подошел ко мне и внимательно-внимательно посмотрел. Я проснулся, будто от толчка, и сразу понял, что должен делать на сцене. Между прочим, после этого сна я еще и стихи хулиганские писать начал…
А Грозного понять мне помог Репин. Когда я увидел его картину «Иван Грозный и сын его Иван», увидел выпученные глаза Иоанна и его дрожащие руки, я понял: передо мной — потрясенный человек, который с ужасом пытается осознать произошедшее. Он собственными руками убил своего ребенка. И за что? За то, что сын попросил у него войско. Так ведь он хотел помочь… Он не метил на престол, а просто хотел помочь. Как сын, как друг… Перед первым спектаклем я пошел в церковь, поставил две свечки — помолился за себя и за Иоанна. Сразу как-то спокойнее на душе стало, и играл я его свободно, легко. Я так вживался в роль, что порой мне казалось, что на сцене уже и не я вовсе.
Однажды в «Царя Иоанна Грозного» ввели актера, которому только что сделали операцию, вставив в ногу искусственный сустав. У него была роль боярина Захарьина-Юрьева. Играем сцену, где бояре отказывают Грозному в поддержке. Иоанн в гневе поднимается с трона, а бояре, естественно, опускаются перед ним на колени. И тут я смотрю — все опускаются, а Захарьин-Юрьев стоит. Я, взбешенный, подскакиваю к нему, хватаю за плечи и начинаю давить, давить его к полу, на колени (между прочим, рост и вес у меня соответствующие). Чувствую, он упирается, а люди на сцене побелели. Я ничего не понимаю. Давлю, давлю, и вдруг Захарьин-Юрьев шепчет: «Ярослав Палыч, вы че, я же только ходить начал?».
В «Князе Серебряном» Володя Носик играл отца Федьки Басманова, а я – Иоанна. По роли за предательство Басманову-младшему Грозный на глазах у отца перерезает горло. Несколько спектаклей я так и «делал», но однажды где-то прочел, что, оказывается, оба Басманова были против царя. Как же так, думаю: они – за одно, а Иоанн только сына убивает? Ведь, по логике, он и отца должен наказать. Поговорили с Володей, подумали и решили, как играть будем.
Начинается эта сцена. Я замахиваюсь на Басманова посохом, тот падает и чуть-чуть откатывается. Со стороны — полная иллюзия, что я втыкаю посох в его тело. А посох, между прочим, у меня настоящий: тяжелый с острым наконечником. Я снова замахиваюсь на Носика. Он видит, что посох «идет», и собирается снова «крутнуться»… Но тут из-за кулис (это без приказа царя-то?) выскакивают четыре «опричника», хватают Володю за руки-за ноги, и что-то бормоча, оттаскивают за кулисы. А он со смеху помирает. Оказывается, они, всерьез испугавшись, сказали: «Ну, Барышев сегодня совсем ох…л!»
В другой сцене князь Вяземский пошел перед царем вальяжно так. Чувствую, вдруг во мне что-то «вскипело»… Я та-ак на него рявкнул, что он аж присел. А потом за кулисами говорит: «Ярослав П-п-палыч, ну нельзя же т-так – я же з-заикаться буду!» Что это было? Наверное, я и сам так рявкнуть могу, но тут уж явно кто-то во мне рявкнул…
Но ведь Грозным его не случайно назвали? Ведь было за что? А у Вас он — то жестокий, властный, своенравный, то страдающий и несчастный. Даже жалко его как-то…
- Грозным назвали его бояре и, действительно, было за что. Но ведь разве не они сами его таким сделали? Вот, например, мальчишкой бояре сажали его под стол, за которым сами пировали, и бросали ему на пол, как собаке, кости, которые он объедал. А ведь он был по крови царевич!Вот говорят, «понять – вполовину простить». Я его понял и поэтому играл таким, каким он, по-моему, и был — слабым и сильным, жестоким и талантливым. Ведь, представьте, вся его жизнь была трагедией. Трагедией сильной Личности, которую перемалывают обстоятельства и время.
А ведь Иван писал неплохие стихи и музыку, дирижировал исполняющим ее монашеским хором. Он был полководцем и царем, глубоко страдающим за свою страну. Он убивал всех, кто отказывал ему в помощи, в поддержке, кто плел против него козни, прекрасно понимая, ЧТО делает. Он убивал и искренне каялся, разбивая в кровь голову о пол храма… А потом опять убивал. И опять каялся. И опять искренне. Да разве другие правители меньше душ загубили? Петр, что ли, меньше, Сталин меньше? Неужто же в Афгане и в Чечне меньше пацанов «положили»? Зато, если бы не было Грозного, не было бы и России.
- Ярослав Павлович, а что такое для Вас – «Россия», «Родина»?
-Я родился в январе 42-го во владимирской деревне. Слабенький был, меня все доходягой считали. Жили мы в избе, а там – коза. И вот мне каждый день давали стакан козьего молока. И все равно очень есть хотелось. Помню… Отца с нами нет (на фронте, что ли, был). У меня живот «режет» от голода. Я стою под образами и прошу: «Боженька, пошли нам хлебушка. Ну, пожалуйста. Так кушать хочется». И вдруг стук в дверь. Бабка с матерью – к порогу. Стоит человек. «Вот, — говорит, — Павел Сергеевич прислал вам чемодан». Мать его открывает, а в этом огромном чемодане одна буханка хлеба.
И хотя в школу пошел уже в Москве, в деревню приезжал каждое лето. Вот она и есть для меня Родина. И первые мои воспоминания о ней. Большая брюква, которую держу в руках (подарок 9 мая 45-го от колхоза каждому жителю деревни в честь Победы), и длинный стол «на всех» на деревенской улице, накрытый праздничной скатертью.
Прозрачные озерца на лугах после разлива речки Колокши, в которых кишмя кишит рыба. Ломоть горячего хлеба, испеченного бабкой (мы называли ее – «бабенька»), с хрустящими малосольными огурцами и плошка духмяной земляники, залитой жирным молоком. Пушистая, обжигающая ступни, пыль на дороге, которая поднимается до колен и оседает на новых штанах из солдатского сукна, «вжикающих» при ходьбе. Простая, светлая, ласковая мама и суровый рассудительный отец. Это все – Родина. А Россия?.. Я вот не могу понять, как можно было разделить Союз, по какому праву? Крым и Севастополь отдали. Безо всяких документов отдали… Не могу я понять, когда «демократы» успели свои миллиарды заработать? Хочу знать, сколько еще нашим старикам «подъедать, доживать, донашивать»?
Прекрасных, красивых, талантливых, мастеровитых людей у нас много. Много. Но, как вам сказать… Чего-то не хватает им. Уважения к самому себе, что ли? Почему мы в своей стране не хозяева, в крови, что ли, эта покорность? Может, это от пьянства или мы бесправности своей боимся? Почему у нас чувство собственного достоинства просыпается, только когда мы прижаты к стенке, а в остальное время все на «авось»? Пора, пора нам всем, как Чехов говорил, раба из себя выдавливать. По капле, по капле…
- И Вам тоже?
- А как же? Я секрет открою: это я с виду такой смелый, могу такие монологи закатывать, когда несправедливость вижу. И я знаю, что прав, но внутри червячок грызет: «Кому нужна твоя правота? Ты за эту правду обязательно расплатишься». И смолчу порой. А потом так стыдно бывает. Стыдно, что «теряю себя», становлюсь хуже, мельче, даже ростом меньше становлюсь. Это так разъедает. Ну, и тоже »грешу и каюсь».
- Ярослав Павлович, откуда у Вас такое обостренное чувство трагизма? И большинство своих героев Вы играете как людей «с надломом»?
- Мне было 16-17 лет, когда родители погибли в автокатастрофе. Мы ехали отдыхать в Азов к родственникам. Раннее утро, я сплю и вдруг слышу мамин крик: «Павел!». В это время – удар… Мама — сразу, в одну секунду, а папа успел выдохнуть. Я тогда долго не понимал, что их нет, хотя сам их из машины вытащил, накрыл какими-то простынями... Помню ноги свои по щиколотку в крови, как в густой липкой краске, и рой жирных зеленых мух… А машины мимо проезжали. Я что-то кричал, видно, шок у меня был, истерика. И кто-то сказал мне: «Ну, чего ты орешь? Они же уже мертвые». Правда, милицию вызвал и «скорую».
- Простите…
- Да, ничего, давно это было, почти полвека назад… Тогда я и понял, что человек бывает разным – и один человек в разные минуты жизни может поступить и как герой, и как подлец. Я после всего этого таким стал, что даже в театральной характеристике написали, что я обладаю «неистовым сценическим темпераментом». Вообще-то меня ведь родители Вячеславом назвали, и в паспорте у меня это имя. Но, когда я еще в Щепке учился, то во время репетиций настолько в роль входил, что начинал и стулья ломать, и чуть ли не на люстре качаться. Вот Олег Даль как-то и говорит: «Какой ты – Вячеслав? Ты – ярый!». Ну и стал после этого я себя называть Ярославом.
- Ярослав Павлович, ведь каждый спектакль уникален и неповторим. Почему же Вы не используете такую возможность, как кино, чтобы запечатлеть то, что Вы умеете, как актер? Почему не снимаетесь?
- Это как у Островского: «Кирюша, бери взятки» – «Так ведь не дают, маменька!» Я в фильмах снимался, но что-то у нас с кинематографом не сложилось… Когда мы были студентами, некоторые ребята ходили по киностудиям, заглядывали в дверь и спрашивали: «Вам актеры не нужны?». А потом по ночам снимались в массовках, в эпизодах. А мне — второкурснику, сразу на трех студиях (Горьковской, Рижской и Довженко) предложили главные роли. Я согласился, но встретил своего педагога. Он и говорит: «Что ты, Славочка, не надо, не разменивайся. Сниматься — так только на «Мосфильме» и в главной роли». Я и послушался. Потом жалел. Ну, что ж, сделал глупость — сам виноват.
Как-то предложили мне роль в «Арапе Петра Великого». Сняли тридцать проб, сказали, что подхожу, что скоро начну работать. Но на студию долго не вызывали. А когда я пришел туда сам, оказалось, что все это время режиссер ждал, пока Высоцкий, давший согласие сниматься, приедет из Парижа. У меня тогда такой срыв был! Потом я «пробовался» на «Красную площадь». Тоже говорили, что подошел на сто процентов, и опять не взяли. Дальше — еще фильм, еще фильм, еще фильм. Пробы прохожу, а играть — не играю. Ну, я и махнул рукой на все на это.
- А еще о чем-то в своей жизни жалеете?
- Да нет, пожалуй. Я работаю. У меня – хорошая семья, прекрасные дети. Дочь (Лада Барышева) – бизнес-леди, с обложек журналов не сходит. Алешка закончил Академию управления (правда, пока не так «раскрутился», как Лада, но неплохо все), Сережка окончил «Плешку». Внучка от первого брака живет в Англии.
- А в ком из них Вы особенно «повторились»?
- Да во всех, вообще-то. У всех — мои родинки, каждый чем-то похож на меня. Но у Сережки еще и характер мой, моя «взрывчатость». Оба мальчишки занимались самодеятельностью, но в актеры не пошли. Спрашивал, почему, а они – не хотим и все. Однажды приятель сказал: «Ты — преступник! Почему Сережку в театральную школу не отдаешь? Приводи ко мне, я сейчас курс набираю». Но ведь за уши не потащишь…Видели, наверное, как я переживал, когда у меня ролей не было. Хотя, когда я был в простое (лет пять, наверное), я не пил, не впадал в депрессию, не побирался. Я просто начал рисовать, опять стал писать стихи. Хотя, конечно, для меня как для актера это была нелегкая пора.
- Помните, в Советском Союзе считалось, что интеллигенция должна быть в гуще классовой борьбы, мол, только так она может воспитывать массы. Как Вы считаете, стоит ли художнику, актеру лезть в политику, «махать кулаками, отстаивая свою гражданскую позицию?
- Не надо, не надо! Если человек машет кулаками, всенародно заявляя о своей гражданской позиции, значит он хочет себя показать. Значит, он не уверен в своей правоте и ищет поддержки. Думаю, что художнику не нужно на это отвлекаться, надо просто делать свое дело так, чтобы его позиция была понятна из этого дела.
- Похоже, не зря Юрий Соломин сказал о Вас: «Это человек, который занимается только искусством».
- У меня нет желания тратить жизнь на политику, интриги, какие-то разборки. Надо просто работать. И на сцене, как в смерти, надо честным быть. Ведь ни любовь не «сыграешь», ни горе не «сыграешь» — глаза выдадут…
Елена Кудрявцева,
TatCenter.ru, 27 июня 2008 года
Дата публикации: 27.06.2008

ЯРОСЛАВ БАРЫШЕВ: «ДАЛЬ НАЗВАЛ МЕНЯ ЯРЫМ»
Он всю жизнь проработал в Государственном академическом Малом театре, и я намеревалась поговорить с ним о том, как сегодня живется «театру с колоннами» и его артистам в нашей стране. Но когда он заговорил, мне очень захотелось понять, что же это за человек — актер Ярослав Барышев, за что критики называют его последним русским трагиком…
Ярослав Павлович Барышев — лауреат Государственной премии России, народный артист России. Родился в селе Ставрово Владимирской области 15 января 1942 года. Окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина.
С 1 августа 1963 года работает в Государственном академическом Малом театре. Сыграл около восьмидесяти ролей, среди которых — Чацкий, Стародум, Ляпкин-Тяпкин, Беркутов, доктор Дорн, Понтий Пилат, Шекспир, Карл Моор, кардинал Ришелье, герои Шиллера, Теккерея, Шекспира, Флобера, Ибсена и т.д. Сыграл в фильмах — «Батальоны просят огня», «Если бы знать», «Вначале было Слово», «Охота». Его педагоги — Н. Анненков, В. Пашенная, Б. Бабочкин.
Его партнеры — М. Царев, И. Ильинский, В. Хохряков, Н. Светловидов, В. Доронин, И. Смоктуновский, Е. Весник. Его сокурсники — В. Соломин, О. Даль, В. Павлов, М. Кононов.
- Ярослав Павлович, какая из сыгранных ролей стала для Вас самой значимой?
- Думаю, что их у меня три — Илья Рамзин в пьесе «Выбор» (по роману Бондарева), Пушкин (в радиоспектакле «Пушкин в Лицее» и в телефильме «Зелёная лампа») и Иван Грозный в «Князе Серебряном» и «Царе Иоанне Грозном» по А.К. Толстому. Еще мальчишкой я смотрел военную кинохронику. Особенно запомнился мне один из эпизодов. Там несколько офицеров с собаками ведут колонну наших пленных (а она нескончаемая, как широкая черная река). Один из немцев, покурив, бросает наземь окурок. И тут же толпа пленных, толкая друг друга, за этим окурком бросается… Представляете, до чего были доведены люди, какую личную трагедию они переживали?
Когда мне дали роль Ильи Рамзина — молодого лейтенанта, попавшего в плен, – я вспомнил эти кадры. Я «увидел» Рамзина комбата не предателем Родины, а человеком, попавшим в страшную мясорубку, человеком, сделавшим мучительный для себя выбор. И играл я его душевную драму. Вскоре в газетах появились рецензии на спектакль, в которых меня упрекали в «безыдейности», в отсутствии патриотизма. Но однажды я получил письмо от очень пожилой женщины. Сначала она долго извинялась за беспокойство, а потом писала: «Ну что они там все против вас имеют. Я-то знаю, почему Рамзин не возвращался. Я-то знаю»… И вот это письмо дало мне силы играть так, как я решил изначально. И, наверное, все-таки правильно решил, раз в 1984 году за Рамзина мне дали Государственную премию России.
- А что Вам подсказало, как играть Пушкина и Грозного?
- О Пушкине я прочел все, что смог достать (воспоминания современников, статьи критиков, его переписку, стихи). Это произвело на меня колоссальное впечатление. Но я «перенасытился» информацией и уже начинал в ней запутываться. Исписал ремарками весь текст роли, пытаясь выделить главное в характере Пушкина, но что-то не складывалось, и я постоянно об этом думал. Ну, и однажды Пушкин мне приснился. Не помпезным, не «отлакированным», а маленьким, черненьким… вертлявым каким-то. Он подошел ко мне и внимательно-внимательно посмотрел. Я проснулся, будто от толчка, и сразу понял, что должен делать на сцене. Между прочим, после этого сна я еще и стихи хулиганские писать начал…
А Грозного понять мне помог Репин. Когда я увидел его картину «Иван Грозный и сын его Иван», увидел выпученные глаза Иоанна и его дрожащие руки, я понял: передо мной — потрясенный человек, который с ужасом пытается осознать произошедшее. Он собственными руками убил своего ребенка. И за что? За то, что сын попросил у него войско. Так ведь он хотел помочь… Он не метил на престол, а просто хотел помочь. Как сын, как друг… Перед первым спектаклем я пошел в церковь, поставил две свечки — помолился за себя и за Иоанна. Сразу как-то спокойнее на душе стало, и играл я его свободно, легко. Я так вживался в роль, что порой мне казалось, что на сцене уже и не я вовсе.
Однажды в «Царя Иоанна Грозного» ввели актера, которому только что сделали операцию, вставив в ногу искусственный сустав. У него была роль боярина Захарьина-Юрьева. Играем сцену, где бояре отказывают Грозному в поддержке. Иоанн в гневе поднимается с трона, а бояре, естественно, опускаются перед ним на колени. И тут я смотрю — все опускаются, а Захарьин-Юрьев стоит. Я, взбешенный, подскакиваю к нему, хватаю за плечи и начинаю давить, давить его к полу, на колени (между прочим, рост и вес у меня соответствующие). Чувствую, он упирается, а люди на сцене побелели. Я ничего не понимаю. Давлю, давлю, и вдруг Захарьин-Юрьев шепчет: «Ярослав Палыч, вы че, я же только ходить начал?».
В «Князе Серебряном» Володя Носик играл отца Федьки Басманова, а я – Иоанна. По роли за предательство Басманову-младшему Грозный на глазах у отца перерезает горло. Несколько спектаклей я так и «делал», но однажды где-то прочел, что, оказывается, оба Басманова были против царя. Как же так, думаю: они – за одно, а Иоанн только сына убивает? Ведь, по логике, он и отца должен наказать. Поговорили с Володей, подумали и решили, как играть будем.
Начинается эта сцена. Я замахиваюсь на Басманова посохом, тот падает и чуть-чуть откатывается. Со стороны — полная иллюзия, что я втыкаю посох в его тело. А посох, между прочим, у меня настоящий: тяжелый с острым наконечником. Я снова замахиваюсь на Носика. Он видит, что посох «идет», и собирается снова «крутнуться»… Но тут из-за кулис (это без приказа царя-то?) выскакивают четыре «опричника», хватают Володю за руки-за ноги, и что-то бормоча, оттаскивают за кулисы. А он со смеху помирает. Оказывается, они, всерьез испугавшись, сказали: «Ну, Барышев сегодня совсем ох…л!»
В другой сцене князь Вяземский пошел перед царем вальяжно так. Чувствую, вдруг во мне что-то «вскипело»… Я та-ак на него рявкнул, что он аж присел. А потом за кулисами говорит: «Ярослав П-п-палыч, ну нельзя же т-так – я же з-заикаться буду!» Что это было? Наверное, я и сам так рявкнуть могу, но тут уж явно кто-то во мне рявкнул…
Но ведь Грозным его не случайно назвали? Ведь было за что? А у Вас он — то жестокий, властный, своенравный, то страдающий и несчастный. Даже жалко его как-то…
- Грозным назвали его бояре и, действительно, было за что. Но ведь разве не они сами его таким сделали? Вот, например, мальчишкой бояре сажали его под стол, за которым сами пировали, и бросали ему на пол, как собаке, кости, которые он объедал. А ведь он был по крови царевич!Вот говорят, «понять – вполовину простить». Я его понял и поэтому играл таким, каким он, по-моему, и был — слабым и сильным, жестоким и талантливым. Ведь, представьте, вся его жизнь была трагедией. Трагедией сильной Личности, которую перемалывают обстоятельства и время.
А ведь Иван писал неплохие стихи и музыку, дирижировал исполняющим ее монашеским хором. Он был полководцем и царем, глубоко страдающим за свою страну. Он убивал всех, кто отказывал ему в помощи, в поддержке, кто плел против него козни, прекрасно понимая, ЧТО делает. Он убивал и искренне каялся, разбивая в кровь голову о пол храма… А потом опять убивал. И опять каялся. И опять искренне. Да разве другие правители меньше душ загубили? Петр, что ли, меньше, Сталин меньше? Неужто же в Афгане и в Чечне меньше пацанов «положили»? Зато, если бы не было Грозного, не было бы и России.
- Ярослав Павлович, а что такое для Вас – «Россия», «Родина»?
-Я родился в январе 42-го во владимирской деревне. Слабенький был, меня все доходягой считали. Жили мы в избе, а там – коза. И вот мне каждый день давали стакан козьего молока. И все равно очень есть хотелось. Помню… Отца с нами нет (на фронте, что ли, был). У меня живот «режет» от голода. Я стою под образами и прошу: «Боженька, пошли нам хлебушка. Ну, пожалуйста. Так кушать хочется». И вдруг стук в дверь. Бабка с матерью – к порогу. Стоит человек. «Вот, — говорит, — Павел Сергеевич прислал вам чемодан». Мать его открывает, а в этом огромном чемодане одна буханка хлеба.
И хотя в школу пошел уже в Москве, в деревню приезжал каждое лето. Вот она и есть для меня Родина. И первые мои воспоминания о ней. Большая брюква, которую держу в руках (подарок 9 мая 45-го от колхоза каждому жителю деревни в честь Победы), и длинный стол «на всех» на деревенской улице, накрытый праздничной скатертью.
Прозрачные озерца на лугах после разлива речки Колокши, в которых кишмя кишит рыба. Ломоть горячего хлеба, испеченного бабкой (мы называли ее – «бабенька»), с хрустящими малосольными огурцами и плошка духмяной земляники, залитой жирным молоком. Пушистая, обжигающая ступни, пыль на дороге, которая поднимается до колен и оседает на новых штанах из солдатского сукна, «вжикающих» при ходьбе. Простая, светлая, ласковая мама и суровый рассудительный отец. Это все – Родина. А Россия?.. Я вот не могу понять, как можно было разделить Союз, по какому праву? Крым и Севастополь отдали. Безо всяких документов отдали… Не могу я понять, когда «демократы» успели свои миллиарды заработать? Хочу знать, сколько еще нашим старикам «подъедать, доживать, донашивать»?
Прекрасных, красивых, талантливых, мастеровитых людей у нас много. Много. Но, как вам сказать… Чего-то не хватает им. Уважения к самому себе, что ли? Почему мы в своей стране не хозяева, в крови, что ли, эта покорность? Может, это от пьянства или мы бесправности своей боимся? Почему у нас чувство собственного достоинства просыпается, только когда мы прижаты к стенке, а в остальное время все на «авось»? Пора, пора нам всем, как Чехов говорил, раба из себя выдавливать. По капле, по капле…
- И Вам тоже?
- А как же? Я секрет открою: это я с виду такой смелый, могу такие монологи закатывать, когда несправедливость вижу. И я знаю, что прав, но внутри червячок грызет: «Кому нужна твоя правота? Ты за эту правду обязательно расплатишься». И смолчу порой. А потом так стыдно бывает. Стыдно, что «теряю себя», становлюсь хуже, мельче, даже ростом меньше становлюсь. Это так разъедает. Ну, и тоже »грешу и каюсь».
- Ярослав Павлович, откуда у Вас такое обостренное чувство трагизма? И большинство своих героев Вы играете как людей «с надломом»?
- Мне было 16-17 лет, когда родители погибли в автокатастрофе. Мы ехали отдыхать в Азов к родственникам. Раннее утро, я сплю и вдруг слышу мамин крик: «Павел!». В это время – удар… Мама — сразу, в одну секунду, а папа успел выдохнуть. Я тогда долго не понимал, что их нет, хотя сам их из машины вытащил, накрыл какими-то простынями... Помню ноги свои по щиколотку в крови, как в густой липкой краске, и рой жирных зеленых мух… А машины мимо проезжали. Я что-то кричал, видно, шок у меня был, истерика. И кто-то сказал мне: «Ну, чего ты орешь? Они же уже мертвые». Правда, милицию вызвал и «скорую».
- Простите…
- Да, ничего, давно это было, почти полвека назад… Тогда я и понял, что человек бывает разным – и один человек в разные минуты жизни может поступить и как герой, и как подлец. Я после всего этого таким стал, что даже в театральной характеристике написали, что я обладаю «неистовым сценическим темпераментом». Вообще-то меня ведь родители Вячеславом назвали, и в паспорте у меня это имя. Но, когда я еще в Щепке учился, то во время репетиций настолько в роль входил, что начинал и стулья ломать, и чуть ли не на люстре качаться. Вот Олег Даль как-то и говорит: «Какой ты – Вячеслав? Ты – ярый!». Ну и стал после этого я себя называть Ярославом.
- Ярослав Павлович, ведь каждый спектакль уникален и неповторим. Почему же Вы не используете такую возможность, как кино, чтобы запечатлеть то, что Вы умеете, как актер? Почему не снимаетесь?
- Это как у Островского: «Кирюша, бери взятки» – «Так ведь не дают, маменька!» Я в фильмах снимался, но что-то у нас с кинематографом не сложилось… Когда мы были студентами, некоторые ребята ходили по киностудиям, заглядывали в дверь и спрашивали: «Вам актеры не нужны?». А потом по ночам снимались в массовках, в эпизодах. А мне — второкурснику, сразу на трех студиях (Горьковской, Рижской и Довженко) предложили главные роли. Я согласился, но встретил своего педагога. Он и говорит: «Что ты, Славочка, не надо, не разменивайся. Сниматься — так только на «Мосфильме» и в главной роли». Я и послушался. Потом жалел. Ну, что ж, сделал глупость — сам виноват.
Как-то предложили мне роль в «Арапе Петра Великого». Сняли тридцать проб, сказали, что подхожу, что скоро начну работать. Но на студию долго не вызывали. А когда я пришел туда сам, оказалось, что все это время режиссер ждал, пока Высоцкий, давший согласие сниматься, приедет из Парижа. У меня тогда такой срыв был! Потом я «пробовался» на «Красную площадь». Тоже говорили, что подошел на сто процентов, и опять не взяли. Дальше — еще фильм, еще фильм, еще фильм. Пробы прохожу, а играть — не играю. Ну, я и махнул рукой на все на это.
- А еще о чем-то в своей жизни жалеете?
- Да нет, пожалуй. Я работаю. У меня – хорошая семья, прекрасные дети. Дочь (Лада Барышева) – бизнес-леди, с обложек журналов не сходит. Алешка закончил Академию управления (правда, пока не так «раскрутился», как Лада, но неплохо все), Сережка окончил «Плешку». Внучка от первого брака живет в Англии.
- А в ком из них Вы особенно «повторились»?
- Да во всех, вообще-то. У всех — мои родинки, каждый чем-то похож на меня. Но у Сережки еще и характер мой, моя «взрывчатость». Оба мальчишки занимались самодеятельностью, но в актеры не пошли. Спрашивал, почему, а они – не хотим и все. Однажды приятель сказал: «Ты — преступник! Почему Сережку в театральную школу не отдаешь? Приводи ко мне, я сейчас курс набираю». Но ведь за уши не потащишь…Видели, наверное, как я переживал, когда у меня ролей не было. Хотя, когда я был в простое (лет пять, наверное), я не пил, не впадал в депрессию, не побирался. Я просто начал рисовать, опять стал писать стихи. Хотя, конечно, для меня как для актера это была нелегкая пора.
- Помните, в Советском Союзе считалось, что интеллигенция должна быть в гуще классовой борьбы, мол, только так она может воспитывать массы. Как Вы считаете, стоит ли художнику, актеру лезть в политику, «махать кулаками, отстаивая свою гражданскую позицию?
- Не надо, не надо! Если человек машет кулаками, всенародно заявляя о своей гражданской позиции, значит он хочет себя показать. Значит, он не уверен в своей правоте и ищет поддержки. Думаю, что художнику не нужно на это отвлекаться, надо просто делать свое дело так, чтобы его позиция была понятна из этого дела.
- Похоже, не зря Юрий Соломин сказал о Вас: «Это человек, который занимается только искусством».
- У меня нет желания тратить жизнь на политику, интриги, какие-то разборки. Надо просто работать. И на сцене, как в смерти, надо честным быть. Ведь ни любовь не «сыграешь», ни горе не «сыграешь» — глаза выдадут…
Елена Кудрявцева,
TatCenter.ru, 27 июня 2008 года
Он всю жизнь проработал в Государственном академическом Малом театре, и я намеревалась поговорить с ним о том, как сегодня живется «театру с колоннами» и его артистам в нашей стране. Но когда он заговорил, мне очень захотелось понять, что же это за человек — актер Ярослав Барышев, за что критики называют его последним русским трагиком…
Ярослав Павлович Барышев — лауреат Государственной премии России, народный артист России. Родился в селе Ставрово Владимирской области 15 января 1942 года. Окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина.
С 1 августа 1963 года работает в Государственном академическом Малом театре. Сыграл около восьмидесяти ролей, среди которых — Чацкий, Стародум, Ляпкин-Тяпкин, Беркутов, доктор Дорн, Понтий Пилат, Шекспир, Карл Моор, кардинал Ришелье, герои Шиллера, Теккерея, Шекспира, Флобера, Ибсена и т.д. Сыграл в фильмах — «Батальоны просят огня», «Если бы знать», «Вначале было Слово», «Охота». Его педагоги — Н. Анненков, В. Пашенная, Б. Бабочкин.
Его партнеры — М. Царев, И. Ильинский, В. Хохряков, Н. Светловидов, В. Доронин, И. Смоктуновский, Е. Весник. Его сокурсники — В. Соломин, О. Даль, В. Павлов, М. Кононов.
- Ярослав Павлович, какая из сыгранных ролей стала для Вас самой значимой?
- Думаю, что их у меня три — Илья Рамзин в пьесе «Выбор» (по роману Бондарева), Пушкин (в радиоспектакле «Пушкин в Лицее» и в телефильме «Зелёная лампа») и Иван Грозный в «Князе Серебряном» и «Царе Иоанне Грозном» по А.К. Толстому. Еще мальчишкой я смотрел военную кинохронику. Особенно запомнился мне один из эпизодов. Там несколько офицеров с собаками ведут колонну наших пленных (а она нескончаемая, как широкая черная река). Один из немцев, покурив, бросает наземь окурок. И тут же толпа пленных, толкая друг друга, за этим окурком бросается… Представляете, до чего были доведены люди, какую личную трагедию они переживали?
Когда мне дали роль Ильи Рамзина — молодого лейтенанта, попавшего в плен, – я вспомнил эти кадры. Я «увидел» Рамзина комбата не предателем Родины, а человеком, попавшим в страшную мясорубку, человеком, сделавшим мучительный для себя выбор. И играл я его душевную драму. Вскоре в газетах появились рецензии на спектакль, в которых меня упрекали в «безыдейности», в отсутствии патриотизма. Но однажды я получил письмо от очень пожилой женщины. Сначала она долго извинялась за беспокойство, а потом писала: «Ну что они там все против вас имеют. Я-то знаю, почему Рамзин не возвращался. Я-то знаю»… И вот это письмо дало мне силы играть так, как я решил изначально. И, наверное, все-таки правильно решил, раз в 1984 году за Рамзина мне дали Государственную премию России.
- А что Вам подсказало, как играть Пушкина и Грозного?
- О Пушкине я прочел все, что смог достать (воспоминания современников, статьи критиков, его переписку, стихи). Это произвело на меня колоссальное впечатление. Но я «перенасытился» информацией и уже начинал в ней запутываться. Исписал ремарками весь текст роли, пытаясь выделить главное в характере Пушкина, но что-то не складывалось, и я постоянно об этом думал. Ну, и однажды Пушкин мне приснился. Не помпезным, не «отлакированным», а маленьким, черненьким… вертлявым каким-то. Он подошел ко мне и внимательно-внимательно посмотрел. Я проснулся, будто от толчка, и сразу понял, что должен делать на сцене. Между прочим, после этого сна я еще и стихи хулиганские писать начал…
А Грозного понять мне помог Репин. Когда я увидел его картину «Иван Грозный и сын его Иван», увидел выпученные глаза Иоанна и его дрожащие руки, я понял: передо мной — потрясенный человек, который с ужасом пытается осознать произошедшее. Он собственными руками убил своего ребенка. И за что? За то, что сын попросил у него войско. Так ведь он хотел помочь… Он не метил на престол, а просто хотел помочь. Как сын, как друг… Перед первым спектаклем я пошел в церковь, поставил две свечки — помолился за себя и за Иоанна. Сразу как-то спокойнее на душе стало, и играл я его свободно, легко. Я так вживался в роль, что порой мне казалось, что на сцене уже и не я вовсе.
Однажды в «Царя Иоанна Грозного» ввели актера, которому только что сделали операцию, вставив в ногу искусственный сустав. У него была роль боярина Захарьина-Юрьева. Играем сцену, где бояре отказывают Грозному в поддержке. Иоанн в гневе поднимается с трона, а бояре, естественно, опускаются перед ним на колени. И тут я смотрю — все опускаются, а Захарьин-Юрьев стоит. Я, взбешенный, подскакиваю к нему, хватаю за плечи и начинаю давить, давить его к полу, на колени (между прочим, рост и вес у меня соответствующие). Чувствую, он упирается, а люди на сцене побелели. Я ничего не понимаю. Давлю, давлю, и вдруг Захарьин-Юрьев шепчет: «Ярослав Палыч, вы че, я же только ходить начал?».
В «Князе Серебряном» Володя Носик играл отца Федьки Басманова, а я – Иоанна. По роли за предательство Басманову-младшему Грозный на глазах у отца перерезает горло. Несколько спектаклей я так и «делал», но однажды где-то прочел, что, оказывается, оба Басманова были против царя. Как же так, думаю: они – за одно, а Иоанн только сына убивает? Ведь, по логике, он и отца должен наказать. Поговорили с Володей, подумали и решили, как играть будем.
Начинается эта сцена. Я замахиваюсь на Басманова посохом, тот падает и чуть-чуть откатывается. Со стороны — полная иллюзия, что я втыкаю посох в его тело. А посох, между прочим, у меня настоящий: тяжелый с острым наконечником. Я снова замахиваюсь на Носика. Он видит, что посох «идет», и собирается снова «крутнуться»… Но тут из-за кулис (это без приказа царя-то?) выскакивают четыре «опричника», хватают Володю за руки-за ноги, и что-то бормоча, оттаскивают за кулисы. А он со смеху помирает. Оказывается, они, всерьез испугавшись, сказали: «Ну, Барышев сегодня совсем ох…л!»
В другой сцене князь Вяземский пошел перед царем вальяжно так. Чувствую, вдруг во мне что-то «вскипело»… Я та-ак на него рявкнул, что он аж присел. А потом за кулисами говорит: «Ярослав П-п-палыч, ну нельзя же т-так – я же з-заикаться буду!» Что это было? Наверное, я и сам так рявкнуть могу, но тут уж явно кто-то во мне рявкнул…
Но ведь Грозным его не случайно назвали? Ведь было за что? А у Вас он — то жестокий, властный, своенравный, то страдающий и несчастный. Даже жалко его как-то…
- Грозным назвали его бояре и, действительно, было за что. Но ведь разве не они сами его таким сделали? Вот, например, мальчишкой бояре сажали его под стол, за которым сами пировали, и бросали ему на пол, как собаке, кости, которые он объедал. А ведь он был по крови царевич!Вот говорят, «понять – вполовину простить». Я его понял и поэтому играл таким, каким он, по-моему, и был — слабым и сильным, жестоким и талантливым. Ведь, представьте, вся его жизнь была трагедией. Трагедией сильной Личности, которую перемалывают обстоятельства и время.
А ведь Иван писал неплохие стихи и музыку, дирижировал исполняющим ее монашеским хором. Он был полководцем и царем, глубоко страдающим за свою страну. Он убивал всех, кто отказывал ему в помощи, в поддержке, кто плел против него козни, прекрасно понимая, ЧТО делает. Он убивал и искренне каялся, разбивая в кровь голову о пол храма… А потом опять убивал. И опять каялся. И опять искренне. Да разве другие правители меньше душ загубили? Петр, что ли, меньше, Сталин меньше? Неужто же в Афгане и в Чечне меньше пацанов «положили»? Зато, если бы не было Грозного, не было бы и России.
- Ярослав Павлович, а что такое для Вас – «Россия», «Родина»?
-Я родился в январе 42-го во владимирской деревне. Слабенький был, меня все доходягой считали. Жили мы в избе, а там – коза. И вот мне каждый день давали стакан козьего молока. И все равно очень есть хотелось. Помню… Отца с нами нет (на фронте, что ли, был). У меня живот «режет» от голода. Я стою под образами и прошу: «Боженька, пошли нам хлебушка. Ну, пожалуйста. Так кушать хочется». И вдруг стук в дверь. Бабка с матерью – к порогу. Стоит человек. «Вот, — говорит, — Павел Сергеевич прислал вам чемодан». Мать его открывает, а в этом огромном чемодане одна буханка хлеба.
И хотя в школу пошел уже в Москве, в деревню приезжал каждое лето. Вот она и есть для меня Родина. И первые мои воспоминания о ней. Большая брюква, которую держу в руках (подарок 9 мая 45-го от колхоза каждому жителю деревни в честь Победы), и длинный стол «на всех» на деревенской улице, накрытый праздничной скатертью.
Прозрачные озерца на лугах после разлива речки Колокши, в которых кишмя кишит рыба. Ломоть горячего хлеба, испеченного бабкой (мы называли ее – «бабенька»), с хрустящими малосольными огурцами и плошка духмяной земляники, залитой жирным молоком. Пушистая, обжигающая ступни, пыль на дороге, которая поднимается до колен и оседает на новых штанах из солдатского сукна, «вжикающих» при ходьбе. Простая, светлая, ласковая мама и суровый рассудительный отец. Это все – Родина. А Россия?.. Я вот не могу понять, как можно было разделить Союз, по какому праву? Крым и Севастополь отдали. Безо всяких документов отдали… Не могу я понять, когда «демократы» успели свои миллиарды заработать? Хочу знать, сколько еще нашим старикам «подъедать, доживать, донашивать»?
Прекрасных, красивых, талантливых, мастеровитых людей у нас много. Много. Но, как вам сказать… Чего-то не хватает им. Уважения к самому себе, что ли? Почему мы в своей стране не хозяева, в крови, что ли, эта покорность? Может, это от пьянства или мы бесправности своей боимся? Почему у нас чувство собственного достоинства просыпается, только когда мы прижаты к стенке, а в остальное время все на «авось»? Пора, пора нам всем, как Чехов говорил, раба из себя выдавливать. По капле, по капле…
- И Вам тоже?
- А как же? Я секрет открою: это я с виду такой смелый, могу такие монологи закатывать, когда несправедливость вижу. И я знаю, что прав, но внутри червячок грызет: «Кому нужна твоя правота? Ты за эту правду обязательно расплатишься». И смолчу порой. А потом так стыдно бывает. Стыдно, что «теряю себя», становлюсь хуже, мельче, даже ростом меньше становлюсь. Это так разъедает. Ну, и тоже »грешу и каюсь».
- Ярослав Павлович, откуда у Вас такое обостренное чувство трагизма? И большинство своих героев Вы играете как людей «с надломом»?
- Мне было 16-17 лет, когда родители погибли в автокатастрофе. Мы ехали отдыхать в Азов к родственникам. Раннее утро, я сплю и вдруг слышу мамин крик: «Павел!». В это время – удар… Мама — сразу, в одну секунду, а папа успел выдохнуть. Я тогда долго не понимал, что их нет, хотя сам их из машины вытащил, накрыл какими-то простынями... Помню ноги свои по щиколотку в крови, как в густой липкой краске, и рой жирных зеленых мух… А машины мимо проезжали. Я что-то кричал, видно, шок у меня был, истерика. И кто-то сказал мне: «Ну, чего ты орешь? Они же уже мертвые». Правда, милицию вызвал и «скорую».
- Простите…
- Да, ничего, давно это было, почти полвека назад… Тогда я и понял, что человек бывает разным – и один человек в разные минуты жизни может поступить и как герой, и как подлец. Я после всего этого таким стал, что даже в театральной характеристике написали, что я обладаю «неистовым сценическим темпераментом». Вообще-то меня ведь родители Вячеславом назвали, и в паспорте у меня это имя. Но, когда я еще в Щепке учился, то во время репетиций настолько в роль входил, что начинал и стулья ломать, и чуть ли не на люстре качаться. Вот Олег Даль как-то и говорит: «Какой ты – Вячеслав? Ты – ярый!». Ну и стал после этого я себя называть Ярославом.
- Ярослав Павлович, ведь каждый спектакль уникален и неповторим. Почему же Вы не используете такую возможность, как кино, чтобы запечатлеть то, что Вы умеете, как актер? Почему не снимаетесь?
- Это как у Островского: «Кирюша, бери взятки» – «Так ведь не дают, маменька!» Я в фильмах снимался, но что-то у нас с кинематографом не сложилось… Когда мы были студентами, некоторые ребята ходили по киностудиям, заглядывали в дверь и спрашивали: «Вам актеры не нужны?». А потом по ночам снимались в массовках, в эпизодах. А мне — второкурснику, сразу на трех студиях (Горьковской, Рижской и Довженко) предложили главные роли. Я согласился, но встретил своего педагога. Он и говорит: «Что ты, Славочка, не надо, не разменивайся. Сниматься — так только на «Мосфильме» и в главной роли». Я и послушался. Потом жалел. Ну, что ж, сделал глупость — сам виноват.
Как-то предложили мне роль в «Арапе Петра Великого». Сняли тридцать проб, сказали, что подхожу, что скоро начну работать. Но на студию долго не вызывали. А когда я пришел туда сам, оказалось, что все это время режиссер ждал, пока Высоцкий, давший согласие сниматься, приедет из Парижа. У меня тогда такой срыв был! Потом я «пробовался» на «Красную площадь». Тоже говорили, что подошел на сто процентов, и опять не взяли. Дальше — еще фильм, еще фильм, еще фильм. Пробы прохожу, а играть — не играю. Ну, я и махнул рукой на все на это.
- А еще о чем-то в своей жизни жалеете?
- Да нет, пожалуй. Я работаю. У меня – хорошая семья, прекрасные дети. Дочь (Лада Барышева) – бизнес-леди, с обложек журналов не сходит. Алешка закончил Академию управления (правда, пока не так «раскрутился», как Лада, но неплохо все), Сережка окончил «Плешку». Внучка от первого брака живет в Англии.
- А в ком из них Вы особенно «повторились»?
- Да во всех, вообще-то. У всех — мои родинки, каждый чем-то похож на меня. Но у Сережки еще и характер мой, моя «взрывчатость». Оба мальчишки занимались самодеятельностью, но в актеры не пошли. Спрашивал, почему, а они – не хотим и все. Однажды приятель сказал: «Ты — преступник! Почему Сережку в театральную школу не отдаешь? Приводи ко мне, я сейчас курс набираю». Но ведь за уши не потащишь…Видели, наверное, как я переживал, когда у меня ролей не было. Хотя, когда я был в простое (лет пять, наверное), я не пил, не впадал в депрессию, не побирался. Я просто начал рисовать, опять стал писать стихи. Хотя, конечно, для меня как для актера это была нелегкая пора.
- Помните, в Советском Союзе считалось, что интеллигенция должна быть в гуще классовой борьбы, мол, только так она может воспитывать массы. Как Вы считаете, стоит ли художнику, актеру лезть в политику, «махать кулаками, отстаивая свою гражданскую позицию?
- Не надо, не надо! Если человек машет кулаками, всенародно заявляя о своей гражданской позиции, значит он хочет себя показать. Значит, он не уверен в своей правоте и ищет поддержки. Думаю, что художнику не нужно на это отвлекаться, надо просто делать свое дело так, чтобы его позиция была понятна из этого дела.
- Похоже, не зря Юрий Соломин сказал о Вас: «Это человек, который занимается только искусством».
- У меня нет желания тратить жизнь на политику, интриги, какие-то разборки. Надо просто работать. И на сцене, как в смерти, надо честным быть. Ведь ни любовь не «сыграешь», ни горе не «сыграешь» — глаза выдадут…
Елена Кудрявцева,
TatCenter.ru, 27 июня 2008 года
Дата публикации: 27.06.2008