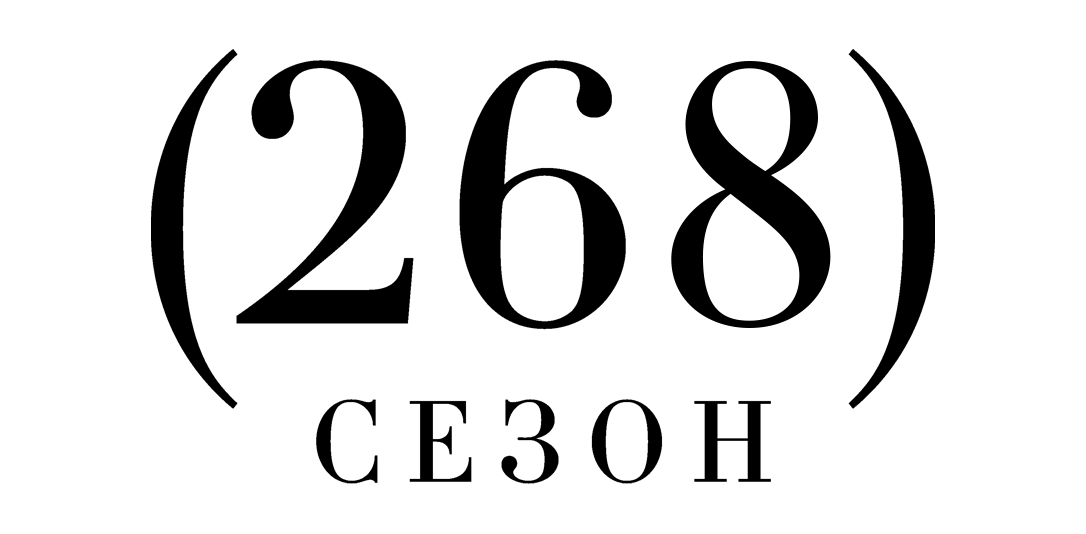Новости
«К 160-летию со дня рождения Александра Павловича Ленского»
А.П.Ленский
«ЗАМЕТКИ АКТЕРА»

«К 160-летию со дня рождения Александра Павловича Ленского» А.П.Ленский «ЗАМЕТКИ АКТЕРА»
«К 160-летию со дня рождения Александра Павловича Ленского»
А.П.Ленский
«ЗАМЕТКИ АКТЕРА» (начало)
Часть I (продолжение)
Неужели не найдется человека с критическим талантом, который снял бы это покрывало таинственности с Шекспира и дал бы возможность раз навсегда покончить с предрассудком, тяготеющим над ним, дал бы возможность читателю и зрителю беззаветно наслаждаться его великими произведениями, не замораживая себя именем Шекспира? Помню, с каким живым интересом я начал читать вступление г. Ив. Иванова к его статье об исполнении на сцене Малого театра комедии Шекспира «Виндзорские проказницы». В этом вступлении я живо почувствовал, что критик хочет отнестись к поэту просто, без педантизма. Как залогу простого отношения к поэту, я радовался даже его несправедливому обвинению в том, что будто нас, исполнителей, подавляло имя Шекспира. (Если это обвинение несправедливо в данном случае, то: в общем тут много правды.) Но едва дошел я до разбора самой пьесы, как; увидел ясно, что радость моя преждевременна, что взгляд критика — «старая погудка на новый лад», да и лад-то не особенно новый, потому что, в сущности, его взгляд тождествен со взглядом Гервинуса на ту же пьесу. И тот и другой задались целью найти нравственную связь комедии с другими пьесами, где появляется Фальстаф, и тот и другой желают объяснить те огромные недочеты в характере Фальстафа комедии ни чем иным, как полным физическим и умственным одряхлением Фальстафа.
Расходятся же они только по поводу места, которое должна занимать комедия в ряду других пьес по ее нравственному смыслу, придуманному самими критиками. Гервинус стоит за то, что комедию следует поместить во второй части хроники «Король Генрих IV», где Фальстаф проводит время в Глостершире у Шалло, т. е., по его мнению, события комедии происходят до кончины Генриха IV, г. Ив. Иванов отводит ей место между хрониками «Король Генрих IV» и «Король Генрих V». Но и тот и другой снова желают как бы выгородить, защитить поэта и объяснить причины тех глупых положений, в которые поэт ставит .своего умного Фальстафа, и тем существенно искажает его характер. Они оба это объясняют требованиями нравственной поэтической правды, в силу которой Фальстаф должен был понести кару за свою прошлую жизнь. Такая исходная точка зрения должна была неизбежно привести критика к самым парадоксальным умозаключениям о пьесе и заставить его предъявлять самые невозможные требования к исполнителю роли Фальстафа.
Итак, г. Ив. Иванов желает доказать, что комедия «Виндзорские проказницы», по отношению к Фальстафу, есть не что иное, как продолжение хроники «Король Генрих IV», и в незнании актером этой, по его мнению, истины кроется главная причина неудачного исполнения роли Фальстафа. Постараюсь доказать как несостоятельность этого взгляда на пьесу, так и неправильность его требований к актеру.
Он пишет: «Исполнители не потрудились познакомиться ни с историей пьесы, ни с характерами действующих лиц, ни с общим тоном всего произведения. Они очевидно ограничились прочтением комедии, не приводя ее в связь с пьесами, среди которых она является только продолжением».
Далее он пишет: «Для нас важна уверенность, что «Виндзорские проказницы» продолжение пьес, написанных раньше, насколько это касается их главного лица — Фальстафа. В этом отношении в самой комедии находится достаточно убедительных доказательств». Все эти доказательства, которые я буду цитировать ниже, понадобились критику затем, чтоб убедить читателя, что за промежуток времени, проходящий, будто бы, между концом хроники «Король Генрих IV» и началом комедий, Фальстаф успел одряхлеть как физически, так и умственно, и доказав это, тем самым датъ почву своему «идейному мотиву», который он желает навязать Шекспиру. Что касается дряхлости, по крайней мере физической, то о ней, по-моему, не может быть и речи, если, как и сам критик заявляет: «Фальстаф не замечает этого, а его ближайшие собутыльники тоже не говорят об этом». Уж если бы Шекспир желал подчеркнуть дряхлость своего героя, как того желает критик, то он упомянул бы об этом и не заставлял своего Фальстафа заниматься браконьерством, буйством, драками, выламыванием дверей в охотничьем домике Шалло— словом, всем тем, что вовсе не говорит о дряхлости. Кроме того, может ли дряхлОе тело перенести к ряду столько невзгод: купанье в канаве, побои палкой по чему ни попало, ожоги, уколы, щипки и тукманки двух десятков рук и после всего этого, как ни в чем не бывало, отправиться на пирушку к Педжу?
Теперь вернемся к убедительным доказательствам критика и рассмотрим, насколько они убедительны. «Один из второстепенных героев пьесы», пишет критик, жених Анны Педж, Фентон, принадлежал когда-то к компании принца Генриха, Он говорит об этом как о минувшем, как о сравнительно далеком воспоминании, называет то время прошлыми кутежами.
Если это и может быть доказательством, то очень легковесным. Я толкую это- место- пьесы иначе. Кто такой Фентон? Фентон — молодой человек, придворный, приехавший в Виндзор, где живет в это время двор, о чем упоминают доктор Каюс и хозяин гостиницы «Подвязки». В Виндзоре он встретил хорошенькую Анну Педж. Сперва в этой любви им руководили корыстные цели, но, узнав ее ближе, он полюбил серьезно. А при возникновении -серьезного чувства каждый мужчина меняет свой -образ жизни, бросает товарищей по кутежам, как и самые кутежи, и говорит о них в разговоре с любимой женщиной, как о невозвратном прошлом. Придавать же этому выражению значение давно-прошедшего, т. е. промежутка времени, в продолжение которого Фальстаф мог состариться, как этого желает критик, по-моему, большая натяжка и надо очень желать видеть в этом доказательство, чтобы выдавать его за таковое.
«Судья Шалло, — продолжает критик, — с довольно легким сердцем вспоминает раньше, что он пятьдесят лет тому назад был студентом — теперь с грустью сознается, что ему восемьдесят и даже более».
Видеть в этих словах Шалло доказательство своей гипотезы со стороны автора по меньшей мере странно. Шалло такой же враль, как и Фальстаф, с тою разницей, что рыцарь умен, а Шалло глуп. Но если этим словам Шалло поверить, то они будут служить только опровержением взгляда, критика, и в этом смысле я сейчас и воспользуюсь ими.
В хронике «Король Генрих IY» (акт III, сц. IV) Шалло говорит, что- он пятьдесят лет тому назад поступил в школу св. Климента. Сколько же лет ему было при поступлении? В интересах взгляда г. критика дадим ему как можно больше: положим, он поступил в нее двадцати лет. Следовательно, в хронике ему 70 лет. А так как, по его же словам, в комедии ему более восьмидесяти, то опять-таки в интересах критика накинем ему только один месяц. Стало быть, Шалло в комедии имеет за плечами восемьдесят лет и один месяц. Из этого ясно, что между концом хроники «Король Генрих IV» и началом комедии проходит десять лет и один месяц. В царствование какого же короля происходит действие комедии? В царствование короля Генриха V оно происходить не может, потому что этот король царствовал только восемь с половиною лет (март 43 г. и август 422 г.). В царствование же его наследника, трехлетнего Генриха VI, действие происходить не может, потому что сам Фальстаф умирает, потрясенный опалой Генриха V во втором акте хроники «Король Генрих V». Но оставим Шалло с его восемьюдесятью годами — он нам более не нужен, и допустим, что действие комедии происходит в промежуток времени между изгнанием рыцаря и его смертью, которая, как видно из хроники, последовала через два года по изгнаний, т. е. в год объявления Англией войны Франции (март 43 г. и апрель 45 г.). Из слов доктора Каюса и хозяина гостиницы «Подвязки» мы знаем, что двор, по какому-то случаю, живет в Виндзоре. А где двор —там, конечно, и король. Как же может опальный Фальстаф жить в одном городе с королем, запретившим ему приближаться к его особе, под страхом смертной казни, ближе как на десять миль? Если допустить, что он проживает тайно, то его скандальная жизнь противоречит этой тайне, и странно, почему Шалло, будучи свидетелем опалы Фальстафа и врагом его, не донесет кому надлежит о тайном пребывании рыцаря в Виндзоре, да и вообще ни единым словом не упоминает об этом? Если допустить, что он прощен, о чем тоже нигде не упоминается, то почему же Фальстаф умирает, потрясенный опалой короля, во втором акте хроники «Король Генрих Т»? Наконец, еще аргумент, который, не понимаю как, ускользнул от внимания критика. Педж говорит: «Он, (т. е. Фентон) водит (не водил, а водит) дружбу с нашим беспутным принцем Генрихом» (акт III, сц. II). С каким же это беспутным принцем Генрихом, если царствует король Генрих V? Следовательно, действие комедии происходит именно в царствование Генриха IV, и о промежутке времени, в который Фальстаф мог бы одряхлеть физически и умственно, не может быть и речи.
Критик ссылается еще на выражение Фальстафа: «мой мозг высох», как на новое доказательство его действительной дряхлости, в которой он, будто бы, сознается сам. Но ведь он это произносит только тогда, когда люди, дурачившие его, открывают ему глаза на свои проделки с ним. Так не проще ли видеть в этом обыкновенный взрыв досады одураченного человека? Ведь восклицает же одураченный городничий в «Ревизоре»: «Как я?.. Нет, как я, старый дурак выжил, глупый баран, из ума». Однако, никому и в голову не приходило толковать это выражение как собственное его сознание в действительной дряхлости. Остается еще упомянуть об «идейном мотиве» критика, заключающемся, будто бы, в возмездии рыцарю «за его прошлую жизнь в силу нравственной и поэтической правды». Но надо ли распространяться об этом мотиве, принадлежащем к категории множества других, навязываемых Шекспиру актерами и критиками и ради которых они не хотят замечать всего, что доказывает неверность их взглядов и что легко отыскать в тексте пьесы?
Уж если желать, во что бы то ни стало, найти связь комедии с хроникой, в чем собственно нет никакой надобности, то во всяком случае, скорее можно комедию поставить впереди хроники, чем после нее. Этому не трудно привести более веские доказательства: 1) Фентон, женившись на Анне Педж, сдержал слово, бросил кутежи и беспутного принца, почему и не показывается в хрониках; 2) Куикли, нажив деньжонок прибыльным ремеслом сводни, а может быть, получив порядочный куш из приданого Анны Педж, бросает службу у .доктора Каюса и открывает кабачок в Истчипе, хозяйкой которого и пребывает благополучно до конца; Фальстаф, еще не в конец проворовавшийся, пользуется почетом и .уважением граждан Виндзора: Шалло говорит, что «будь он двадцать раз сер, но он заставит его поплатиться», форд зовет его «царедворцем». Из слов самого рыцаря видно, что он не порывал своих связей с двором. Вот что он говорит наедине с самим собой: «Если бы при дворе узнали, каким превращениям я подвергался ,и как в этих превращениях меня выкупали и избили,— мой жир вытопили бы из меня по капле и смазали бы этой жидкостью сапоги рыбаков» и пр. (акт IV, сц. V). Но повторяю, что для исполнения комедии на сцене, для ясного понимания ее, не играет никакой роли связь ее с хроникой, и труд актеров не будет облегчен, в каком бы порядке ни поставить ее: прежде или после хроники, что, мне кажется, будет ясно, когда я рассмотрю требования, какие критик предъявляет к актерам.
Он говорит: «Следовательно, Фальстаф комедии— это все тот же Фальстаф, который забавлял, даже увлекал свою компанию остроумием и находчивостью».
Вот в том-то и дело, что не тот, и далеко не тот. С этим, как мы увидим ниже, противореча себе, соглашается и сам критик, но тем не менее требует от актера, чтобы тот напоминал ему Фальстафа хроник, не принимая во внимание отсутствие необходимого для того материала в пьесе. Сравним же обоих Фальстафов и посмотрим, много ли мы найдем в них общего и что именно. Начнем с Фальстафа хроник. Фальстаф обладает несомненным, хотя и дурно направленным, циничным умом, неистощимым остроумием и находчивостью, беспримерною способностью к хвастовству и наглой лжи, трусостью и толстой, громоздкой фигурой. Чем он забавен? — Всего более, конечно, своим остроумием и находчивостью и всего менее — тучной фигурой, которая занимательна только при остальных свойствах его характера.
Мне кажется, что, благодаря своему уму, Фальстаф очень трезво смотрит на свою внешность: он сознает свою старость дa всю непривлекательность своей тучной фигуры для женского взгляда; он весь ушел в брюхо, в нем все заглушено обжорством; у него все продажно, и он довольствуется только продажным, а его по временам просыпающаяся старческая похоть вполне удовлетворяется продажными ласками Доль Тиршит. И мне кажется, что общество даже относительно порядочных женщин, их внимание, ухаживание за ними, все это настолько чуждо его грязной натуре, что он, будучи «королем лгунов», ни единого раза, в продолжение десяти актов, не обмолвливается о каких бы то ни было победах над женскою добродетелью даже сомнительного качества, и даже при воспоминании о давно прошедших днях своей юности. Таков Фальстаф в хрониках. Теперь рассмотрим Фальстафа комедии.
В противоположность Фальстафу хроник Фальстаф комедии простоват, не остроумен, не находчив и даже не лгун. Ему оставлены имя, трусость и тучная фигура. В том, что он простоват, убеждает нас ловушка, которую он сам для себя устраивает и три раза подряд попадает в нее; с тем, что он не остроумен и не находчив, соглашается сам критик, а тому, что он не лгун — служат доказательством все его слова и поступки. Нельзя же принимать за ложь то, что он верит в любовь к нему двух дам Виндзора, в этом видна не ложь, а глубокая уверенность, убежденность в справедливости всего этого. Наконец, он упускает прекрасный случай напомнить собой Фальстафа хроник; он упускает случай сказать блестящую ложь и, ни с того ни с сего, становится правдив и искренен. Фальстаф и — искренность Что может быть нелепее такого сопоставления? А между тем, это — так. Он без всякой утайки, ни на йоту не искажая истины — рассказывает Форду обо всем, что произошло с ним в его доме. Поступил ли бы так настоящий Фальстаф? Можно себе представить: сколько забавного, неимоверного вранья было бы в этой сцене Чего-чего не наговорил бы при таком, удобном для него случае жирный рыцарь! Это была бы апофеоза лжи Тут было бы все кроме правды: описания небывалых сладострастных сцен, сцен ревности между двумя неожиданно встретившимися соперницами, подвигов мужества и ловкости со стороны рыцаря, вроде избиения половины граждан Виндзора или прыжка из слухового окна на мостовую, а не то — скачка через, забор в три-четыре ярда высоты, и многое, многое другое, кроме... инцидента с корзиной. Вот о корзине, можно поручиться, что рыцарь не сказал бы ни слова. То же повторяется и после переодевания старухой. Да, Фальстаф комедий лишен всех своих типических черт, а между тем. критик требует, чтобы актер слил в своей игре образ Фальстафа прежнего, еще сильного, самодовольного, всегда торжествующего, с Фальстафом одряхлевшим, растерявшим свое остроумие.
Такого требования к исполнителю предъявлять нельзя. Как, чем, какими сценическими приемами исполнитель может показать зрителю в слабом уме Фальстафа комедии — силу ума Фальстафа хроник? Может ли актер постоянными поражениями в комедии показать публике его постоянное торжество в хронике? Как может он показать, что такое-то лицо было когда-то остроумным, не имея материала на то в самой роли? Отчего же тогда не потребовать от исполнителя Фальстафа, чтоб он своей тучной, неуклюжею фигурой напомнил зрителю стройного юношу Фальстафа? Отчего не потребовать от живописца, чтобы его картина выражала Не один известный момент, а целый ряд моментов? Мы, актеры, таких приемов не знаем. Если бы таковые приемы были в нашем распоряжении, то задача драматургов была бы значительно облегчена: дал историческому лицу своей пьесы присущие ему черты характера—хорошо, не дал—не беда, актер прочтет историческую монографию и сделает все необходимое.
«Исполнитель главной роли, — продолжает критик, — г. Ленский, очевидно, ограничился изучением характера Фальстафа, насколько этот характер выясняется в комедии». Смею уверить г. критика, что как г. Ленский, так и всякий другой на его месте, никогда ничего иного не может и не должен делать. Изучать он может многое, но выражать на сцене с помощью изучения он может только то, что выясняется в пьесе — не больше.
«Но комичнее всего, — восклицает критик, — сцена Фальстафа с Фордом после свидания с его женой; Фальстаф потерпел чувствительное поражение и все-таки уверен в своей победе, уверяет в этом мужа насмеявшейся над ним женщины. Все эти черты, даже самые крупные, режущие глаза при самом поверхностном знакомстве с пьесой, пропали в слишком бледной и безусловно не типической игре г. Ленского». Я, конечно, не стану отрицать моей бледной и безусловно не типической игры, уже по одному тому, что я сам недоволен ею, а также и потому, что в этом я не могу быть достаточно компетентен; во для меня странно, как даже при поверхностном знакомстве с пьесой не разглядеть того, чад в этой сцене комичен не Фальстаф, а Форд, что все внимание и интерес зрителя сосредоточены преимущественно не на том, что и как рассказывает Фальстаф,— это он узнал из предыдущей сцены,— а на том, как слушает это Форд и что Форд за это время, переживает. Не будь этого, не было бы ни малейшего интереса для зрителя выслушивать точный, правдивый рассказ о том, что только что произошло на -его глазах. Во всей пьесе главное комическое лицо одно: это — Форд. Я сам был в числе зрителей на одном из представлений комедии, когда Форда играл Шуйский, а Фальстафа — Самарин. В этой сцене Фальстаф-Самарин отходил на второй план, :а зритель внимательно следил за Фордом-Шумским, боясь упустить малейший полутон из этой гаммы выражений, сменявшихся на лице актера-художника. Вся невыгода роли Фальстафа комедии заключается в том, что от нее ждут многого, а дает она мало. Не называйся этот толстяк магическим именем популярнейшего в мире комического лица, называйся он как-нибудь иначе, — требования к нему были бы совсем обыкновенные. Но Фальстаф. С этим именем для всякого образованного человека слилось так много забавного, при воспоминании о нем слышится такой поток остроумной лжи, столько увлекательной веселости, такое уменье овладевать положением и... что же? Проходит первая сцена, вторая... кончается первое действие, второе, третье и т. д.— ничего, ничего и ничего. Внешность, коли хотите, Фальстафа, даже, как будто, и его манера выражаться... во это не он, это подделка, это бледная, скучная копия с великого оригинала!
Работая над ролью Фальстафа, я не раз задумывался над вопросом, что могло заставить Шекспира настолько обезличить своего героя, настолько лишить здравого смысла, что он считает свое истрепавшееся тело способным дать двум, по его мнению, похотливым женщинам такие наслаждения, ради которых они решаются обманывать и грабить своих здоровых и крепких мужей? Невольно склоняешься к тому, что рассказ о капризе королевы Елизаветы имеет за собой много правды и вероятия. Елизавета, не сообразив всей нелогичности своего требования, предполагая найти в этом много забавного, пожелала видеть жирного рыцаря влюбленным. Но Фальстаф и любовь, как Фальстаф и искренность, честность, как и всякое положительное свойство человеческой души — несовместно с грязной природой этого рыцаря. Теперь: мог ли Шекспир, бедный комедиант, осмелиться доказывать своей высокой покровительнице всю нелепость такого желания? Конечно, нет. Итак, не имея возможности не исполнить приказания Елизаветы и, вместе с тем, желая избежать вопиющего неправдоподобия, он выставил своего рыцаря — не «влюбленным», как того желала королева, а человеком, эксплоатирующим расположение женщин ради корыстных целей: черта более близкая Фальстафу. Но, тем не менее, навязывая рыцарю положения, несоответствующие его настоящему характеру, он был вынужден поступиться и остальными его свойствами и сделать его лицом — не характера, а интриги, оставив на его долю только внешние, комические положения. Вот как я пробовал объяснить себе те противоречия, на которые наталкивался при изучении комедии.
Продолжение следует…
А.П.Ленский
«ЗАМЕТКИ АКТЕРА» (начало)
Часть I (продолжение)
Неужели не найдется человека с критическим талантом, который снял бы это покрывало таинственности с Шекспира и дал бы возможность раз навсегда покончить с предрассудком, тяготеющим над ним, дал бы возможность читателю и зрителю беззаветно наслаждаться его великими произведениями, не замораживая себя именем Шекспира? Помню, с каким живым интересом я начал читать вступление г. Ив. Иванова к его статье об исполнении на сцене Малого театра комедии Шекспира «Виндзорские проказницы». В этом вступлении я живо почувствовал, что критик хочет отнестись к поэту просто, без педантизма. Как залогу простого отношения к поэту, я радовался даже его несправедливому обвинению в том, что будто нас, исполнителей, подавляло имя Шекспира. (Если это обвинение несправедливо в данном случае, то: в общем тут много правды.) Но едва дошел я до разбора самой пьесы, как; увидел ясно, что радость моя преждевременна, что взгляд критика — «старая погудка на новый лад», да и лад-то не особенно новый, потому что, в сущности, его взгляд тождествен со взглядом Гервинуса на ту же пьесу. И тот и другой задались целью найти нравственную связь комедии с другими пьесами, где появляется Фальстаф, и тот и другой желают объяснить те огромные недочеты в характере Фальстафа комедии ни чем иным, как полным физическим и умственным одряхлением Фальстафа.
Расходятся же они только по поводу места, которое должна занимать комедия в ряду других пьес по ее нравственному смыслу, придуманному самими критиками. Гервинус стоит за то, что комедию следует поместить во второй части хроники «Король Генрих IV», где Фальстаф проводит время в Глостершире у Шалло, т. е., по его мнению, события комедии происходят до кончины Генриха IV, г. Ив. Иванов отводит ей место между хрониками «Король Генрих IV» и «Король Генрих V». Но и тот и другой снова желают как бы выгородить, защитить поэта и объяснить причины тех глупых положений, в которые поэт ставит .своего умного Фальстафа, и тем существенно искажает его характер. Они оба это объясняют требованиями нравственной поэтической правды, в силу которой Фальстаф должен был понести кару за свою прошлую жизнь. Такая исходная точка зрения должна была неизбежно привести критика к самым парадоксальным умозаключениям о пьесе и заставить его предъявлять самые невозможные требования к исполнителю роли Фальстафа.
Итак, г. Ив. Иванов желает доказать, что комедия «Виндзорские проказницы», по отношению к Фальстафу, есть не что иное, как продолжение хроники «Король Генрих IV», и в незнании актером этой, по его мнению, истины кроется главная причина неудачного исполнения роли Фальстафа. Постараюсь доказать как несостоятельность этого взгляда на пьесу, так и неправильность его требований к актеру.
Он пишет: «Исполнители не потрудились познакомиться ни с историей пьесы, ни с характерами действующих лиц, ни с общим тоном всего произведения. Они очевидно ограничились прочтением комедии, не приводя ее в связь с пьесами, среди которых она является только продолжением».
Далее он пишет: «Для нас важна уверенность, что «Виндзорские проказницы» продолжение пьес, написанных раньше, насколько это касается их главного лица — Фальстафа. В этом отношении в самой комедии находится достаточно убедительных доказательств». Все эти доказательства, которые я буду цитировать ниже, понадобились критику затем, чтоб убедить читателя, что за промежуток времени, проходящий, будто бы, между концом хроники «Король Генрих IV» и началом комедий, Фальстаф успел одряхлеть как физически, так и умственно, и доказав это, тем самым датъ почву своему «идейному мотиву», который он желает навязать Шекспиру. Что касается дряхлости, по крайней мере физической, то о ней, по-моему, не может быть и речи, если, как и сам критик заявляет: «Фальстаф не замечает этого, а его ближайшие собутыльники тоже не говорят об этом». Уж если бы Шекспир желал подчеркнуть дряхлость своего героя, как того желает критик, то он упомянул бы об этом и не заставлял своего Фальстафа заниматься браконьерством, буйством, драками, выламыванием дверей в охотничьем домике Шалло— словом, всем тем, что вовсе не говорит о дряхлости. Кроме того, может ли дряхлОе тело перенести к ряду столько невзгод: купанье в канаве, побои палкой по чему ни попало, ожоги, уколы, щипки и тукманки двух десятков рук и после всего этого, как ни в чем не бывало, отправиться на пирушку к Педжу?
Теперь вернемся к убедительным доказательствам критика и рассмотрим, насколько они убедительны. «Один из второстепенных героев пьесы», пишет критик, жених Анны Педж, Фентон, принадлежал когда-то к компании принца Генриха, Он говорит об этом как о минувшем, как о сравнительно далеком воспоминании, называет то время прошлыми кутежами.
Если это и может быть доказательством, то очень легковесным. Я толкую это- место- пьесы иначе. Кто такой Фентон? Фентон — молодой человек, придворный, приехавший в Виндзор, где живет в это время двор, о чем упоминают доктор Каюс и хозяин гостиницы «Подвязки». В Виндзоре он встретил хорошенькую Анну Педж. Сперва в этой любви им руководили корыстные цели, но, узнав ее ближе, он полюбил серьезно. А при возникновении -серьезного чувства каждый мужчина меняет свой -образ жизни, бросает товарищей по кутежам, как и самые кутежи, и говорит о них в разговоре с любимой женщиной, как о невозвратном прошлом. Придавать же этому выражению значение давно-прошедшего, т. е. промежутка времени, в продолжение которого Фальстаф мог состариться, как этого желает критик, по-моему, большая натяжка и надо очень желать видеть в этом доказательство, чтобы выдавать его за таковое.
«Судья Шалло, — продолжает критик, — с довольно легким сердцем вспоминает раньше, что он пятьдесят лет тому назад был студентом — теперь с грустью сознается, что ему восемьдесят и даже более».
Видеть в этих словах Шалло доказательство своей гипотезы со стороны автора по меньшей мере странно. Шалло такой же враль, как и Фальстаф, с тою разницей, что рыцарь умен, а Шалло глуп. Но если этим словам Шалло поверить, то они будут служить только опровержением взгляда, критика, и в этом смысле я сейчас и воспользуюсь ими.
В хронике «Король Генрих IY» (акт III, сц. IV) Шалло говорит, что- он пятьдесят лет тому назад поступил в школу св. Климента. Сколько же лет ему было при поступлении? В интересах взгляда г. критика дадим ему как можно больше: положим, он поступил в нее двадцати лет. Следовательно, в хронике ему 70 лет. А так как, по его же словам, в комедии ему более восьмидесяти, то опять-таки в интересах критика накинем ему только один месяц. Стало быть, Шалло в комедии имеет за плечами восемьдесят лет и один месяц. Из этого ясно, что между концом хроники «Король Генрих IV» и началом комедии проходит десять лет и один месяц. В царствование какого же короля происходит действие комедии? В царствование короля Генриха V оно происходить не может, потому что этот король царствовал только восемь с половиною лет (март 43 г. и август 422 г.). В царствование же его наследника, трехлетнего Генриха VI, действие происходить не может, потому что сам Фальстаф умирает, потрясенный опалой Генриха V во втором акте хроники «Король Генрих V». Но оставим Шалло с его восемьюдесятью годами — он нам более не нужен, и допустим, что действие комедии происходит в промежуток времени между изгнанием рыцаря и его смертью, которая, как видно из хроники, последовала через два года по изгнаний, т. е. в год объявления Англией войны Франции (март 43 г. и апрель 45 г.). Из слов доктора Каюса и хозяина гостиницы «Подвязки» мы знаем, что двор, по какому-то случаю, живет в Виндзоре. А где двор —там, конечно, и король. Как же может опальный Фальстаф жить в одном городе с королем, запретившим ему приближаться к его особе, под страхом смертной казни, ближе как на десять миль? Если допустить, что он проживает тайно, то его скандальная жизнь противоречит этой тайне, и странно, почему Шалло, будучи свидетелем опалы Фальстафа и врагом его, не донесет кому надлежит о тайном пребывании рыцаря в Виндзоре, да и вообще ни единым словом не упоминает об этом? Если допустить, что он прощен, о чем тоже нигде не упоминается, то почему же Фальстаф умирает, потрясенный опалой короля, во втором акте хроники «Король Генрих Т»? Наконец, еще аргумент, который, не понимаю как, ускользнул от внимания критика. Педж говорит: «Он, (т. е. Фентон) водит (не водил, а водит) дружбу с нашим беспутным принцем Генрихом» (акт III, сц. II). С каким же это беспутным принцем Генрихом, если царствует король Генрих V? Следовательно, действие комедии происходит именно в царствование Генриха IV, и о промежутке времени, в который Фальстаф мог бы одряхлеть физически и умственно, не может быть и речи.
Критик ссылается еще на выражение Фальстафа: «мой мозг высох», как на новое доказательство его действительной дряхлости, в которой он, будто бы, сознается сам. Но ведь он это произносит только тогда, когда люди, дурачившие его, открывают ему глаза на свои проделки с ним. Так не проще ли видеть в этом обыкновенный взрыв досады одураченного человека? Ведь восклицает же одураченный городничий в «Ревизоре»: «Как я?.. Нет, как я, старый дурак выжил, глупый баран, из ума». Однако, никому и в голову не приходило толковать это выражение как собственное его сознание в действительной дряхлости. Остается еще упомянуть об «идейном мотиве» критика, заключающемся, будто бы, в возмездии рыцарю «за его прошлую жизнь в силу нравственной и поэтической правды». Но надо ли распространяться об этом мотиве, принадлежащем к категории множества других, навязываемых Шекспиру актерами и критиками и ради которых они не хотят замечать всего, что доказывает неверность их взглядов и что легко отыскать в тексте пьесы?
Уж если желать, во что бы то ни стало, найти связь комедии с хроникой, в чем собственно нет никакой надобности, то во всяком случае, скорее можно комедию поставить впереди хроники, чем после нее. Этому не трудно привести более веские доказательства: 1) Фентон, женившись на Анне Педж, сдержал слово, бросил кутежи и беспутного принца, почему и не показывается в хрониках; 2) Куикли, нажив деньжонок прибыльным ремеслом сводни, а может быть, получив порядочный куш из приданого Анны Педж, бросает службу у .доктора Каюса и открывает кабачок в Истчипе, хозяйкой которого и пребывает благополучно до конца; Фальстаф, еще не в конец проворовавшийся, пользуется почетом и .уважением граждан Виндзора: Шалло говорит, что «будь он двадцать раз сер, но он заставит его поплатиться», форд зовет его «царедворцем». Из слов самого рыцаря видно, что он не порывал своих связей с двором. Вот что он говорит наедине с самим собой: «Если бы при дворе узнали, каким превращениям я подвергался ,и как в этих превращениях меня выкупали и избили,— мой жир вытопили бы из меня по капле и смазали бы этой жидкостью сапоги рыбаков» и пр. (акт IV, сц. V). Но повторяю, что для исполнения комедии на сцене, для ясного понимания ее, не играет никакой роли связь ее с хроникой, и труд актеров не будет облегчен, в каком бы порядке ни поставить ее: прежде или после хроники, что, мне кажется, будет ясно, когда я рассмотрю требования, какие критик предъявляет к актерам.
Он говорит: «Следовательно, Фальстаф комедии— это все тот же Фальстаф, который забавлял, даже увлекал свою компанию остроумием и находчивостью».
Вот в том-то и дело, что не тот, и далеко не тот. С этим, как мы увидим ниже, противореча себе, соглашается и сам критик, но тем не менее требует от актера, чтобы тот напоминал ему Фальстафа хроник, не принимая во внимание отсутствие необходимого для того материала в пьесе. Сравним же обоих Фальстафов и посмотрим, много ли мы найдем в них общего и что именно. Начнем с Фальстафа хроник. Фальстаф обладает несомненным, хотя и дурно направленным, циничным умом, неистощимым остроумием и находчивостью, беспримерною способностью к хвастовству и наглой лжи, трусостью и толстой, громоздкой фигурой. Чем он забавен? — Всего более, конечно, своим остроумием и находчивостью и всего менее — тучной фигурой, которая занимательна только при остальных свойствах его характера.
Мне кажется, что, благодаря своему уму, Фальстаф очень трезво смотрит на свою внешность: он сознает свою старость дa всю непривлекательность своей тучной фигуры для женского взгляда; он весь ушел в брюхо, в нем все заглушено обжорством; у него все продажно, и он довольствуется только продажным, а его по временам просыпающаяся старческая похоть вполне удовлетворяется продажными ласками Доль Тиршит. И мне кажется, что общество даже относительно порядочных женщин, их внимание, ухаживание за ними, все это настолько чуждо его грязной натуре, что он, будучи «королем лгунов», ни единого раза, в продолжение десяти актов, не обмолвливается о каких бы то ни было победах над женскою добродетелью даже сомнительного качества, и даже при воспоминании о давно прошедших днях своей юности. Таков Фальстаф в хрониках. Теперь рассмотрим Фальстафа комедии.
В противоположность Фальстафу хроник Фальстаф комедии простоват, не остроумен, не находчив и даже не лгун. Ему оставлены имя, трусость и тучная фигура. В том, что он простоват, убеждает нас ловушка, которую он сам для себя устраивает и три раза подряд попадает в нее; с тем, что он не остроумен и не находчив, соглашается сам критик, а тому, что он не лгун — служат доказательством все его слова и поступки. Нельзя же принимать за ложь то, что он верит в любовь к нему двух дам Виндзора, в этом видна не ложь, а глубокая уверенность, убежденность в справедливости всего этого. Наконец, он упускает прекрасный случай напомнить собой Фальстафа хроник; он упускает случай сказать блестящую ложь и, ни с того ни с сего, становится правдив и искренен. Фальстаф и — искренность Что может быть нелепее такого сопоставления? А между тем, это — так. Он без всякой утайки, ни на йоту не искажая истины — рассказывает Форду обо всем, что произошло с ним в его доме. Поступил ли бы так настоящий Фальстаф? Можно себе представить: сколько забавного, неимоверного вранья было бы в этой сцене Чего-чего не наговорил бы при таком, удобном для него случае жирный рыцарь! Это была бы апофеоза лжи Тут было бы все кроме правды: описания небывалых сладострастных сцен, сцен ревности между двумя неожиданно встретившимися соперницами, подвигов мужества и ловкости со стороны рыцаря, вроде избиения половины граждан Виндзора или прыжка из слухового окна на мостовую, а не то — скачка через, забор в три-четыре ярда высоты, и многое, многое другое, кроме... инцидента с корзиной. Вот о корзине, можно поручиться, что рыцарь не сказал бы ни слова. То же повторяется и после переодевания старухой. Да, Фальстаф комедий лишен всех своих типических черт, а между тем. критик требует, чтобы актер слил в своей игре образ Фальстафа прежнего, еще сильного, самодовольного, всегда торжествующего, с Фальстафом одряхлевшим, растерявшим свое остроумие.
Такого требования к исполнителю предъявлять нельзя. Как, чем, какими сценическими приемами исполнитель может показать зрителю в слабом уме Фальстафа комедии — силу ума Фальстафа хроник? Может ли актер постоянными поражениями в комедии показать публике его постоянное торжество в хронике? Как может он показать, что такое-то лицо было когда-то остроумным, не имея материала на то в самой роли? Отчего же тогда не потребовать от исполнителя Фальстафа, чтоб он своей тучной, неуклюжею фигурой напомнил зрителю стройного юношу Фальстафа? Отчего не потребовать от живописца, чтобы его картина выражала Не один известный момент, а целый ряд моментов? Мы, актеры, таких приемов не знаем. Если бы таковые приемы были в нашем распоряжении, то задача драматургов была бы значительно облегчена: дал историческому лицу своей пьесы присущие ему черты характера—хорошо, не дал—не беда, актер прочтет историческую монографию и сделает все необходимое.
«Исполнитель главной роли, — продолжает критик, — г. Ленский, очевидно, ограничился изучением характера Фальстафа, насколько этот характер выясняется в комедии». Смею уверить г. критика, что как г. Ленский, так и всякий другой на его месте, никогда ничего иного не может и не должен делать. Изучать он может многое, но выражать на сцене с помощью изучения он может только то, что выясняется в пьесе — не больше.
«Но комичнее всего, — восклицает критик, — сцена Фальстафа с Фордом после свидания с его женой; Фальстаф потерпел чувствительное поражение и все-таки уверен в своей победе, уверяет в этом мужа насмеявшейся над ним женщины. Все эти черты, даже самые крупные, режущие глаза при самом поверхностном знакомстве с пьесой, пропали в слишком бледной и безусловно не типической игре г. Ленского». Я, конечно, не стану отрицать моей бледной и безусловно не типической игры, уже по одному тому, что я сам недоволен ею, а также и потому, что в этом я не могу быть достаточно компетентен; во для меня странно, как даже при поверхностном знакомстве с пьесой не разглядеть того, чад в этой сцене комичен не Фальстаф, а Форд, что все внимание и интерес зрителя сосредоточены преимущественно не на том, что и как рассказывает Фальстаф,— это он узнал из предыдущей сцены,— а на том, как слушает это Форд и что Форд за это время, переживает. Не будь этого, не было бы ни малейшего интереса для зрителя выслушивать точный, правдивый рассказ о том, что только что произошло на -его глазах. Во всей пьесе главное комическое лицо одно: это — Форд. Я сам был в числе зрителей на одном из представлений комедии, когда Форда играл Шуйский, а Фальстафа — Самарин. В этой сцене Фальстаф-Самарин отходил на второй план, :а зритель внимательно следил за Фордом-Шумским, боясь упустить малейший полутон из этой гаммы выражений, сменявшихся на лице актера-художника. Вся невыгода роли Фальстафа комедии заключается в том, что от нее ждут многого, а дает она мало. Не называйся этот толстяк магическим именем популярнейшего в мире комического лица, называйся он как-нибудь иначе, — требования к нему были бы совсем обыкновенные. Но Фальстаф. С этим именем для всякого образованного человека слилось так много забавного, при воспоминании о нем слышится такой поток остроумной лжи, столько увлекательной веселости, такое уменье овладевать положением и... что же? Проходит первая сцена, вторая... кончается первое действие, второе, третье и т. д.— ничего, ничего и ничего. Внешность, коли хотите, Фальстафа, даже, как будто, и его манера выражаться... во это не он, это подделка, это бледная, скучная копия с великого оригинала!
Работая над ролью Фальстафа, я не раз задумывался над вопросом, что могло заставить Шекспира настолько обезличить своего героя, настолько лишить здравого смысла, что он считает свое истрепавшееся тело способным дать двум, по его мнению, похотливым женщинам такие наслаждения, ради которых они решаются обманывать и грабить своих здоровых и крепких мужей? Невольно склоняешься к тому, что рассказ о капризе королевы Елизаветы имеет за собой много правды и вероятия. Елизавета, не сообразив всей нелогичности своего требования, предполагая найти в этом много забавного, пожелала видеть жирного рыцаря влюбленным. Но Фальстаф и любовь, как Фальстаф и искренность, честность, как и всякое положительное свойство человеческой души — несовместно с грязной природой этого рыцаря. Теперь: мог ли Шекспир, бедный комедиант, осмелиться доказывать своей высокой покровительнице всю нелепость такого желания? Конечно, нет. Итак, не имея возможности не исполнить приказания Елизаветы и, вместе с тем, желая избежать вопиющего неправдоподобия, он выставил своего рыцаря — не «влюбленным», как того желала королева, а человеком, эксплоатирующим расположение женщин ради корыстных целей: черта более близкая Фальстафу. Но, тем не менее, навязывая рыцарю положения, несоответствующие его настоящему характеру, он был вынужден поступиться и остальными его свойствами и сделать его лицом — не характера, а интриги, оставив на его долю только внешние, комические положения. Вот как я пробовал объяснить себе те противоречия, на которые наталкивался при изучении комедии.
Продолжение следует…
Дата публикации: 23.10.2007

«К 160-летию со дня рождения Александра Павловича Ленского»
А.П.Ленский
«ЗАМЕТКИ АКТЕРА» (начало)
Часть I (продолжение)
Неужели не найдется человека с критическим талантом, который снял бы это покрывало таинственности с Шекспира и дал бы возможность раз навсегда покончить с предрассудком, тяготеющим над ним, дал бы возможность читателю и зрителю беззаветно наслаждаться его великими произведениями, не замораживая себя именем Шекспира? Помню, с каким живым интересом я начал читать вступление г. Ив. Иванова к его статье об исполнении на сцене Малого театра комедии Шекспира «Виндзорские проказницы». В этом вступлении я живо почувствовал, что критик хочет отнестись к поэту просто, без педантизма. Как залогу простого отношения к поэту, я радовался даже его несправедливому обвинению в том, что будто нас, исполнителей, подавляло имя Шекспира. (Если это обвинение несправедливо в данном случае, то: в общем тут много правды.) Но едва дошел я до разбора самой пьесы, как; увидел ясно, что радость моя преждевременна, что взгляд критика — «старая погудка на новый лад», да и лад-то не особенно новый, потому что, в сущности, его взгляд тождествен со взглядом Гервинуса на ту же пьесу. И тот и другой задались целью найти нравственную связь комедии с другими пьесами, где появляется Фальстаф, и тот и другой желают объяснить те огромные недочеты в характере Фальстафа комедии ни чем иным, как полным физическим и умственным одряхлением Фальстафа.
Расходятся же они только по поводу места, которое должна занимать комедия в ряду других пьес по ее нравственному смыслу, придуманному самими критиками. Гервинус стоит за то, что комедию следует поместить во второй части хроники «Король Генрих IV», где Фальстаф проводит время в Глостершире у Шалло, т. е., по его мнению, события комедии происходят до кончины Генриха IV, г. Ив. Иванов отводит ей место между хрониками «Король Генрих IV» и «Король Генрих V». Но и тот и другой снова желают как бы выгородить, защитить поэта и объяснить причины тех глупых положений, в которые поэт ставит .своего умного Фальстафа, и тем существенно искажает его характер. Они оба это объясняют требованиями нравственной поэтической правды, в силу которой Фальстаф должен был понести кару за свою прошлую жизнь. Такая исходная точка зрения должна была неизбежно привести критика к самым парадоксальным умозаключениям о пьесе и заставить его предъявлять самые невозможные требования к исполнителю роли Фальстафа.
Итак, г. Ив. Иванов желает доказать, что комедия «Виндзорские проказницы», по отношению к Фальстафу, есть не что иное, как продолжение хроники «Король Генрих IV», и в незнании актером этой, по его мнению, истины кроется главная причина неудачного исполнения роли Фальстафа. Постараюсь доказать как несостоятельность этого взгляда на пьесу, так и неправильность его требований к актеру.
Он пишет: «Исполнители не потрудились познакомиться ни с историей пьесы, ни с характерами действующих лиц, ни с общим тоном всего произведения. Они очевидно ограничились прочтением комедии, не приводя ее в связь с пьесами, среди которых она является только продолжением».
Далее он пишет: «Для нас важна уверенность, что «Виндзорские проказницы» продолжение пьес, написанных раньше, насколько это касается их главного лица — Фальстафа. В этом отношении в самой комедии находится достаточно убедительных доказательств». Все эти доказательства, которые я буду цитировать ниже, понадобились критику затем, чтоб убедить читателя, что за промежуток времени, проходящий, будто бы, между концом хроники «Король Генрих IV» и началом комедий, Фальстаф успел одряхлеть как физически, так и умственно, и доказав это, тем самым датъ почву своему «идейному мотиву», который он желает навязать Шекспиру. Что касается дряхлости, по крайней мере физической, то о ней, по-моему, не может быть и речи, если, как и сам критик заявляет: «Фальстаф не замечает этого, а его ближайшие собутыльники тоже не говорят об этом». Уж если бы Шекспир желал подчеркнуть дряхлость своего героя, как того желает критик, то он упомянул бы об этом и не заставлял своего Фальстафа заниматься браконьерством, буйством, драками, выламыванием дверей в охотничьем домике Шалло— словом, всем тем, что вовсе не говорит о дряхлости. Кроме того, может ли дряхлОе тело перенести к ряду столько невзгод: купанье в канаве, побои палкой по чему ни попало, ожоги, уколы, щипки и тукманки двух десятков рук и после всего этого, как ни в чем не бывало, отправиться на пирушку к Педжу?
Теперь вернемся к убедительным доказательствам критика и рассмотрим, насколько они убедительны. «Один из второстепенных героев пьесы», пишет критик, жених Анны Педж, Фентон, принадлежал когда-то к компании принца Генриха, Он говорит об этом как о минувшем, как о сравнительно далеком воспоминании, называет то время прошлыми кутежами.
Если это и может быть доказательством, то очень легковесным. Я толкую это- место- пьесы иначе. Кто такой Фентон? Фентон — молодой человек, придворный, приехавший в Виндзор, где живет в это время двор, о чем упоминают доктор Каюс и хозяин гостиницы «Подвязки». В Виндзоре он встретил хорошенькую Анну Педж. Сперва в этой любви им руководили корыстные цели, но, узнав ее ближе, он полюбил серьезно. А при возникновении -серьезного чувства каждый мужчина меняет свой -образ жизни, бросает товарищей по кутежам, как и самые кутежи, и говорит о них в разговоре с любимой женщиной, как о невозвратном прошлом. Придавать же этому выражению значение давно-прошедшего, т. е. промежутка времени, в продолжение которого Фальстаф мог состариться, как этого желает критик, по-моему, большая натяжка и надо очень желать видеть в этом доказательство, чтобы выдавать его за таковое.
«Судья Шалло, — продолжает критик, — с довольно легким сердцем вспоминает раньше, что он пятьдесят лет тому назад был студентом — теперь с грустью сознается, что ему восемьдесят и даже более».
Видеть в этих словах Шалло доказательство своей гипотезы со стороны автора по меньшей мере странно. Шалло такой же враль, как и Фальстаф, с тою разницей, что рыцарь умен, а Шалло глуп. Но если этим словам Шалло поверить, то они будут служить только опровержением взгляда, критика, и в этом смысле я сейчас и воспользуюсь ими.
В хронике «Король Генрих IY» (акт III, сц. IV) Шалло говорит, что- он пятьдесят лет тому назад поступил в школу св. Климента. Сколько же лет ему было при поступлении? В интересах взгляда г. критика дадим ему как можно больше: положим, он поступил в нее двадцати лет. Следовательно, в хронике ему 70 лет. А так как, по его же словам, в комедии ему более восьмидесяти, то опять-таки в интересах критика накинем ему только один месяц. Стало быть, Шалло в комедии имеет за плечами восемьдесят лет и один месяц. Из этого ясно, что между концом хроники «Король Генрих IV» и началом комедии проходит десять лет и один месяц. В царствование какого же короля происходит действие комедии? В царствование короля Генриха V оно происходить не может, потому что этот король царствовал только восемь с половиною лет (март 43 г. и август 422 г.). В царствование же его наследника, трехлетнего Генриха VI, действие происходить не может, потому что сам Фальстаф умирает, потрясенный опалой Генриха V во втором акте хроники «Король Генрих V». Но оставим Шалло с его восемьюдесятью годами — он нам более не нужен, и допустим, что действие комедии происходит в промежуток времени между изгнанием рыцаря и его смертью, которая, как видно из хроники, последовала через два года по изгнаний, т. е. в год объявления Англией войны Франции (март 43 г. и апрель 45 г.). Из слов доктора Каюса и хозяина гостиницы «Подвязки» мы знаем, что двор, по какому-то случаю, живет в Виндзоре. А где двор —там, конечно, и король. Как же может опальный Фальстаф жить в одном городе с королем, запретившим ему приближаться к его особе, под страхом смертной казни, ближе как на десять миль? Если допустить, что он проживает тайно, то его скандальная жизнь противоречит этой тайне, и странно, почему Шалло, будучи свидетелем опалы Фальстафа и врагом его, не донесет кому надлежит о тайном пребывании рыцаря в Виндзоре, да и вообще ни единым словом не упоминает об этом? Если допустить, что он прощен, о чем тоже нигде не упоминается, то почему же Фальстаф умирает, потрясенный опалой короля, во втором акте хроники «Король Генрих Т»? Наконец, еще аргумент, который, не понимаю как, ускользнул от внимания критика. Педж говорит: «Он, (т. е. Фентон) водит (не водил, а водит) дружбу с нашим беспутным принцем Генрихом» (акт III, сц. II). С каким же это беспутным принцем Генрихом, если царствует король Генрих V? Следовательно, действие комедии происходит именно в царствование Генриха IV, и о промежутке времени, в который Фальстаф мог бы одряхлеть физически и умственно, не может быть и речи.
Критик ссылается еще на выражение Фальстафа: «мой мозг высох», как на новое доказательство его действительной дряхлости, в которой он, будто бы, сознается сам. Но ведь он это произносит только тогда, когда люди, дурачившие его, открывают ему глаза на свои проделки с ним. Так не проще ли видеть в этом обыкновенный взрыв досады одураченного человека? Ведь восклицает же одураченный городничий в «Ревизоре»: «Как я?.. Нет, как я, старый дурак выжил, глупый баран, из ума». Однако, никому и в голову не приходило толковать это выражение как собственное его сознание в действительной дряхлости. Остается еще упомянуть об «идейном мотиве» критика, заключающемся, будто бы, в возмездии рыцарю «за его прошлую жизнь в силу нравственной и поэтической правды». Но надо ли распространяться об этом мотиве, принадлежащем к категории множества других, навязываемых Шекспиру актерами и критиками и ради которых они не хотят замечать всего, что доказывает неверность их взглядов и что легко отыскать в тексте пьесы?
Уж если желать, во что бы то ни стало, найти связь комедии с хроникой, в чем собственно нет никакой надобности, то во всяком случае, скорее можно комедию поставить впереди хроники, чем после нее. Этому не трудно привести более веские доказательства: 1) Фентон, женившись на Анне Педж, сдержал слово, бросил кутежи и беспутного принца, почему и не показывается в хрониках; 2) Куикли, нажив деньжонок прибыльным ремеслом сводни, а может быть, получив порядочный куш из приданого Анны Педж, бросает службу у .доктора Каюса и открывает кабачок в Истчипе, хозяйкой которого и пребывает благополучно до конца; Фальстаф, еще не в конец проворовавшийся, пользуется почетом и .уважением граждан Виндзора: Шалло говорит, что «будь он двадцать раз сер, но он заставит его поплатиться», форд зовет его «царедворцем». Из слов самого рыцаря видно, что он не порывал своих связей с двором. Вот что он говорит наедине с самим собой: «Если бы при дворе узнали, каким превращениям я подвергался ,и как в этих превращениях меня выкупали и избили,— мой жир вытопили бы из меня по капле и смазали бы этой жидкостью сапоги рыбаков» и пр. (акт IV, сц. V). Но повторяю, что для исполнения комедии на сцене, для ясного понимания ее, не играет никакой роли связь ее с хроникой, и труд актеров не будет облегчен, в каком бы порядке ни поставить ее: прежде или после хроники, что, мне кажется, будет ясно, когда я рассмотрю требования, какие критик предъявляет к актерам.
Он говорит: «Следовательно, Фальстаф комедии— это все тот же Фальстаф, который забавлял, даже увлекал свою компанию остроумием и находчивостью».
Вот в том-то и дело, что не тот, и далеко не тот. С этим, как мы увидим ниже, противореча себе, соглашается и сам критик, но тем не менее требует от актера, чтобы тот напоминал ему Фальстафа хроник, не принимая во внимание отсутствие необходимого для того материала в пьесе. Сравним же обоих Фальстафов и посмотрим, много ли мы найдем в них общего и что именно. Начнем с Фальстафа хроник. Фальстаф обладает несомненным, хотя и дурно направленным, циничным умом, неистощимым остроумием и находчивостью, беспримерною способностью к хвастовству и наглой лжи, трусостью и толстой, громоздкой фигурой. Чем он забавен? — Всего более, конечно, своим остроумием и находчивостью и всего менее — тучной фигурой, которая занимательна только при остальных свойствах его характера.
Мне кажется, что, благодаря своему уму, Фальстаф очень трезво смотрит на свою внешность: он сознает свою старость дa всю непривлекательность своей тучной фигуры для женского взгляда; он весь ушел в брюхо, в нем все заглушено обжорством; у него все продажно, и он довольствуется только продажным, а его по временам просыпающаяся старческая похоть вполне удовлетворяется продажными ласками Доль Тиршит. И мне кажется, что общество даже относительно порядочных женщин, их внимание, ухаживание за ними, все это настолько чуждо его грязной натуре, что он, будучи «королем лгунов», ни единого раза, в продолжение десяти актов, не обмолвливается о каких бы то ни было победах над женскою добродетелью даже сомнительного качества, и даже при воспоминании о давно прошедших днях своей юности. Таков Фальстаф в хрониках. Теперь рассмотрим Фальстафа комедии.
В противоположность Фальстафу хроник Фальстаф комедии простоват, не остроумен, не находчив и даже не лгун. Ему оставлены имя, трусость и тучная фигура. В том, что он простоват, убеждает нас ловушка, которую он сам для себя устраивает и три раза подряд попадает в нее; с тем, что он не остроумен и не находчив, соглашается сам критик, а тому, что он не лгун — служат доказательством все его слова и поступки. Нельзя же принимать за ложь то, что он верит в любовь к нему двух дам Виндзора, в этом видна не ложь, а глубокая уверенность, убежденность в справедливости всего этого. Наконец, он упускает прекрасный случай напомнить собой Фальстафа хроник; он упускает случай сказать блестящую ложь и, ни с того ни с сего, становится правдив и искренен. Фальстаф и — искренность Что может быть нелепее такого сопоставления? А между тем, это — так. Он без всякой утайки, ни на йоту не искажая истины — рассказывает Форду обо всем, что произошло с ним в его доме. Поступил ли бы так настоящий Фальстаф? Можно себе представить: сколько забавного, неимоверного вранья было бы в этой сцене Чего-чего не наговорил бы при таком, удобном для него случае жирный рыцарь! Это была бы апофеоза лжи Тут было бы все кроме правды: описания небывалых сладострастных сцен, сцен ревности между двумя неожиданно встретившимися соперницами, подвигов мужества и ловкости со стороны рыцаря, вроде избиения половины граждан Виндзора или прыжка из слухового окна на мостовую, а не то — скачка через, забор в три-четыре ярда высоты, и многое, многое другое, кроме... инцидента с корзиной. Вот о корзине, можно поручиться, что рыцарь не сказал бы ни слова. То же повторяется и после переодевания старухой. Да, Фальстаф комедий лишен всех своих типических черт, а между тем. критик требует, чтобы актер слил в своей игре образ Фальстафа прежнего, еще сильного, самодовольного, всегда торжествующего, с Фальстафом одряхлевшим, растерявшим свое остроумие.
Такого требования к исполнителю предъявлять нельзя. Как, чем, какими сценическими приемами исполнитель может показать зрителю в слабом уме Фальстафа комедии — силу ума Фальстафа хроник? Может ли актер постоянными поражениями в комедии показать публике его постоянное торжество в хронике? Как может он показать, что такое-то лицо было когда-то остроумным, не имея материала на то в самой роли? Отчего же тогда не потребовать от исполнителя Фальстафа, чтоб он своей тучной, неуклюжею фигурой напомнил зрителю стройного юношу Фальстафа? Отчего не потребовать от живописца, чтобы его картина выражала Не один известный момент, а целый ряд моментов? Мы, актеры, таких приемов не знаем. Если бы таковые приемы были в нашем распоряжении, то задача драматургов была бы значительно облегчена: дал историческому лицу своей пьесы присущие ему черты характера—хорошо, не дал—не беда, актер прочтет историческую монографию и сделает все необходимое.
«Исполнитель главной роли, — продолжает критик, — г. Ленский, очевидно, ограничился изучением характера Фальстафа, насколько этот характер выясняется в комедии». Смею уверить г. критика, что как г. Ленский, так и всякий другой на его месте, никогда ничего иного не может и не должен делать. Изучать он может многое, но выражать на сцене с помощью изучения он может только то, что выясняется в пьесе — не больше.
«Но комичнее всего, — восклицает критик, — сцена Фальстафа с Фордом после свидания с его женой; Фальстаф потерпел чувствительное поражение и все-таки уверен в своей победе, уверяет в этом мужа насмеявшейся над ним женщины. Все эти черты, даже самые крупные, режущие глаза при самом поверхностном знакомстве с пьесой, пропали в слишком бледной и безусловно не типической игре г. Ленского». Я, конечно, не стану отрицать моей бледной и безусловно не типической игры, уже по одному тому, что я сам недоволен ею, а также и потому, что в этом я не могу быть достаточно компетентен; во для меня странно, как даже при поверхностном знакомстве с пьесой не разглядеть того, чад в этой сцене комичен не Фальстаф, а Форд, что все внимание и интерес зрителя сосредоточены преимущественно не на том, что и как рассказывает Фальстаф,— это он узнал из предыдущей сцены,— а на том, как слушает это Форд и что Форд за это время, переживает. Не будь этого, не было бы ни малейшего интереса для зрителя выслушивать точный, правдивый рассказ о том, что только что произошло на -его глазах. Во всей пьесе главное комическое лицо одно: это — Форд. Я сам был в числе зрителей на одном из представлений комедии, когда Форда играл Шуйский, а Фальстафа — Самарин. В этой сцене Фальстаф-Самарин отходил на второй план, :а зритель внимательно следил за Фордом-Шумским, боясь упустить малейший полутон из этой гаммы выражений, сменявшихся на лице актера-художника. Вся невыгода роли Фальстафа комедии заключается в том, что от нее ждут многого, а дает она мало. Не называйся этот толстяк магическим именем популярнейшего в мире комического лица, называйся он как-нибудь иначе, — требования к нему были бы совсем обыкновенные. Но Фальстаф. С этим именем для всякого образованного человека слилось так много забавного, при воспоминании о нем слышится такой поток остроумной лжи, столько увлекательной веселости, такое уменье овладевать положением и... что же? Проходит первая сцена, вторая... кончается первое действие, второе, третье и т. д.— ничего, ничего и ничего. Внешность, коли хотите, Фальстафа, даже, как будто, и его манера выражаться... во это не он, это подделка, это бледная, скучная копия с великого оригинала!
Работая над ролью Фальстафа, я не раз задумывался над вопросом, что могло заставить Шекспира настолько обезличить своего героя, настолько лишить здравого смысла, что он считает свое истрепавшееся тело способным дать двум, по его мнению, похотливым женщинам такие наслаждения, ради которых они решаются обманывать и грабить своих здоровых и крепких мужей? Невольно склоняешься к тому, что рассказ о капризе королевы Елизаветы имеет за собой много правды и вероятия. Елизавета, не сообразив всей нелогичности своего требования, предполагая найти в этом много забавного, пожелала видеть жирного рыцаря влюбленным. Но Фальстаф и любовь, как Фальстаф и искренность, честность, как и всякое положительное свойство человеческой души — несовместно с грязной природой этого рыцаря. Теперь: мог ли Шекспир, бедный комедиант, осмелиться доказывать своей высокой покровительнице всю нелепость такого желания? Конечно, нет. Итак, не имея возможности не исполнить приказания Елизаветы и, вместе с тем, желая избежать вопиющего неправдоподобия, он выставил своего рыцаря — не «влюбленным», как того желала королева, а человеком, эксплоатирующим расположение женщин ради корыстных целей: черта более близкая Фальстафу. Но, тем не менее, навязывая рыцарю положения, несоответствующие его настоящему характеру, он был вынужден поступиться и остальными его свойствами и сделать его лицом — не характера, а интриги, оставив на его долю только внешние, комические положения. Вот как я пробовал объяснить себе те противоречия, на которые наталкивался при изучении комедии.
Продолжение следует…
А.П.Ленский
«ЗАМЕТКИ АКТЕРА» (начало)
Часть I (продолжение)
Неужели не найдется человека с критическим талантом, который снял бы это покрывало таинственности с Шекспира и дал бы возможность раз навсегда покончить с предрассудком, тяготеющим над ним, дал бы возможность читателю и зрителю беззаветно наслаждаться его великими произведениями, не замораживая себя именем Шекспира? Помню, с каким живым интересом я начал читать вступление г. Ив. Иванова к его статье об исполнении на сцене Малого театра комедии Шекспира «Виндзорские проказницы». В этом вступлении я живо почувствовал, что критик хочет отнестись к поэту просто, без педантизма. Как залогу простого отношения к поэту, я радовался даже его несправедливому обвинению в том, что будто нас, исполнителей, подавляло имя Шекспира. (Если это обвинение несправедливо в данном случае, то: в общем тут много правды.) Но едва дошел я до разбора самой пьесы, как; увидел ясно, что радость моя преждевременна, что взгляд критика — «старая погудка на новый лад», да и лад-то не особенно новый, потому что, в сущности, его взгляд тождествен со взглядом Гервинуса на ту же пьесу. И тот и другой задались целью найти нравственную связь комедии с другими пьесами, где появляется Фальстаф, и тот и другой желают объяснить те огромные недочеты в характере Фальстафа комедии ни чем иным, как полным физическим и умственным одряхлением Фальстафа.
Расходятся же они только по поводу места, которое должна занимать комедия в ряду других пьес по ее нравственному смыслу, придуманному самими критиками. Гервинус стоит за то, что комедию следует поместить во второй части хроники «Король Генрих IV», где Фальстаф проводит время в Глостершире у Шалло, т. е., по его мнению, события комедии происходят до кончины Генриха IV, г. Ив. Иванов отводит ей место между хрониками «Король Генрих IV» и «Король Генрих V». Но и тот и другой снова желают как бы выгородить, защитить поэта и объяснить причины тех глупых положений, в которые поэт ставит .своего умного Фальстафа, и тем существенно искажает его характер. Они оба это объясняют требованиями нравственной поэтической правды, в силу которой Фальстаф должен был понести кару за свою прошлую жизнь. Такая исходная точка зрения должна была неизбежно привести критика к самым парадоксальным умозаключениям о пьесе и заставить его предъявлять самые невозможные требования к исполнителю роли Фальстафа.
Итак, г. Ив. Иванов желает доказать, что комедия «Виндзорские проказницы», по отношению к Фальстафу, есть не что иное, как продолжение хроники «Король Генрих IV», и в незнании актером этой, по его мнению, истины кроется главная причина неудачного исполнения роли Фальстафа. Постараюсь доказать как несостоятельность этого взгляда на пьесу, так и неправильность его требований к актеру.
Он пишет: «Исполнители не потрудились познакомиться ни с историей пьесы, ни с характерами действующих лиц, ни с общим тоном всего произведения. Они очевидно ограничились прочтением комедии, не приводя ее в связь с пьесами, среди которых она является только продолжением».
Далее он пишет: «Для нас важна уверенность, что «Виндзорские проказницы» продолжение пьес, написанных раньше, насколько это касается их главного лица — Фальстафа. В этом отношении в самой комедии находится достаточно убедительных доказательств». Все эти доказательства, которые я буду цитировать ниже, понадобились критику затем, чтоб убедить читателя, что за промежуток времени, проходящий, будто бы, между концом хроники «Король Генрих IV» и началом комедий, Фальстаф успел одряхлеть как физически, так и умственно, и доказав это, тем самым датъ почву своему «идейному мотиву», который он желает навязать Шекспиру. Что касается дряхлости, по крайней мере физической, то о ней, по-моему, не может быть и речи, если, как и сам критик заявляет: «Фальстаф не замечает этого, а его ближайшие собутыльники тоже не говорят об этом». Уж если бы Шекспир желал подчеркнуть дряхлость своего героя, как того желает критик, то он упомянул бы об этом и не заставлял своего Фальстафа заниматься браконьерством, буйством, драками, выламыванием дверей в охотничьем домике Шалло— словом, всем тем, что вовсе не говорит о дряхлости. Кроме того, может ли дряхлОе тело перенести к ряду столько невзгод: купанье в канаве, побои палкой по чему ни попало, ожоги, уколы, щипки и тукманки двух десятков рук и после всего этого, как ни в чем не бывало, отправиться на пирушку к Педжу?
Теперь вернемся к убедительным доказательствам критика и рассмотрим, насколько они убедительны. «Один из второстепенных героев пьесы», пишет критик, жених Анны Педж, Фентон, принадлежал когда-то к компании принца Генриха, Он говорит об этом как о минувшем, как о сравнительно далеком воспоминании, называет то время прошлыми кутежами.
Если это и может быть доказательством, то очень легковесным. Я толкую это- место- пьесы иначе. Кто такой Фентон? Фентон — молодой человек, придворный, приехавший в Виндзор, где живет в это время двор, о чем упоминают доктор Каюс и хозяин гостиницы «Подвязки». В Виндзоре он встретил хорошенькую Анну Педж. Сперва в этой любви им руководили корыстные цели, но, узнав ее ближе, он полюбил серьезно. А при возникновении -серьезного чувства каждый мужчина меняет свой -образ жизни, бросает товарищей по кутежам, как и самые кутежи, и говорит о них в разговоре с любимой женщиной, как о невозвратном прошлом. Придавать же этому выражению значение давно-прошедшего, т. е. промежутка времени, в продолжение которого Фальстаф мог состариться, как этого желает критик, по-моему, большая натяжка и надо очень желать видеть в этом доказательство, чтобы выдавать его за таковое.
«Судья Шалло, — продолжает критик, — с довольно легким сердцем вспоминает раньше, что он пятьдесят лет тому назад был студентом — теперь с грустью сознается, что ему восемьдесят и даже более».
Видеть в этих словах Шалло доказательство своей гипотезы со стороны автора по меньшей мере странно. Шалло такой же враль, как и Фальстаф, с тою разницей, что рыцарь умен, а Шалло глуп. Но если этим словам Шалло поверить, то они будут служить только опровержением взгляда, критика, и в этом смысле я сейчас и воспользуюсь ими.
В хронике «Король Генрих IY» (акт III, сц. IV) Шалло говорит, что- он пятьдесят лет тому назад поступил в школу св. Климента. Сколько же лет ему было при поступлении? В интересах взгляда г. критика дадим ему как можно больше: положим, он поступил в нее двадцати лет. Следовательно, в хронике ему 70 лет. А так как, по его же словам, в комедии ему более восьмидесяти, то опять-таки в интересах критика накинем ему только один месяц. Стало быть, Шалло в комедии имеет за плечами восемьдесят лет и один месяц. Из этого ясно, что между концом хроники «Король Генрих IV» и началом комедии проходит десять лет и один месяц. В царствование какого же короля происходит действие комедии? В царствование короля Генриха V оно происходить не может, потому что этот король царствовал только восемь с половиною лет (март 43 г. и август 422 г.). В царствование же его наследника, трехлетнего Генриха VI, действие происходить не может, потому что сам Фальстаф умирает, потрясенный опалой Генриха V во втором акте хроники «Король Генрих V». Но оставим Шалло с его восемьюдесятью годами — он нам более не нужен, и допустим, что действие комедии происходит в промежуток времени между изгнанием рыцаря и его смертью, которая, как видно из хроники, последовала через два года по изгнаний, т. е. в год объявления Англией войны Франции (март 43 г. и апрель 45 г.). Из слов доктора Каюса и хозяина гостиницы «Подвязки» мы знаем, что двор, по какому-то случаю, живет в Виндзоре. А где двор —там, конечно, и король. Как же может опальный Фальстаф жить в одном городе с королем, запретившим ему приближаться к его особе, под страхом смертной казни, ближе как на десять миль? Если допустить, что он проживает тайно, то его скандальная жизнь противоречит этой тайне, и странно, почему Шалло, будучи свидетелем опалы Фальстафа и врагом его, не донесет кому надлежит о тайном пребывании рыцаря в Виндзоре, да и вообще ни единым словом не упоминает об этом? Если допустить, что он прощен, о чем тоже нигде не упоминается, то почему же Фальстаф умирает, потрясенный опалой короля, во втором акте хроники «Король Генрих Т»? Наконец, еще аргумент, который, не понимаю как, ускользнул от внимания критика. Педж говорит: «Он, (т. е. Фентон) водит (не водил, а водит) дружбу с нашим беспутным принцем Генрихом» (акт III, сц. II). С каким же это беспутным принцем Генрихом, если царствует король Генрих V? Следовательно, действие комедии происходит именно в царствование Генриха IV, и о промежутке времени, в который Фальстаф мог бы одряхлеть физически и умственно, не может быть и речи.
Критик ссылается еще на выражение Фальстафа: «мой мозг высох», как на новое доказательство его действительной дряхлости, в которой он, будто бы, сознается сам. Но ведь он это произносит только тогда, когда люди, дурачившие его, открывают ему глаза на свои проделки с ним. Так не проще ли видеть в этом обыкновенный взрыв досады одураченного человека? Ведь восклицает же одураченный городничий в «Ревизоре»: «Как я?.. Нет, как я, старый дурак выжил, глупый баран, из ума». Однако, никому и в голову не приходило толковать это выражение как собственное его сознание в действительной дряхлости. Остается еще упомянуть об «идейном мотиве» критика, заключающемся, будто бы, в возмездии рыцарю «за его прошлую жизнь в силу нравственной и поэтической правды». Но надо ли распространяться об этом мотиве, принадлежащем к категории множества других, навязываемых Шекспиру актерами и критиками и ради которых они не хотят замечать всего, что доказывает неверность их взглядов и что легко отыскать в тексте пьесы?
Уж если желать, во что бы то ни стало, найти связь комедии с хроникой, в чем собственно нет никакой надобности, то во всяком случае, скорее можно комедию поставить впереди хроники, чем после нее. Этому не трудно привести более веские доказательства: 1) Фентон, женившись на Анне Педж, сдержал слово, бросил кутежи и беспутного принца, почему и не показывается в хрониках; 2) Куикли, нажив деньжонок прибыльным ремеслом сводни, а может быть, получив порядочный куш из приданого Анны Педж, бросает службу у .доктора Каюса и открывает кабачок в Истчипе, хозяйкой которого и пребывает благополучно до конца; Фальстаф, еще не в конец проворовавшийся, пользуется почетом и .уважением граждан Виндзора: Шалло говорит, что «будь он двадцать раз сер, но он заставит его поплатиться», форд зовет его «царедворцем». Из слов самого рыцаря видно, что он не порывал своих связей с двором. Вот что он говорит наедине с самим собой: «Если бы при дворе узнали, каким превращениям я подвергался ,и как в этих превращениях меня выкупали и избили,— мой жир вытопили бы из меня по капле и смазали бы этой жидкостью сапоги рыбаков» и пр. (акт IV, сц. V). Но повторяю, что для исполнения комедии на сцене, для ясного понимания ее, не играет никакой роли связь ее с хроникой, и труд актеров не будет облегчен, в каком бы порядке ни поставить ее: прежде или после хроники, что, мне кажется, будет ясно, когда я рассмотрю требования, какие критик предъявляет к актерам.
Он говорит: «Следовательно, Фальстаф комедии— это все тот же Фальстаф, который забавлял, даже увлекал свою компанию остроумием и находчивостью».
Вот в том-то и дело, что не тот, и далеко не тот. С этим, как мы увидим ниже, противореча себе, соглашается и сам критик, но тем не менее требует от актера, чтобы тот напоминал ему Фальстафа хроник, не принимая во внимание отсутствие необходимого для того материала в пьесе. Сравним же обоих Фальстафов и посмотрим, много ли мы найдем в них общего и что именно. Начнем с Фальстафа хроник. Фальстаф обладает несомненным, хотя и дурно направленным, циничным умом, неистощимым остроумием и находчивостью, беспримерною способностью к хвастовству и наглой лжи, трусостью и толстой, громоздкой фигурой. Чем он забавен? — Всего более, конечно, своим остроумием и находчивостью и всего менее — тучной фигурой, которая занимательна только при остальных свойствах его характера.
Мне кажется, что, благодаря своему уму, Фальстаф очень трезво смотрит на свою внешность: он сознает свою старость дa всю непривлекательность своей тучной фигуры для женского взгляда; он весь ушел в брюхо, в нем все заглушено обжорством; у него все продажно, и он довольствуется только продажным, а его по временам просыпающаяся старческая похоть вполне удовлетворяется продажными ласками Доль Тиршит. И мне кажется, что общество даже относительно порядочных женщин, их внимание, ухаживание за ними, все это настолько чуждо его грязной натуре, что он, будучи «королем лгунов», ни единого раза, в продолжение десяти актов, не обмолвливается о каких бы то ни было победах над женскою добродетелью даже сомнительного качества, и даже при воспоминании о давно прошедших днях своей юности. Таков Фальстаф в хрониках. Теперь рассмотрим Фальстафа комедии.
В противоположность Фальстафу хроник Фальстаф комедии простоват, не остроумен, не находчив и даже не лгун. Ему оставлены имя, трусость и тучная фигура. В том, что он простоват, убеждает нас ловушка, которую он сам для себя устраивает и три раза подряд попадает в нее; с тем, что он не остроумен и не находчив, соглашается сам критик, а тому, что он не лгун — служат доказательством все его слова и поступки. Нельзя же принимать за ложь то, что он верит в любовь к нему двух дам Виндзора, в этом видна не ложь, а глубокая уверенность, убежденность в справедливости всего этого. Наконец, он упускает прекрасный случай напомнить собой Фальстафа хроник; он упускает случай сказать блестящую ложь и, ни с того ни с сего, становится правдив и искренен. Фальстаф и — искренность Что может быть нелепее такого сопоставления? А между тем, это — так. Он без всякой утайки, ни на йоту не искажая истины — рассказывает Форду обо всем, что произошло с ним в его доме. Поступил ли бы так настоящий Фальстаф? Можно себе представить: сколько забавного, неимоверного вранья было бы в этой сцене Чего-чего не наговорил бы при таком, удобном для него случае жирный рыцарь! Это была бы апофеоза лжи Тут было бы все кроме правды: описания небывалых сладострастных сцен, сцен ревности между двумя неожиданно встретившимися соперницами, подвигов мужества и ловкости со стороны рыцаря, вроде избиения половины граждан Виндзора или прыжка из слухового окна на мостовую, а не то — скачка через, забор в три-четыре ярда высоты, и многое, многое другое, кроме... инцидента с корзиной. Вот о корзине, можно поручиться, что рыцарь не сказал бы ни слова. То же повторяется и после переодевания старухой. Да, Фальстаф комедий лишен всех своих типических черт, а между тем. критик требует, чтобы актер слил в своей игре образ Фальстафа прежнего, еще сильного, самодовольного, всегда торжествующего, с Фальстафом одряхлевшим, растерявшим свое остроумие.
Такого требования к исполнителю предъявлять нельзя. Как, чем, какими сценическими приемами исполнитель может показать зрителю в слабом уме Фальстафа комедии — силу ума Фальстафа хроник? Может ли актер постоянными поражениями в комедии показать публике его постоянное торжество в хронике? Как может он показать, что такое-то лицо было когда-то остроумным, не имея материала на то в самой роли? Отчего же тогда не потребовать от исполнителя Фальстафа, чтоб он своей тучной, неуклюжею фигурой напомнил зрителю стройного юношу Фальстафа? Отчего не потребовать от живописца, чтобы его картина выражала Не один известный момент, а целый ряд моментов? Мы, актеры, таких приемов не знаем. Если бы таковые приемы были в нашем распоряжении, то задача драматургов была бы значительно облегчена: дал историческому лицу своей пьесы присущие ему черты характера—хорошо, не дал—не беда, актер прочтет историческую монографию и сделает все необходимое.
«Исполнитель главной роли, — продолжает критик, — г. Ленский, очевидно, ограничился изучением характера Фальстафа, насколько этот характер выясняется в комедии». Смею уверить г. критика, что как г. Ленский, так и всякий другой на его месте, никогда ничего иного не может и не должен делать. Изучать он может многое, но выражать на сцене с помощью изучения он может только то, что выясняется в пьесе — не больше.
«Но комичнее всего, — восклицает критик, — сцена Фальстафа с Фордом после свидания с его женой; Фальстаф потерпел чувствительное поражение и все-таки уверен в своей победе, уверяет в этом мужа насмеявшейся над ним женщины. Все эти черты, даже самые крупные, режущие глаза при самом поверхностном знакомстве с пьесой, пропали в слишком бледной и безусловно не типической игре г. Ленского». Я, конечно, не стану отрицать моей бледной и безусловно не типической игры, уже по одному тому, что я сам недоволен ею, а также и потому, что в этом я не могу быть достаточно компетентен; во для меня странно, как даже при поверхностном знакомстве с пьесой не разглядеть того, чад в этой сцене комичен не Фальстаф, а Форд, что все внимание и интерес зрителя сосредоточены преимущественно не на том, что и как рассказывает Фальстаф,— это он узнал из предыдущей сцены,— а на том, как слушает это Форд и что Форд за это время, переживает. Не будь этого, не было бы ни малейшего интереса для зрителя выслушивать точный, правдивый рассказ о том, что только что произошло на -его глазах. Во всей пьесе главное комическое лицо одно: это — Форд. Я сам был в числе зрителей на одном из представлений комедии, когда Форда играл Шуйский, а Фальстафа — Самарин. В этой сцене Фальстаф-Самарин отходил на второй план, :а зритель внимательно следил за Фордом-Шумским, боясь упустить малейший полутон из этой гаммы выражений, сменявшихся на лице актера-художника. Вся невыгода роли Фальстафа комедии заключается в том, что от нее ждут многого, а дает она мало. Не называйся этот толстяк магическим именем популярнейшего в мире комического лица, называйся он как-нибудь иначе, — требования к нему были бы совсем обыкновенные. Но Фальстаф. С этим именем для всякого образованного человека слилось так много забавного, при воспоминании о нем слышится такой поток остроумной лжи, столько увлекательной веселости, такое уменье овладевать положением и... что же? Проходит первая сцена, вторая... кончается первое действие, второе, третье и т. д.— ничего, ничего и ничего. Внешность, коли хотите, Фальстафа, даже, как будто, и его манера выражаться... во это не он, это подделка, это бледная, скучная копия с великого оригинала!
Работая над ролью Фальстафа, я не раз задумывался над вопросом, что могло заставить Шекспира настолько обезличить своего героя, настолько лишить здравого смысла, что он считает свое истрепавшееся тело способным дать двум, по его мнению, похотливым женщинам такие наслаждения, ради которых они решаются обманывать и грабить своих здоровых и крепких мужей? Невольно склоняешься к тому, что рассказ о капризе королевы Елизаветы имеет за собой много правды и вероятия. Елизавета, не сообразив всей нелогичности своего требования, предполагая найти в этом много забавного, пожелала видеть жирного рыцаря влюбленным. Но Фальстаф и любовь, как Фальстаф и искренность, честность, как и всякое положительное свойство человеческой души — несовместно с грязной природой этого рыцаря. Теперь: мог ли Шекспир, бедный комедиант, осмелиться доказывать своей высокой покровительнице всю нелепость такого желания? Конечно, нет. Итак, не имея возможности не исполнить приказания Елизаветы и, вместе с тем, желая избежать вопиющего неправдоподобия, он выставил своего рыцаря — не «влюбленным», как того желала королева, а человеком, эксплоатирующим расположение женщин ради корыстных целей: черта более близкая Фальстафу. Но, тем не менее, навязывая рыцарю положения, несоответствующие его настоящему характеру, он был вынужден поступиться и остальными его свойствами и сделать его лицом — не характера, а интриги, оставив на его долю только внешние, комические положения. Вот как я пробовал объяснить себе те противоречия, на которые наталкивался при изучении комедии.
Продолжение следует…
Дата публикации: 23.10.2007