Новости
Ю.И.КАЮРОВ «КУДА УХОДЯТ ДНИ…»
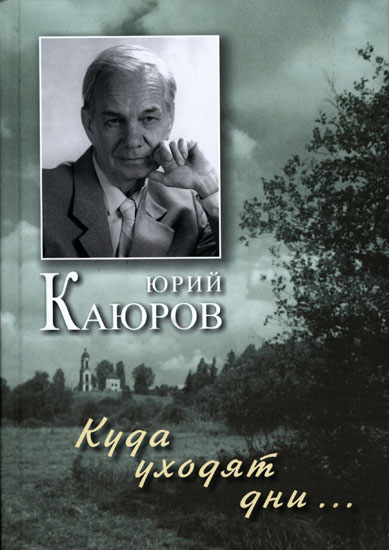
Ю.И.КАЮРОВ «КУДА УХОДЯТ ДНИ…»
Ю.И.КАЮРОВ «КУДА УХОДЯТ ДНИ…»
Вниманию посетителей сайта мы предлагаем отрывок из книги народного артиста России Юрия Ивановича Каюрова, написанной и изданной к 80-летнему юбилею актера. «Куда уходят дни...» — это поэтическое размышление о жизни и творчестве, о природе и людях. Увлекательное повествование автора о работе в театре и кино, основанное на его дневниковых записях, дополняют путевые заметки, рассказы о коллегах и размышления-исследования о ролях, сыгранных замечательным актером, ведущим артистом Малого театра.
Издание Малого театра
Ответственный редактор серии «Библиотека Малого театра»
В.В. Подгородинский. Под общей редакцией Г.М. Полтавской.
В книге использованы фотографии из фондов музея Малого театра,
из личного архива автора и архива фотохудожника Н.Е. Антипова.
Литературная запись – Н.И.Пашкина
НАЧАЛО БЫЛО ТАК ДАЛЕКО
Сны разные бывают, но когда тебе снится лесная дорога, дорога твоего детства, по которой ты не ходил уже много лет, снится со всеми своими поворотами, лужами, колеями, заполненными осенней водой, мокрыми ветками над ними, и сначала, вроде бы, и не та дорога, но потом, вдруг, ты узнаешь её, со всеми такими знакомыми подробностями и выходишь напрямую, и легко вздохнув и разувшись даже, чтобы ощутить до конца прикосновение к родной земле, держишь такой знакомый путь, зная, что пройти тебе придется ровно семь километров.
Пока идешь, дорога два раза взбегает на горки, где раньше были хутора. Хуторов теперь нет, осталось место в окружении старых-старых тополей, так вот, с этого места далеко видно окрест: и деревенька моя с несколькими уцелевшими избами, в которых уж давно никто не живет, и хилый лесок, и бывшая поскотина, и болото, на много верст вокруг видно, и озеро, одно поменьше, и другое большое — Белое, того берега не видно... Шел вот так как-то, оглядывался, вроде как прощался со всем этим, вроде как уж, не суждено мне больше увидеть все это, и навсегда знакомые строчки: «.. .ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового ситца, не заманит шляться босиком...» повторялись, говорились, плакались, как будто это они вот только сейчас, во мне родились. Не заманит...
Годы и годы идут, со всеми своими событиями, радостями, болезнями, экзотическими невиданными ранее странами, миллионами людей, городами, работой, близкими тебе, а эта картина родного уголка земли стоит и стоит, как живая, и манит до того, что вот уж и во сне пригрезилась. Что же делать-то? А? Не иначе, как надо навестить эту землю как-нибудь, где бегал мальчишкой, где жили, а теперь в ней лежат и дед, и мать, и тетки, и дядья. Надо, видно, побывать, сказать, что я ещё тут.
Школа моя деревянная, Время придет уезжать, Речка за мною туманная Будет бежать и бежать... Н. Рубцов
Память возвращает меня в «те баснословные года», когда была и эта деревянная школа на горушке близ озера, и конец тридцатых годов, когда я был послан на хлеба к деду с бабкой, и престольный праздник Преображеньев день 19 августа. К этому дню в каждом доме ставили пиво, пекли рыбники, пампушки, съезжались и сходились гости из других деревень, да и из города. И солнце, хоть уже и по предосеннему не жаркое, но все ещё теплое, щедро освежало принарядившиеся компании пожилых и задиристые, стаи молодых, сильных, под бодрые переборы тальянки меряющих из конца в конец середину утрамбованной за лето до сухого стука дороги. И открытые окна в избах, и то тихие, то шумные застолья в них, и морщинистое доброе лицо моей бабушки, Маривьяны Никифоровны, в одном из окон, и такой вкусный дух горячих рогулек, что неизвестно ещё, что было лучше, шастать ли по чужим яблоням, или бежать к своему порогу и, на время присмирев, сесть со всеми за такой аппетитный стол с самоваром посередке и большой кринкой топленого молока, пить этот дивный напиток, обжигаясь и торопясь опять туда, где все-таки, наверняка, будет интереснее. Были праздники в других деревнях, тогда уж шли туда своими ребячьими стайками, нагрянывали — был свой интерес, сугубо материальный, кто больше выцыганит пирогов, а кто и огурцов с чужих грядок набьет за пазуху. И уж если где драка завязывалась здешних с дальними, то и мы тут как тут, помирали от любопытства. А потом позднее, долгое возвращение домой по ночной, еле угадываемой дороге, и полевые запахи, и то теплые, то прохладные волны душистого воздуха тебе навстречу невесть откуда, и копёнки сена по сторонам, в которые так нетерпелось зарыться, и только раннее
солнышко вместе с утренней прохладой поднимало, легким неумытым ознобом заставляло прибавлять шаг в знакомом направлении. И такое утро звенело кругом, такой высоты купол небес подымался над тобой, такая бесконечность мира, красоты открывалась, что, казалось, конца этому нет, и ощущение вечности, в яви представало, и что так будет всегда, даже и сомнений никаких не было и быть не могло.
Потом, уже после войны, приезжал не раз пароходом по реке Шексне в свой городок, приезжал матросиком, брюки — клеш, и отбыв положенный срок, навестив всю родню, надышавшись всласть, отчаливал в свой час в обратном направлении, увозя память о милом и дорогом уголке русской земли.
Вот хоть живешь и в северных краях нашей милой Родины, а что-то все помнится, как будто все было-происходило в теплые времена, и рожь под теплым дуновеньем ветра шевелилась, и тропинка средь неё была прогретой, сухой, так что подошвы ног явственно ощущали — натыкались на кусочки подсохшей земли, камешки, трещинки, и большим удовольствием было ступить на прохладу, — недалеко ручей делал свое доброе дело.
Зима, одна запомнилась, 1942-го года. Идешь на Тимонино в школу, или из школы может, занятия рано почему-либо кончились, только видится ясный-ясный морозный, солнечный день, с высоким голубым небом, из бездонной синевы которого доходит, дозванивает звук тяжелого самолета, тянувшего свою ношу в направлении Урала, видно, где-то, в стороне от нашей тропки, правее и выше, проходила их дорога, по которой они и летали делать свое черное дело. И картина эта и звук немецкого мотора повторялись не раз и не два, потому и запомнились, и ещё потому, видно, что слишком велик был разрыв между этим злым от натуги гулом, и тишиной и чистотой деревенской зимы с похрустывающим под валенками крепким снежком, таким смирным, привычным, таким домашним. Конечно, война в нашу деревню входила-заползала нередко похоронками, воем оставшихся теперь навсегда одинокими женщин; и в эту зиму 1942-го ещё и в виде отощавших, обозных или артиллерийских лошадей, с их молчаливыми коневодами в серых длинных шинелях, в валенках, в солдатских шапках ушанках, с подвязанными под подбородком тесемками; картина запомнилась такая: гуськом шли, пошатываясь, на водопой не похожие на себя лошади, и под уздцы поддерживали их, эти пожилые солдаты, оттуда, из под Ленинграда, или из Карелии; стояли они со своими уработавшимися до смерти лошадками, на отдыхе, отъедались, потом так же незаметно как появились исчезали.
Я не доучился, не доходил до конца в свой 7-й класс, есть дома было почти нечего, пошел, чтобы не было лишнего рта в избе, в ремесленное училище учиться и кормиться, и зарабатывать свой хлеб насущный.
Приезжая в Ленинград, я каждый раз не могу не вспомнить свой первый приезд сюда июньским днем 1944-го года.
Я окончил РУ в Вологде, стал токарем, получил назначение на Ленинградский завод «Вулкан», и вот, подъезжаю к городу, выстоявшему в немыслимом, страшном противоборстве с врагом и не утратившему своей величавости, ослепительности, своей грандиозности. Необычной показалась безлюдность, пустынность улиц, площадей; витрины на Невском ещё зашиты досками. Июнь стоял солнечный, нежаркий, с залива и с Невы дул ветерок. Мне, 16-летнему рабочему человеку, было и невдомек, какой страшной силы трагедия ходила своей тяжкой поступью по этим, продуваемым теперь, солнечным ветром, улицам.
Потом нам рассказали кое-что, а ещё потом мы прочитали, многое узнали. Теперь, идя по перрону Московского вокзала и слушая «Гимн Великому городу», понимаешь, ощущаешь величие города как что-то подлинное, настоящее. В Ленинграде прошла вся моя юность. Я служил на «Авроре», стояла она у стенки на Васильевском острове, возле Горного института. И вот, однажды, в свой час, ушла с помощью буксиров на Кронштадский рейд для участия в съемках картины «Крейсер Варяг», в главной роли самого «Варяга». Мы, команда, в бескозырках времен Цусимы, командир крейсера — артист Борис Ливанов. На борту вся съемочная группа, осветительные приборы, ящики с пиротехникой, дымовые шашки, груды гильз и снарядов, актеры на роли морских офицеров и много всякого другого народа.
Наше плавание, бой с японской эскадрой, а потом и «последний парад», длились два месяца, мы исправно отрабатывали все команды, где надо перебегали в дыму, падали, заряжали свои 152-мм орудия, дергали за шнур, гасили пиротехнические пожары, шла какая-то интересная игра, которая кончилась тем, что макет «Варяга» был где-то утоплен, а мы, по осеннему холодку, притащились и пришвартовались на свое привычное место возле Горного института. Там мы отчищали, отскребали свой пароход от киношной грязи и копоти, фанерная четвертая труба покатилась на берег, запахло белилами, мы вооружились ведерками с вкусно пахнущей краской, кистями, натянули свои робы, и наша милая «Аврора» стала приобретать свой привычный стальной оттенок по корпусу и бело-голубоватый, палубный. А кино, ещё раз заглянуло на нашу палубу. «Счастливого плавания» — так назывался фильм о нахимовском училище, в роли начальника которого был Николай Черкасов. Высокий, стройный, в форме капитана первого ранга появлялся он на корабле, и пока шли долгие приготовления к съемке, он вытягивался во весь свой рост на палубном хозяйственном ящике и задремывал, прикрыв лицо командирской фуражкой. В работе я его не видел, подчиненные у него были дети. Вот, два раза само Искусство приходило к нам, напоминало о себе, что оно есть, существует, но мы как-то отнеслись к этому без внимания, как будто это нас совсем и не касалось и у нас совсем-совсем иные заботы и дела. А может, это приходило не искусство? Ну, техника, скажем там, производство, метраж? Оно возникло для меня, чуть позже, в образе театральной студии при Дворце культуры им. С.М. Кирова на том же Васильевском острове. Студией руководили Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд. Искусство для меня началось там. Когда, спустя два с половиной года, я уходил от них, поступив уже в театральный институт, на фотографии Василием Васильевичем было написано: «Учись, Юра, культивируй себя, в труде обретешь ты права свои». Когда я как-то при одной встрече напомнил об этой надписи, он, со свойственным ему юмором, прокомментировал: «.. .какой я тогда был умный».
А на фотографии Ирины Всеволодовны есть такая надпись: «Учись, Юрочка, учись, помни об учителях». Конечно помню, дорогие мои первые учителя. Это вы, взяв меня за руки, осторожно
позволили сделать мне первые шаги, объяснили, где и как ходить по этой туго натянутой проволоке под куполом, как суметь сохранить равновесие, не шлепнуться, показали красоту, магию человеческого общения, бескорыстие прекрасной траты времени, всех вечеров, отданных студии, в которой так случайно собрались вместе, такие разные, и теперь такие влюбленные в одно, объединенные одним люди. «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» «Иных уж нет...» Нет и учителей дорогих, но есть и пребудет благодарная Память.
Вот передо мною ещё одна фотография Виктора Александровича Ремизова — педагога нашей студии, и на ней тоже надпись: «Вспоминая свою театральную молодость, ты не минешь Крейсер «Аврору», Дворец Культуры Кирова, «Девочек», и улицу Белинского...» Твой В. Ремизов 27 дек. 1952 г. «Девочки» — так назывался спектакль нашей студии по пьесе Веры Федоровны Пановой. Спектакль был очень удачным, мы даже возили его на всесоюзный смотр в Москву в 1947 году, получили диплом первой степени, играли в Кремлевском театре, был тогда такой в самом Кремле, страшно волновались, в тайне надеясь, вдруг, на спектакль «зайдет» Сталин? Вере Федоровне очень нравился наш спектакль; девочек, двух сестер играли талантливые Каля Красильникова и Бронислава Тронова, мне досталась роль Васи, который был неравнодушен к одной из сестер и ещё почему-то к морковке, постоянно её грыз, и то и другое вызывало юмористическое отношение окружающих. Замечательный был спектакль. Вот почему «ты не забудешь «Девочек» А улицу Белинского, да потому, что Виктор Александрович жил на этой улице, в неё упиралась одним концом улица Моховая, и в доме № 34 был, да и сейчас есть театральный институт, и я, в свои голодные студенческие годы, частенько наведывался к Виктору Александровичу «поговорить об искусстве», и он со своей проницательностью, как правило, предлагал мне сначала поесть, и Прасковья Мироновна, его домохозяйка и друг, ставила передо мной вкуснющий борщ, а потом ещё котлеты с макаронами, и разве «забудешь» когда-нибудь улицу Белинского, хотя, как говорится, и не хлебом единым, но все же, все же... Дворец Культуры.
Вниманию посетителей сайта мы предлагаем отрывок из книги народного артиста России Юрия Ивановича Каюрова, написанной и изданной к 80-летнему юбилею актера. «Куда уходят дни...» — это поэтическое размышление о жизни и творчестве, о природе и людях. Увлекательное повествование автора о работе в театре и кино, основанное на его дневниковых записях, дополняют путевые заметки, рассказы о коллегах и размышления-исследования о ролях, сыгранных замечательным актером, ведущим артистом Малого театра.
Издание Малого театра
Ответственный редактор серии «Библиотека Малого театра»
В.В. Подгородинский. Под общей редакцией Г.М. Полтавской.
В книге использованы фотографии из фондов музея Малого театра,
из личного архива автора и архива фотохудожника Н.Е. Антипова.
Литературная запись – Н.И.Пашкина
НАЧАЛО БЫЛО ТАК ДАЛЕКО
Сны разные бывают, но когда тебе снится лесная дорога, дорога твоего детства, по которой ты не ходил уже много лет, снится со всеми своими поворотами, лужами, колеями, заполненными осенней водой, мокрыми ветками над ними, и сначала, вроде бы, и не та дорога, но потом, вдруг, ты узнаешь её, со всеми такими знакомыми подробностями и выходишь напрямую, и легко вздохнув и разувшись даже, чтобы ощутить до конца прикосновение к родной земле, держишь такой знакомый путь, зная, что пройти тебе придется ровно семь километров.
Пока идешь, дорога два раза взбегает на горки, где раньше были хутора. Хуторов теперь нет, осталось место в окружении старых-старых тополей, так вот, с этого места далеко видно окрест: и деревенька моя с несколькими уцелевшими избами, в которых уж давно никто не живет, и хилый лесок, и бывшая поскотина, и болото, на много верст вокруг видно, и озеро, одно поменьше, и другое большое — Белое, того берега не видно... Шел вот так как-то, оглядывался, вроде как прощался со всем этим, вроде как уж, не суждено мне больше увидеть все это, и навсегда знакомые строчки: «.. .ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового ситца, не заманит шляться босиком...» повторялись, говорились, плакались, как будто это они вот только сейчас, во мне родились. Не заманит...
Годы и годы идут, со всеми своими событиями, радостями, болезнями, экзотическими невиданными ранее странами, миллионами людей, городами, работой, близкими тебе, а эта картина родного уголка земли стоит и стоит, как живая, и манит до того, что вот уж и во сне пригрезилась. Что же делать-то? А? Не иначе, как надо навестить эту землю как-нибудь, где бегал мальчишкой, где жили, а теперь в ней лежат и дед, и мать, и тетки, и дядья. Надо, видно, побывать, сказать, что я ещё тут.
Школа моя деревянная, Время придет уезжать, Речка за мною туманная Будет бежать и бежать... Н. Рубцов
Память возвращает меня в «те баснословные года», когда была и эта деревянная школа на горушке близ озера, и конец тридцатых годов, когда я был послан на хлеба к деду с бабкой, и престольный праздник Преображеньев день 19 августа. К этому дню в каждом доме ставили пиво, пекли рыбники, пампушки, съезжались и сходились гости из других деревень, да и из города. И солнце, хоть уже и по предосеннему не жаркое, но все ещё теплое, щедро освежало принарядившиеся компании пожилых и задиристые, стаи молодых, сильных, под бодрые переборы тальянки меряющих из конца в конец середину утрамбованной за лето до сухого стука дороги. И открытые окна в избах, и то тихие, то шумные застолья в них, и морщинистое доброе лицо моей бабушки, Маривьяны Никифоровны, в одном из окон, и такой вкусный дух горячих рогулек, что неизвестно ещё, что было лучше, шастать ли по чужим яблоням, или бежать к своему порогу и, на время присмирев, сесть со всеми за такой аппетитный стол с самоваром посередке и большой кринкой топленого молока, пить этот дивный напиток, обжигаясь и торопясь опять туда, где все-таки, наверняка, будет интереснее. Были праздники в других деревнях, тогда уж шли туда своими ребячьими стайками, нагрянывали — был свой интерес, сугубо материальный, кто больше выцыганит пирогов, а кто и огурцов с чужих грядок набьет за пазуху. И уж если где драка завязывалась здешних с дальними, то и мы тут как тут, помирали от любопытства. А потом позднее, долгое возвращение домой по ночной, еле угадываемой дороге, и полевые запахи, и то теплые, то прохладные волны душистого воздуха тебе навстречу невесть откуда, и копёнки сена по сторонам, в которые так нетерпелось зарыться, и только раннее
солнышко вместе с утренней прохладой поднимало, легким неумытым ознобом заставляло прибавлять шаг в знакомом направлении. И такое утро звенело кругом, такой высоты купол небес подымался над тобой, такая бесконечность мира, красоты открывалась, что, казалось, конца этому нет, и ощущение вечности, в яви представало, и что так будет всегда, даже и сомнений никаких не было и быть не могло.
Потом, уже после войны, приезжал не раз пароходом по реке Шексне в свой городок, приезжал матросиком, брюки — клеш, и отбыв положенный срок, навестив всю родню, надышавшись всласть, отчаливал в свой час в обратном направлении, увозя память о милом и дорогом уголке русской земли.
Вот хоть живешь и в северных краях нашей милой Родины, а что-то все помнится, как будто все было-происходило в теплые времена, и рожь под теплым дуновеньем ветра шевелилась, и тропинка средь неё была прогретой, сухой, так что подошвы ног явственно ощущали — натыкались на кусочки подсохшей земли, камешки, трещинки, и большим удовольствием было ступить на прохладу, — недалеко ручей делал свое доброе дело.
Зима, одна запомнилась, 1942-го года. Идешь на Тимонино в школу, или из школы может, занятия рано почему-либо кончились, только видится ясный-ясный морозный, солнечный день, с высоким голубым небом, из бездонной синевы которого доходит, дозванивает звук тяжелого самолета, тянувшего свою ношу в направлении Урала, видно, где-то, в стороне от нашей тропки, правее и выше, проходила их дорога, по которой они и летали делать свое черное дело. И картина эта и звук немецкого мотора повторялись не раз и не два, потому и запомнились, и ещё потому, видно, что слишком велик был разрыв между этим злым от натуги гулом, и тишиной и чистотой деревенской зимы с похрустывающим под валенками крепким снежком, таким смирным, привычным, таким домашним. Конечно, война в нашу деревню входила-заползала нередко похоронками, воем оставшихся теперь навсегда одинокими женщин; и в эту зиму 1942-го ещё и в виде отощавших, обозных или артиллерийских лошадей, с их молчаливыми коневодами в серых длинных шинелях, в валенках, в солдатских шапках ушанках, с подвязанными под подбородком тесемками; картина запомнилась такая: гуськом шли, пошатываясь, на водопой не похожие на себя лошади, и под уздцы поддерживали их, эти пожилые солдаты, оттуда, из под Ленинграда, или из Карелии; стояли они со своими уработавшимися до смерти лошадками, на отдыхе, отъедались, потом так же незаметно как появились исчезали.
Я не доучился, не доходил до конца в свой 7-й класс, есть дома было почти нечего, пошел, чтобы не было лишнего рта в избе, в ремесленное училище учиться и кормиться, и зарабатывать свой хлеб насущный.
Приезжая в Ленинград, я каждый раз не могу не вспомнить свой первый приезд сюда июньским днем 1944-го года.
Я окончил РУ в Вологде, стал токарем, получил назначение на Ленинградский завод «Вулкан», и вот, подъезжаю к городу, выстоявшему в немыслимом, страшном противоборстве с врагом и не утратившему своей величавости, ослепительности, своей грандиозности. Необычной показалась безлюдность, пустынность улиц, площадей; витрины на Невском ещё зашиты досками. Июнь стоял солнечный, нежаркий, с залива и с Невы дул ветерок. Мне, 16-летнему рабочему человеку, было и невдомек, какой страшной силы трагедия ходила своей тяжкой поступью по этим, продуваемым теперь, солнечным ветром, улицам.
Потом нам рассказали кое-что, а ещё потом мы прочитали, многое узнали. Теперь, идя по перрону Московского вокзала и слушая «Гимн Великому городу», понимаешь, ощущаешь величие города как что-то подлинное, настоящее. В Ленинграде прошла вся моя юность. Я служил на «Авроре», стояла она у стенки на Васильевском острове, возле Горного института. И вот, однажды, в свой час, ушла с помощью буксиров на Кронштадский рейд для участия в съемках картины «Крейсер Варяг», в главной роли самого «Варяга». Мы, команда, в бескозырках времен Цусимы, командир крейсера — артист Борис Ливанов. На борту вся съемочная группа, осветительные приборы, ящики с пиротехникой, дымовые шашки, груды гильз и снарядов, актеры на роли морских офицеров и много всякого другого народа.
Наше плавание, бой с японской эскадрой, а потом и «последний парад», длились два месяца, мы исправно отрабатывали все команды, где надо перебегали в дыму, падали, заряжали свои 152-мм орудия, дергали за шнур, гасили пиротехнические пожары, шла какая-то интересная игра, которая кончилась тем, что макет «Варяга» был где-то утоплен, а мы, по осеннему холодку, притащились и пришвартовались на свое привычное место возле Горного института. Там мы отчищали, отскребали свой пароход от киношной грязи и копоти, фанерная четвертая труба покатилась на берег, запахло белилами, мы вооружились ведерками с вкусно пахнущей краской, кистями, натянули свои робы, и наша милая «Аврора» стала приобретать свой привычный стальной оттенок по корпусу и бело-голубоватый, палубный. А кино, ещё раз заглянуло на нашу палубу. «Счастливого плавания» — так назывался фильм о нахимовском училище, в роли начальника которого был Николай Черкасов. Высокий, стройный, в форме капитана первого ранга появлялся он на корабле, и пока шли долгие приготовления к съемке, он вытягивался во весь свой рост на палубном хозяйственном ящике и задремывал, прикрыв лицо командирской фуражкой. В работе я его не видел, подчиненные у него были дети. Вот, два раза само Искусство приходило к нам, напоминало о себе, что оно есть, существует, но мы как-то отнеслись к этому без внимания, как будто это нас совсем и не касалось и у нас совсем-совсем иные заботы и дела. А может, это приходило не искусство? Ну, техника, скажем там, производство, метраж? Оно возникло для меня, чуть позже, в образе театральной студии при Дворце культуры им. С.М. Кирова на том же Васильевском острове. Студией руководили Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд. Искусство для меня началось там. Когда, спустя два с половиной года, я уходил от них, поступив уже в театральный институт, на фотографии Василием Васильевичем было написано: «Учись, Юра, культивируй себя, в труде обретешь ты права свои». Когда я как-то при одной встрече напомнил об этой надписи, он, со свойственным ему юмором, прокомментировал: «.. .какой я тогда был умный».
А на фотографии Ирины Всеволодовны есть такая надпись: «Учись, Юрочка, учись, помни об учителях». Конечно помню, дорогие мои первые учителя. Это вы, взяв меня за руки, осторожно
позволили сделать мне первые шаги, объяснили, где и как ходить по этой туго натянутой проволоке под куполом, как суметь сохранить равновесие, не шлепнуться, показали красоту, магию человеческого общения, бескорыстие прекрасной траты времени, всех вечеров, отданных студии, в которой так случайно собрались вместе, такие разные, и теперь такие влюбленные в одно, объединенные одним люди. «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» «Иных уж нет...» Нет и учителей дорогих, но есть и пребудет благодарная Память.
Вот передо мною ещё одна фотография Виктора Александровича Ремизова — педагога нашей студии, и на ней тоже надпись: «Вспоминая свою театральную молодость, ты не минешь Крейсер «Аврору», Дворец Культуры Кирова, «Девочек», и улицу Белинского...» Твой В. Ремизов 27 дек. 1952 г. «Девочки» — так назывался спектакль нашей студии по пьесе Веры Федоровны Пановой. Спектакль был очень удачным, мы даже возили его на всесоюзный смотр в Москву в 1947 году, получили диплом первой степени, играли в Кремлевском театре, был тогда такой в самом Кремле, страшно волновались, в тайне надеясь, вдруг, на спектакль «зайдет» Сталин? Вере Федоровне очень нравился наш спектакль; девочек, двух сестер играли талантливые Каля Красильникова и Бронислава Тронова, мне досталась роль Васи, который был неравнодушен к одной из сестер и ещё почему-то к морковке, постоянно её грыз, и то и другое вызывало юмористическое отношение окружающих. Замечательный был спектакль. Вот почему «ты не забудешь «Девочек» А улицу Белинского, да потому, что Виктор Александрович жил на этой улице, в неё упиралась одним концом улица Моховая, и в доме № 34 был, да и сейчас есть театральный институт, и я, в свои голодные студенческие годы, частенько наведывался к Виктору Александровичу «поговорить об искусстве», и он со своей проницательностью, как правило, предлагал мне сначала поесть, и Прасковья Мироновна, его домохозяйка и друг, ставила передо мной вкуснющий борщ, а потом ещё котлеты с макаронами, и разве «забудешь» когда-нибудь улицу Белинского, хотя, как говорится, и не хлебом единым, но все же, все же... Дворец Культуры.
Дата публикации: 10.09.2007
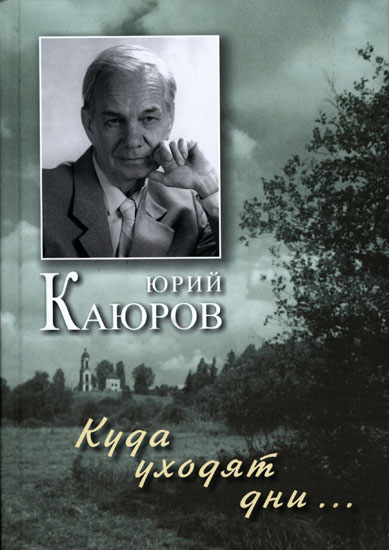
Ю.И.КАЮРОВ «КУДА УХОДЯТ ДНИ…»
Вниманию посетителей сайта мы предлагаем отрывок из книги народного артиста России Юрия Ивановича Каюрова, написанной и изданной к 80-летнему юбилею актера. «Куда уходят дни...» — это поэтическое размышление о жизни и творчестве, о природе и людях. Увлекательное повествование автора о работе в театре и кино, основанное на его дневниковых записях, дополняют путевые заметки, рассказы о коллегах и размышления-исследования о ролях, сыгранных замечательным актером, ведущим артистом Малого театра.
Издание Малого театра
Ответственный редактор серии «Библиотека Малого театра»
В.В. Подгородинский. Под общей редакцией Г.М. Полтавской.
В книге использованы фотографии из фондов музея Малого театра,
из личного архива автора и архива фотохудожника Н.Е. Антипова.
Литературная запись – Н.И.Пашкина
НАЧАЛО БЫЛО ТАК ДАЛЕКО
Сны разные бывают, но когда тебе снится лесная дорога, дорога твоего детства, по которой ты не ходил уже много лет, снится со всеми своими поворотами, лужами, колеями, заполненными осенней водой, мокрыми ветками над ними, и сначала, вроде бы, и не та дорога, но потом, вдруг, ты узнаешь её, со всеми такими знакомыми подробностями и выходишь напрямую, и легко вздохнув и разувшись даже, чтобы ощутить до конца прикосновение к родной земле, держишь такой знакомый путь, зная, что пройти тебе придется ровно семь километров.
Пока идешь, дорога два раза взбегает на горки, где раньше были хутора. Хуторов теперь нет, осталось место в окружении старых-старых тополей, так вот, с этого места далеко видно окрест: и деревенька моя с несколькими уцелевшими избами, в которых уж давно никто не живет, и хилый лесок, и бывшая поскотина, и болото, на много верст вокруг видно, и озеро, одно поменьше, и другое большое — Белое, того берега не видно... Шел вот так как-то, оглядывался, вроде как прощался со всем этим, вроде как уж, не суждено мне больше увидеть все это, и навсегда знакомые строчки: «.. .ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового ситца, не заманит шляться босиком...» повторялись, говорились, плакались, как будто это они вот только сейчас, во мне родились. Не заманит...
Годы и годы идут, со всеми своими событиями, радостями, болезнями, экзотическими невиданными ранее странами, миллионами людей, городами, работой, близкими тебе, а эта картина родного уголка земли стоит и стоит, как живая, и манит до того, что вот уж и во сне пригрезилась. Что же делать-то? А? Не иначе, как надо навестить эту землю как-нибудь, где бегал мальчишкой, где жили, а теперь в ней лежат и дед, и мать, и тетки, и дядья. Надо, видно, побывать, сказать, что я ещё тут.
Школа моя деревянная, Время придет уезжать, Речка за мною туманная Будет бежать и бежать... Н. Рубцов
Память возвращает меня в «те баснословные года», когда была и эта деревянная школа на горушке близ озера, и конец тридцатых годов, когда я был послан на хлеба к деду с бабкой, и престольный праздник Преображеньев день 19 августа. К этому дню в каждом доме ставили пиво, пекли рыбники, пампушки, съезжались и сходились гости из других деревень, да и из города. И солнце, хоть уже и по предосеннему не жаркое, но все ещё теплое, щедро освежало принарядившиеся компании пожилых и задиристые, стаи молодых, сильных, под бодрые переборы тальянки меряющих из конца в конец середину утрамбованной за лето до сухого стука дороги. И открытые окна в избах, и то тихие, то шумные застолья в них, и морщинистое доброе лицо моей бабушки, Маривьяны Никифоровны, в одном из окон, и такой вкусный дух горячих рогулек, что неизвестно ещё, что было лучше, шастать ли по чужим яблоням, или бежать к своему порогу и, на время присмирев, сесть со всеми за такой аппетитный стол с самоваром посередке и большой кринкой топленого молока, пить этот дивный напиток, обжигаясь и торопясь опять туда, где все-таки, наверняка, будет интереснее. Были праздники в других деревнях, тогда уж шли туда своими ребячьими стайками, нагрянывали — был свой интерес, сугубо материальный, кто больше выцыганит пирогов, а кто и огурцов с чужих грядок набьет за пазуху. И уж если где драка завязывалась здешних с дальними, то и мы тут как тут, помирали от любопытства. А потом позднее, долгое возвращение домой по ночной, еле угадываемой дороге, и полевые запахи, и то теплые, то прохладные волны душистого воздуха тебе навстречу невесть откуда, и копёнки сена по сторонам, в которые так нетерпелось зарыться, и только раннее
солнышко вместе с утренней прохладой поднимало, легким неумытым ознобом заставляло прибавлять шаг в знакомом направлении. И такое утро звенело кругом, такой высоты купол небес подымался над тобой, такая бесконечность мира, красоты открывалась, что, казалось, конца этому нет, и ощущение вечности, в яви представало, и что так будет всегда, даже и сомнений никаких не было и быть не могло.
Потом, уже после войны, приезжал не раз пароходом по реке Шексне в свой городок, приезжал матросиком, брюки — клеш, и отбыв положенный срок, навестив всю родню, надышавшись всласть, отчаливал в свой час в обратном направлении, увозя память о милом и дорогом уголке русской земли.
Вот хоть живешь и в северных краях нашей милой Родины, а что-то все помнится, как будто все было-происходило в теплые времена, и рожь под теплым дуновеньем ветра шевелилась, и тропинка средь неё была прогретой, сухой, так что подошвы ног явственно ощущали — натыкались на кусочки подсохшей земли, камешки, трещинки, и большим удовольствием было ступить на прохладу, — недалеко ручей делал свое доброе дело.
Зима, одна запомнилась, 1942-го года. Идешь на Тимонино в школу, или из школы может, занятия рано почему-либо кончились, только видится ясный-ясный морозный, солнечный день, с высоким голубым небом, из бездонной синевы которого доходит, дозванивает звук тяжелого самолета, тянувшего свою ношу в направлении Урала, видно, где-то, в стороне от нашей тропки, правее и выше, проходила их дорога, по которой они и летали делать свое черное дело. И картина эта и звук немецкого мотора повторялись не раз и не два, потому и запомнились, и ещё потому, видно, что слишком велик был разрыв между этим злым от натуги гулом, и тишиной и чистотой деревенской зимы с похрустывающим под валенками крепким снежком, таким смирным, привычным, таким домашним. Конечно, война в нашу деревню входила-заползала нередко похоронками, воем оставшихся теперь навсегда одинокими женщин; и в эту зиму 1942-го ещё и в виде отощавших, обозных или артиллерийских лошадей, с их молчаливыми коневодами в серых длинных шинелях, в валенках, в солдатских шапках ушанках, с подвязанными под подбородком тесемками; картина запомнилась такая: гуськом шли, пошатываясь, на водопой не похожие на себя лошади, и под уздцы поддерживали их, эти пожилые солдаты, оттуда, из под Ленинграда, или из Карелии; стояли они со своими уработавшимися до смерти лошадками, на отдыхе, отъедались, потом так же незаметно как появились исчезали.
Я не доучился, не доходил до конца в свой 7-й класс, есть дома было почти нечего, пошел, чтобы не было лишнего рта в избе, в ремесленное училище учиться и кормиться, и зарабатывать свой хлеб насущный.
Приезжая в Ленинград, я каждый раз не могу не вспомнить свой первый приезд сюда июньским днем 1944-го года.
Я окончил РУ в Вологде, стал токарем, получил назначение на Ленинградский завод «Вулкан», и вот, подъезжаю к городу, выстоявшему в немыслимом, страшном противоборстве с врагом и не утратившему своей величавости, ослепительности, своей грандиозности. Необычной показалась безлюдность, пустынность улиц, площадей; витрины на Невском ещё зашиты досками. Июнь стоял солнечный, нежаркий, с залива и с Невы дул ветерок. Мне, 16-летнему рабочему человеку, было и невдомек, какой страшной силы трагедия ходила своей тяжкой поступью по этим, продуваемым теперь, солнечным ветром, улицам.
Потом нам рассказали кое-что, а ещё потом мы прочитали, многое узнали. Теперь, идя по перрону Московского вокзала и слушая «Гимн Великому городу», понимаешь, ощущаешь величие города как что-то подлинное, настоящее. В Ленинграде прошла вся моя юность. Я служил на «Авроре», стояла она у стенки на Васильевском острове, возле Горного института. И вот, однажды, в свой час, ушла с помощью буксиров на Кронштадский рейд для участия в съемках картины «Крейсер Варяг», в главной роли самого «Варяга». Мы, команда, в бескозырках времен Цусимы, командир крейсера — артист Борис Ливанов. На борту вся съемочная группа, осветительные приборы, ящики с пиротехникой, дымовые шашки, груды гильз и снарядов, актеры на роли морских офицеров и много всякого другого народа.
Наше плавание, бой с японской эскадрой, а потом и «последний парад», длились два месяца, мы исправно отрабатывали все команды, где надо перебегали в дыму, падали, заряжали свои 152-мм орудия, дергали за шнур, гасили пиротехнические пожары, шла какая-то интересная игра, которая кончилась тем, что макет «Варяга» был где-то утоплен, а мы, по осеннему холодку, притащились и пришвартовались на свое привычное место возле Горного института. Там мы отчищали, отскребали свой пароход от киношной грязи и копоти, фанерная четвертая труба покатилась на берег, запахло белилами, мы вооружились ведерками с вкусно пахнущей краской, кистями, натянули свои робы, и наша милая «Аврора» стала приобретать свой привычный стальной оттенок по корпусу и бело-голубоватый, палубный. А кино, ещё раз заглянуло на нашу палубу. «Счастливого плавания» — так назывался фильм о нахимовском училище, в роли начальника которого был Николай Черкасов. Высокий, стройный, в форме капитана первого ранга появлялся он на корабле, и пока шли долгие приготовления к съемке, он вытягивался во весь свой рост на палубном хозяйственном ящике и задремывал, прикрыв лицо командирской фуражкой. В работе я его не видел, подчиненные у него были дети. Вот, два раза само Искусство приходило к нам, напоминало о себе, что оно есть, существует, но мы как-то отнеслись к этому без внимания, как будто это нас совсем и не касалось и у нас совсем-совсем иные заботы и дела. А может, это приходило не искусство? Ну, техника, скажем там, производство, метраж? Оно возникло для меня, чуть позже, в образе театральной студии при Дворце культуры им. С.М. Кирова на том же Васильевском острове. Студией руководили Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд. Искусство для меня началось там. Когда, спустя два с половиной года, я уходил от них, поступив уже в театральный институт, на фотографии Василием Васильевичем было написано: «Учись, Юра, культивируй себя, в труде обретешь ты права свои». Когда я как-то при одной встрече напомнил об этой надписи, он, со свойственным ему юмором, прокомментировал: «.. .какой я тогда был умный».
А на фотографии Ирины Всеволодовны есть такая надпись: «Учись, Юрочка, учись, помни об учителях». Конечно помню, дорогие мои первые учителя. Это вы, взяв меня за руки, осторожно
позволили сделать мне первые шаги, объяснили, где и как ходить по этой туго натянутой проволоке под куполом, как суметь сохранить равновесие, не шлепнуться, показали красоту, магию человеческого общения, бескорыстие прекрасной траты времени, всех вечеров, отданных студии, в которой так случайно собрались вместе, такие разные, и теперь такие влюбленные в одно, объединенные одним люди. «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» «Иных уж нет...» Нет и учителей дорогих, но есть и пребудет благодарная Память.
Вот передо мною ещё одна фотография Виктора Александровича Ремизова — педагога нашей студии, и на ней тоже надпись: «Вспоминая свою театральную молодость, ты не минешь Крейсер «Аврору», Дворец Культуры Кирова, «Девочек», и улицу Белинского...» Твой В. Ремизов 27 дек. 1952 г. «Девочки» — так назывался спектакль нашей студии по пьесе Веры Федоровны Пановой. Спектакль был очень удачным, мы даже возили его на всесоюзный смотр в Москву в 1947 году, получили диплом первой степени, играли в Кремлевском театре, был тогда такой в самом Кремле, страшно волновались, в тайне надеясь, вдруг, на спектакль «зайдет» Сталин? Вере Федоровне очень нравился наш спектакль; девочек, двух сестер играли талантливые Каля Красильникова и Бронислава Тронова, мне досталась роль Васи, который был неравнодушен к одной из сестер и ещё почему-то к морковке, постоянно её грыз, и то и другое вызывало юмористическое отношение окружающих. Замечательный был спектакль. Вот почему «ты не забудешь «Девочек» А улицу Белинского, да потому, что Виктор Александрович жил на этой улице, в неё упиралась одним концом улица Моховая, и в доме № 34 был, да и сейчас есть театральный институт, и я, в свои голодные студенческие годы, частенько наведывался к Виктору Александровичу «поговорить об искусстве», и он со своей проницательностью, как правило, предлагал мне сначала поесть, и Прасковья Мироновна, его домохозяйка и друг, ставила передо мной вкуснющий борщ, а потом ещё котлеты с макаронами, и разве «забудешь» когда-нибудь улицу Белинского, хотя, как говорится, и не хлебом единым, но все же, все же... Дворец Культуры.
Вниманию посетителей сайта мы предлагаем отрывок из книги народного артиста России Юрия Ивановича Каюрова, написанной и изданной к 80-летнему юбилею актера. «Куда уходят дни...» — это поэтическое размышление о жизни и творчестве, о природе и людях. Увлекательное повествование автора о работе в театре и кино, основанное на его дневниковых записях, дополняют путевые заметки, рассказы о коллегах и размышления-исследования о ролях, сыгранных замечательным актером, ведущим артистом Малого театра.
Издание Малого театра
Ответственный редактор серии «Библиотека Малого театра»
В.В. Подгородинский. Под общей редакцией Г.М. Полтавской.
В книге использованы фотографии из фондов музея Малого театра,
из личного архива автора и архива фотохудожника Н.Е. Антипова.
Литературная запись – Н.И.Пашкина
НАЧАЛО БЫЛО ТАК ДАЛЕКО
Сны разные бывают, но когда тебе снится лесная дорога, дорога твоего детства, по которой ты не ходил уже много лет, снится со всеми своими поворотами, лужами, колеями, заполненными осенней водой, мокрыми ветками над ними, и сначала, вроде бы, и не та дорога, но потом, вдруг, ты узнаешь её, со всеми такими знакомыми подробностями и выходишь напрямую, и легко вздохнув и разувшись даже, чтобы ощутить до конца прикосновение к родной земле, держишь такой знакомый путь, зная, что пройти тебе придется ровно семь километров.
Пока идешь, дорога два раза взбегает на горки, где раньше были хутора. Хуторов теперь нет, осталось место в окружении старых-старых тополей, так вот, с этого места далеко видно окрест: и деревенька моя с несколькими уцелевшими избами, в которых уж давно никто не живет, и хилый лесок, и бывшая поскотина, и болото, на много верст вокруг видно, и озеро, одно поменьше, и другое большое — Белое, того берега не видно... Шел вот так как-то, оглядывался, вроде как прощался со всем этим, вроде как уж, не суждено мне больше увидеть все это, и навсегда знакомые строчки: «.. .ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового ситца, не заманит шляться босиком...» повторялись, говорились, плакались, как будто это они вот только сейчас, во мне родились. Не заманит...
Годы и годы идут, со всеми своими событиями, радостями, болезнями, экзотическими невиданными ранее странами, миллионами людей, городами, работой, близкими тебе, а эта картина родного уголка земли стоит и стоит, как живая, и манит до того, что вот уж и во сне пригрезилась. Что же делать-то? А? Не иначе, как надо навестить эту землю как-нибудь, где бегал мальчишкой, где жили, а теперь в ней лежат и дед, и мать, и тетки, и дядья. Надо, видно, побывать, сказать, что я ещё тут.
Школа моя деревянная, Время придет уезжать, Речка за мною туманная Будет бежать и бежать... Н. Рубцов
Память возвращает меня в «те баснословные года», когда была и эта деревянная школа на горушке близ озера, и конец тридцатых годов, когда я был послан на хлеба к деду с бабкой, и престольный праздник Преображеньев день 19 августа. К этому дню в каждом доме ставили пиво, пекли рыбники, пампушки, съезжались и сходились гости из других деревень, да и из города. И солнце, хоть уже и по предосеннему не жаркое, но все ещё теплое, щедро освежало принарядившиеся компании пожилых и задиристые, стаи молодых, сильных, под бодрые переборы тальянки меряющих из конца в конец середину утрамбованной за лето до сухого стука дороги. И открытые окна в избах, и то тихие, то шумные застолья в них, и морщинистое доброе лицо моей бабушки, Маривьяны Никифоровны, в одном из окон, и такой вкусный дух горячих рогулек, что неизвестно ещё, что было лучше, шастать ли по чужим яблоням, или бежать к своему порогу и, на время присмирев, сесть со всеми за такой аппетитный стол с самоваром посередке и большой кринкой топленого молока, пить этот дивный напиток, обжигаясь и торопясь опять туда, где все-таки, наверняка, будет интереснее. Были праздники в других деревнях, тогда уж шли туда своими ребячьими стайками, нагрянывали — был свой интерес, сугубо материальный, кто больше выцыганит пирогов, а кто и огурцов с чужих грядок набьет за пазуху. И уж если где драка завязывалась здешних с дальними, то и мы тут как тут, помирали от любопытства. А потом позднее, долгое возвращение домой по ночной, еле угадываемой дороге, и полевые запахи, и то теплые, то прохладные волны душистого воздуха тебе навстречу невесть откуда, и копёнки сена по сторонам, в которые так нетерпелось зарыться, и только раннее
солнышко вместе с утренней прохладой поднимало, легким неумытым ознобом заставляло прибавлять шаг в знакомом направлении. И такое утро звенело кругом, такой высоты купол небес подымался над тобой, такая бесконечность мира, красоты открывалась, что, казалось, конца этому нет, и ощущение вечности, в яви представало, и что так будет всегда, даже и сомнений никаких не было и быть не могло.
Потом, уже после войны, приезжал не раз пароходом по реке Шексне в свой городок, приезжал матросиком, брюки — клеш, и отбыв положенный срок, навестив всю родню, надышавшись всласть, отчаливал в свой час в обратном направлении, увозя память о милом и дорогом уголке русской земли.
Вот хоть живешь и в северных краях нашей милой Родины, а что-то все помнится, как будто все было-происходило в теплые времена, и рожь под теплым дуновеньем ветра шевелилась, и тропинка средь неё была прогретой, сухой, так что подошвы ног явственно ощущали — натыкались на кусочки подсохшей земли, камешки, трещинки, и большим удовольствием было ступить на прохладу, — недалеко ручей делал свое доброе дело.
Зима, одна запомнилась, 1942-го года. Идешь на Тимонино в школу, или из школы может, занятия рано почему-либо кончились, только видится ясный-ясный морозный, солнечный день, с высоким голубым небом, из бездонной синевы которого доходит, дозванивает звук тяжелого самолета, тянувшего свою ношу в направлении Урала, видно, где-то, в стороне от нашей тропки, правее и выше, проходила их дорога, по которой они и летали делать свое черное дело. И картина эта и звук немецкого мотора повторялись не раз и не два, потому и запомнились, и ещё потому, видно, что слишком велик был разрыв между этим злым от натуги гулом, и тишиной и чистотой деревенской зимы с похрустывающим под валенками крепким снежком, таким смирным, привычным, таким домашним. Конечно, война в нашу деревню входила-заползала нередко похоронками, воем оставшихся теперь навсегда одинокими женщин; и в эту зиму 1942-го ещё и в виде отощавших, обозных или артиллерийских лошадей, с их молчаливыми коневодами в серых длинных шинелях, в валенках, в солдатских шапках ушанках, с подвязанными под подбородком тесемками; картина запомнилась такая: гуськом шли, пошатываясь, на водопой не похожие на себя лошади, и под уздцы поддерживали их, эти пожилые солдаты, оттуда, из под Ленинграда, или из Карелии; стояли они со своими уработавшимися до смерти лошадками, на отдыхе, отъедались, потом так же незаметно как появились исчезали.
Я не доучился, не доходил до конца в свой 7-й класс, есть дома было почти нечего, пошел, чтобы не было лишнего рта в избе, в ремесленное училище учиться и кормиться, и зарабатывать свой хлеб насущный.
Приезжая в Ленинград, я каждый раз не могу не вспомнить свой первый приезд сюда июньским днем 1944-го года.
Я окончил РУ в Вологде, стал токарем, получил назначение на Ленинградский завод «Вулкан», и вот, подъезжаю к городу, выстоявшему в немыслимом, страшном противоборстве с врагом и не утратившему своей величавости, ослепительности, своей грандиозности. Необычной показалась безлюдность, пустынность улиц, площадей; витрины на Невском ещё зашиты досками. Июнь стоял солнечный, нежаркий, с залива и с Невы дул ветерок. Мне, 16-летнему рабочему человеку, было и невдомек, какой страшной силы трагедия ходила своей тяжкой поступью по этим, продуваемым теперь, солнечным ветром, улицам.
Потом нам рассказали кое-что, а ещё потом мы прочитали, многое узнали. Теперь, идя по перрону Московского вокзала и слушая «Гимн Великому городу», понимаешь, ощущаешь величие города как что-то подлинное, настоящее. В Ленинграде прошла вся моя юность. Я служил на «Авроре», стояла она у стенки на Васильевском острове, возле Горного института. И вот, однажды, в свой час, ушла с помощью буксиров на Кронштадский рейд для участия в съемках картины «Крейсер Варяг», в главной роли самого «Варяга». Мы, команда, в бескозырках времен Цусимы, командир крейсера — артист Борис Ливанов. На борту вся съемочная группа, осветительные приборы, ящики с пиротехникой, дымовые шашки, груды гильз и снарядов, актеры на роли морских офицеров и много всякого другого народа.
Наше плавание, бой с японской эскадрой, а потом и «последний парад», длились два месяца, мы исправно отрабатывали все команды, где надо перебегали в дыму, падали, заряжали свои 152-мм орудия, дергали за шнур, гасили пиротехнические пожары, шла какая-то интересная игра, которая кончилась тем, что макет «Варяга» был где-то утоплен, а мы, по осеннему холодку, притащились и пришвартовались на свое привычное место возле Горного института. Там мы отчищали, отскребали свой пароход от киношной грязи и копоти, фанерная четвертая труба покатилась на берег, запахло белилами, мы вооружились ведерками с вкусно пахнущей краской, кистями, натянули свои робы, и наша милая «Аврора» стала приобретать свой привычный стальной оттенок по корпусу и бело-голубоватый, палубный. А кино, ещё раз заглянуло на нашу палубу. «Счастливого плавания» — так назывался фильм о нахимовском училище, в роли начальника которого был Николай Черкасов. Высокий, стройный, в форме капитана первого ранга появлялся он на корабле, и пока шли долгие приготовления к съемке, он вытягивался во весь свой рост на палубном хозяйственном ящике и задремывал, прикрыв лицо командирской фуражкой. В работе я его не видел, подчиненные у него были дети. Вот, два раза само Искусство приходило к нам, напоминало о себе, что оно есть, существует, но мы как-то отнеслись к этому без внимания, как будто это нас совсем и не касалось и у нас совсем-совсем иные заботы и дела. А может, это приходило не искусство? Ну, техника, скажем там, производство, метраж? Оно возникло для меня, чуть позже, в образе театральной студии при Дворце культуры им. С.М. Кирова на том же Васильевском острове. Студией руководили Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд. Искусство для меня началось там. Когда, спустя два с половиной года, я уходил от них, поступив уже в театральный институт, на фотографии Василием Васильевичем было написано: «Учись, Юра, культивируй себя, в труде обретешь ты права свои». Когда я как-то при одной встрече напомнил об этой надписи, он, со свойственным ему юмором, прокомментировал: «.. .какой я тогда был умный».
А на фотографии Ирины Всеволодовны есть такая надпись: «Учись, Юрочка, учись, помни об учителях». Конечно помню, дорогие мои первые учителя. Это вы, взяв меня за руки, осторожно
позволили сделать мне первые шаги, объяснили, где и как ходить по этой туго натянутой проволоке под куполом, как суметь сохранить равновесие, не шлепнуться, показали красоту, магию человеческого общения, бескорыстие прекрасной траты времени, всех вечеров, отданных студии, в которой так случайно собрались вместе, такие разные, и теперь такие влюбленные в одно, объединенные одним люди. «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» «Иных уж нет...» Нет и учителей дорогих, но есть и пребудет благодарная Память.
Вот передо мною ещё одна фотография Виктора Александровича Ремизова — педагога нашей студии, и на ней тоже надпись: «Вспоминая свою театральную молодость, ты не минешь Крейсер «Аврору», Дворец Культуры Кирова, «Девочек», и улицу Белинского...» Твой В. Ремизов 27 дек. 1952 г. «Девочки» — так назывался спектакль нашей студии по пьесе Веры Федоровны Пановой. Спектакль был очень удачным, мы даже возили его на всесоюзный смотр в Москву в 1947 году, получили диплом первой степени, играли в Кремлевском театре, был тогда такой в самом Кремле, страшно волновались, в тайне надеясь, вдруг, на спектакль «зайдет» Сталин? Вере Федоровне очень нравился наш спектакль; девочек, двух сестер играли талантливые Каля Красильникова и Бронислава Тронова, мне досталась роль Васи, который был неравнодушен к одной из сестер и ещё почему-то к морковке, постоянно её грыз, и то и другое вызывало юмористическое отношение окружающих. Замечательный был спектакль. Вот почему «ты не забудешь «Девочек» А улицу Белинского, да потому, что Виктор Александрович жил на этой улице, в неё упиралась одним концом улица Моховая, и в доме № 34 был, да и сейчас есть театральный институт, и я, в свои голодные студенческие годы, частенько наведывался к Виктору Александровичу «поговорить об искусстве», и он со своей проницательностью, как правило, предлагал мне сначала поесть, и Прасковья Мироновна, его домохозяйка и друг, ставила передо мной вкуснющий борщ, а потом ещё котлеты с макаронами, и разве «забудешь» когда-нибудь улицу Белинского, хотя, как говорится, и не хлебом единым, но все же, все же... Дворец Культуры.
Дата публикации: 10.09.2007

















