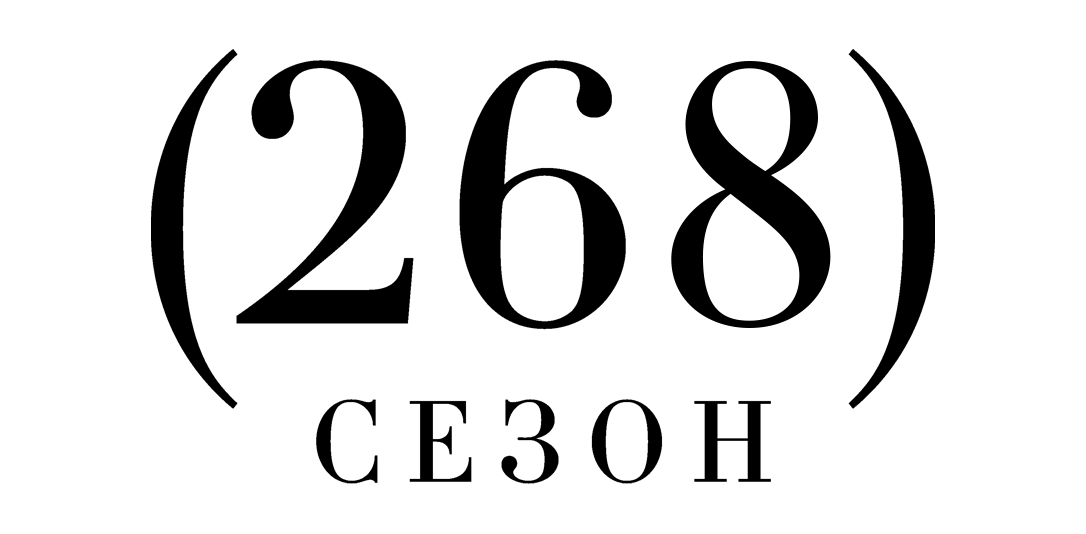Новости
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой» Е.Н. ГОГОЛЕВА
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
СУДЬБА АКТРИСЫ
Актерская профессия серьезно отличается от других творческих профессий. Прежде всего актер — член коллектива, и его личные творческие планы всегда зависят от творческих планов всего коллектива. Ты можешь сколько угодно желать сыграть ту или иную роль, но если театр ставить эту пьесу не будет, ты эту роль никогда не сыграешь.
У каждого актера или актрисы есть роли, о которых они мечтают всю жизнь и, увы, так и не получают возможности их воплотить. Были и у меня мечты-роли, так и не сыгранные. Я уже рассказывала, что, обучаясь на втором курсе Филармонии, пыталась сыграть роль Марии Стюарт. Но из этого ничего не получилось. Так Мария Стюарт и осталась моей заветной мечтой.
Вторая несбывшаяся мечта — Настасья Филипповна в «Идиоте». Я играла ее много и с успехом в поездках труппы Малого театра, организованных С. А. Головиным. Играла в таких больших городах, как Харьков, Ростов, Баку, Тифлис, Одесса. Играла в Москве со смешанным составом в филиале Большого театра. Спектакль шел хорошо, выступали в нем главным образом актеры Малого театра. Но ведь это была моя почти самостоятельная работа, а мне так хотелось сделать Настасью Филипповну с настоящим, строгим режиссером. И я была просто на седьмом небе от счастья, когда услыхала, что после «Варваров» И. Я. Судаков хочет поставить «Идиота» и дать мне роль Настасьи Филипповны. Увы! «Идиот» в Малом театре так и не пошел.
Ну а третья мечта, уже последних лет, — сыграть бабушку Лермонтова, Елизавету Алексеевну Арсеньеву.
Я уже писала, что очень люблю Лермонтова, много читала его с эстрады, много читала о нем. Знала и жизнь и безграничную любовь к нему воспитавшей его бабушки. Но надо было писать об этом пьесу, найти драматурга и режиссера. Прежде всего я обратилась к Ираклию Луарсабовичу Андроникову. Кто, как не он, знал все о Лермонтове. Слушал и меня, когда я давала вечер поэзии Лермонтова. Смею думать, что и лично ко мне он неплохо относится.
Дорогая Елена Николаевна!
Мы не поздравили Вас в юбилейные дни театра, не отметили Вашу награду, не были на Вашем творческом вечере, но думаем о Вас постоянно. Встречи в Доме актера из года в год раскрыли нам чудесные черты Вашего характера. Вы не только высокоталантливы и наделены прекрасной и, можно сказать, торжественной красотой — Вы необыкновенно добрый и скромный человек. И это сочетание так прекрасно, что грех не пожелать вам всего самого лучшего в придачу к тому, чем одарили Вас Ваш талант и Ваша прекрасная жизнь. Будьте здоровы, милая Елена Николаевна!
Ваши Андрониковы 1974.XII. 15.
Андроников очень сочувственно отнесся к моему предложению, тут же рассказал много новых подробностей об Арсеньевой, но добавил: «Консультировать, помогать буду с наслаждением, Елена Николаевна, но я никогда не писал пьес и не могу это сделать». Я просила его подсказать мне, кто из современных драматургов или писателей мог бы взяться за такую тему. Но, перебрав всех современных писателей, мы не нашли никого. «Да и вряд ли найдем, Елена Николаевна, — сказал мне на прощание Андроников. — Я никого не вижу. Тема особенная. Лермонтов».
Как-то при встрече с Г. М. Марковым я поделилась с ним своей мечтой и попросила посоветовать, к кому обратиться с предложением написать такую пьесу. Я даже набросала в мыслях подобие сценарного плана, где мне как бабушке Лермонтова нужны были лишь три картины: детство Миши — бабушка властная помещица; арест Лермонтова — бабушка в Петербурге у Бенкендорфа; и бабушка над могилой или у гроба—в общем, смерть Лермонтова. Георгий Мокеевич посоветовал обратиться к Г. А. Гулиа, который в журнале «Москва» напечатал интересный очерк «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова». Разумеется, я сейчас же отыскала этот очерк, буквально проглотила его и отправилась к Гулиа. Гулиа со свойственным ему темпераментом ухватился за мою идею. Он был, безусловно, в материале, но честно мне сказал, что без помощи режиссера сделать пьесу не сумеет. Режиссер, которого я боготворила и который, казалось мне, должен обязательно увлечься темой, был Г. А. Товстоногов. Воспользовавшись его приездом в Москву, я вместе с ним поехала к Гулиа. Товстоногов высказал необыкновенно интересные мысли. Какой это талантливый человек!
Он блестяще нафантазировал пьесу. Как замечательно все это виделось! Но Георгий Александрович совершенно определенно заявил: пьеса не о Лермонтове, а о бабушке Лермонтова. «Не верю и не могу представить самого Лермонтова на сцене», — говорил Товстоногов. И это ему принадлежат слова: «Как писатели и поэты писали — мы знаем, читаем их с восторгом, но как они говорили в жизни — не знаем и вряд ли кто-нибудь сумеет это верно отобразить». Вспоминали спектакль «Лермонтов» — неудачную постановку МХАТ. Говорили о других неудавшихся попытках вывести на сцену великих поэтов. И опять пришли к выводу: единственная возможность— написать пьесу о бабушке Лермонтова. Но, вероятно, у Гулиа были другие заботы. Дело у него не двигалось, несмотря на мои многократные звонки, а потом я и звонить перестала.
Многоуважаемая Елена Николаевна! ...Недавно, из телевизионной передачи «Мастера искусств», мне было очень приятно и интересно узнать о Вашем желании сыграть роль Елизаветы Алексеевны, так много сделавшей для воспитания своего внука.
Это было бы замечательно!
Посылаю Вам, в знак признательности, «родословную Лермонтовых», составленную по архивным данным, литературным источникам и моим личным контактам и переписке с представителями этого рода, проживающими в СССР.
С уважением к Вам С. А. Панфилова.
И еще была попытка. О моей мечте и приближающемся 60-летии моей работы в Малом театре знал Евгений Иванович Куманьков. Как-то в его мастерской собралась вся его семья, приехала и я. С наслаждением смотрела я картины Евгения Ивановича: переулочки, особнячки старой Москвы, выполненные с огромным мастерством и чуткостью. Так ощущалась любовь Евгения Ивановича к этому простому, чисто русскому уголку, какому-нибудь незатейливому домику с пошатнувшимся крылечком, с садиком, выглядывающим из дырявого забора. Пересмотрев уйму этюдов, набросков, готовых к выставке картин, заговорили и о моем приближающемся юбилее. А что играть? Опять подумали о драматурге или писателе. Евгений Иванович был хорошо знаком с Ю. М. Нагибиным. И вот на одном из спектаклей «Господ Головлевых» состоялось мое знакомство с Нагибиным. Его интересовали и идея и тот набросок, который сделал Товстоногов. Нагибин знал и ценил Товстоногова, и, может быть, могло бы что-то получиться. Но, очевидно, я ни как актриса, ни как человек не вдохновляла Нагибина, и для меня он этой пьесы не написал.
Но актерская профессия имеет и другие сложности. Понятие хорошей роли, роли, которую играешь с удовольствием и творческим удовлетворением, связано обычно и с партнером, к которому чувствуешь притяжение, с которым есть творческая близость. Прощание с хорошей ролью, если к тому же она одна из любимых, всегда трудно и больно. Иногда это прощание начинается, когда меняется многолетний партнер. Так было у меня с «Уриэлем Акостой». Я боготворила Остужева, и то, что его роль стал играть другой актер, восприняла как удар. Я больше не испытывала прежнего трепета, вдохновения, играя Юдифь с новым Уриэлем. Да и спектакль уже потерял интерес зрителя и скоро сошел со сцены. Окончательное прощание с Юдифью прошло почти безболезненно, так как его тяжесть я пережила с уходом из спектакля Остужева. Труднее было расставание с леди Макбет. Непонятно, почему сняли с репертуара этот спектакль, всегда делавший полные сборы. Однако это все были роли героинь, которых я еще продолжала играть, и отказ от этого амплуа казался мне далеким и нескорым. Но вот ушел из жизни Зубов, и я простилась с Надеждой в «Варварах», ибо кто же мог заменить Зубова в Цыганове! Я понимала, что без Зубова нельзя играть «Варваров».
А бывают прощания, связанные с иными суровыми вещами — возрастом, например. Актер—художник, образы которого связаны с его внешностью. И постепенное старение ведет к переходу на другие роли, на другое амплуа. Пришлось это и мне пережить.
В 60-е годы в театре шел спектакль, поставленный И. В. Ильинским и В. И. Цыганковым, — «Ярмарка тщеславия». Исполнительницы роли мисс Кроули А. А. Яблочкина и Е. Д. Турчанинова были уже в преклонных годах, требовалась смена. И эту роль предложили мне. Я, конечно, согласилась. После нескольких репетиций вышла на сцену в костюме, с седой накладкой, но мало что изменив в своем лице. Я вообще не люблю грима. Прошла репетиция. Ильинский зашел в мою гримуборную. «Не вяжется то, что вы делаете на сцене, с вашим лицом, с вашей внешностью, Елена Николаевна. Давайте поищем грим». А образ-то был характерный, острый, сатирический. Пришел наш гример, и оба режиссера стали что-то делать с моим лицом. Гример наклеил страшный нос, провел какие-то штрихи. Надели полуседую накладку, нацепили чепец, и я увидела себя в зеркале. Это был ужасный момент. Очень больно стало где-то в груди, но... грим одобрен; все довольны, и я осталась одна с этой мерзкой, длинноносой образиной, смотрящей на меня из зеркала... Я поняла, как это ни горько было: прощайте, мои героини, начинается, очевидно, новый этап в моей творческой жизни — роли старух. Даже не пожилых героинь, где еще можно щегольнуть остатками внешности. Нет уже и мысли о Кручининой или о ролях «мам» — надо смириться и думать о «бабушках». Больно, грустно, но, как говорится, «закон божий». Я почти не заметила перехода от молодых героинь—Софьи в «Горе от ума», Лидии в «Бешеных деньгах» — к таким ролям, как Горелова в «За тех, кто в море!» и позднее Кручинина в «Без вины виноватых». Все это еще было закономерно и легко. А вот с «Ярмарки тщеславия» поняла, что кончилась и молодость и зрелость. Нужны другие краски, нужен иной подход к ролям. Дело не во внешнем облике. Должно постареть, поуспокоиться то, что внутри. И как-то глубже, мудрее должны смотреть глаза.
Я знала и отдавала себе ясный отчет, что от всех моих героинь, а в прошлом «роковых» женщин, от гордого и властного взгляда, поворота головы, от всех бурь внутри у меня наросли известные штампы. Появилась внешняя, поверхностная игра. Чтобы преодолеть это, мне нужен был друг, товарищ, учитель, пристальный, терпеливый взгляд. В то время в театр пришел режиссер Л. Е. Хейфец. Я внимательно смотрела первую у нас его постановку — «Свадьбу Кречинского». Я хорошо знала актеров, занятых в этом спектакле, и мне почудилось в каждом из них что-то новое, свежее. Интересно поставлены некоторые сцены этой хорошо всем известной комедии.
Мне очень захотелось поработать именно с Хейфецем. Молодой, ищущий, может, он очистит меня от всяких годами наросших штампов, подготовит к тому новому периоду творческой жизни, к которому я через боль, но уже подготовила себя. Стала узнавать у товарищей, как именно он работает с актерами на репетициях. Говорят: прибегает иногда к «этюдам». Как это — к этюдам? Ведь это стыдно, этюды-то делали в школе. И вдруг я, уже полвека актриса, и при всех буду делать этюды. И страшно, и стыдно. Но очень, очень хотелось учиться. Пусть этюды.
Следующей постановкой Хейфеца было «Перед заходом солнца» Гауптмана. Одна пожилая роль. Маленькая — это не важно. Но вот смогут ли мне ее дать: дочери ведь восемнадцать лет. Инкен юна, ну, мне, если дадут эту роль, если думать о поздних родах, должно быть не больше пятидесяти — ну пятидесяти пяти от силы. Да, я выгляжу неплохо, и все ж таки... Так хотелось работать с Хейфецем, что я решила просить эту роль. На деле же оказалось, что дирекция и хотела, чтобы я играла, да роль слишком мала. Еще видели во мне героиню. Значит, все к лучшему.
Уважаемая Елена Николаевна!
Просмотрев вчера спектакль «Перед заходом солнца», не могу удержаться, чтобы не выразить свой восторг. Сыгранная Вами роль хоть и не очень большая, зато глубоко эмоциональна и драматична. Есть некоторые актеры, игра которых всегда меня убеждает в том, что только так надо играть, не иначе, и что это тот образ, который не вызывает сомнений своей сценической достоверностью и органичностью.
Конечно, актеров на свете много, и играют неплохо, но служить эталоном в сценическом мастерстве не могут. Вы мне очень нравитесь и в игре, и в беседах, и в выступлениях, которые я неоднократно слушал. Играйте и маленькие роли, не бойтесь их, ведь все равно останетесь такой же высокой Гоголевой.
Ольшевский
Интересен мой разговор с Хейфецем. Я ему прямо сказала, что очень бы хотела работать с ним и рада, что мне дали эту возможность. Уже вывесили приказ о распределении ролей, и я — фрау Петерc, но я боюсь его. Говорю: «Мне сказали, что вы этюдами занимаетесь, а я уже для этюдов-то старовата, мне смешно и стыдно перед всеми». А он мне в ответ: «Вот видите как. А я вас боюсь — старейшая актриса Малого театра, как мне держать себя с вами?» Мы расхохотались, а потом я уже серьезно сказала: «Да, старейшая, и СССР, и так далее, но я понимаю, что у меня много штампов и сама я их не замечаю. Вас я прошу посмотреть свежими глазами и, не стесняясь, очистить меня от этих штампов. Я верю, что вы можете это сделать, но боюсь ваших «этюдов», как-то мне не очень ловко их проделывать, вроде поздновато!» После паузы Леонид Ефимович вдруг тоже очень серьезно ответил: «Впервые вижу актрису, которая так откровенно говорит о своих недостатках режиссеру, — это удивительно». Потом мне рассказывали, что его просто поразило: Гоголева—и вдруг так говорит о себе. А во время работы, на репетициях, мне было и трудно, и радостно, и творческое удовлетворение я ощутила. Что-то новое, легкое и простое. И были этюды, но Хейфец предлагал их так незаметно, а я исполняла их так непосредственно, что Леонид Ефимович после говорил: «Что же вы боялись этюдов, вы прекрасно их схватываете».
Работа с Хейфецем принесла мне громадную пользу и творческую удачу, как говорили товарищи. Хороший режиссер Хейфец, и моя ему большая благодарность. Его работы в Малом театре, пусть иногда не во всем удавшиеся, всегда чем-то очень и очень интересны. А главное его великолепное качество — он умеет раскрывать актера. Думаю, что это качество — величайший дар режиссера.
В «Заговоре Фиеско» Шиллера он выявил много новых дарований. Некоторые были загублены предыдущим постановщиком, на некоторых вообще не обращали внимания, считая просто бездарными, а они заиграли, и как заиграли! Многие просто вновь родились как актеры. Я — поклонница Хейфеца. Хорошо, что он в Малом театре.
В 60-е годы мне пришлось играть и Мурзавецкую в «Волках и овцах». В Малом театре я много видела Мурзавецких. Видела и Яблочкину, и Турчанинову, и Массалитинову, и Пашенную. Со многими из них я играла Глафиру. И вот теперь сама я Мурзавецкая. Я вдумывалась в образ своей героини, читала о процессе баронессы Розен (в иночестве игуменьи Митрофании) — прототипе Мурзавецкой. Почему-то передо мной часто вставала усадьба и помещичий дом в «Темных аллеях» Бунина. Размышляя, я без конца задавала себе вопросы: почему она осталась «в девицах», почему не вышла замуж? Как и почему не сложилась личная жизнь Меропии Давыдовны? Промотал ли все их состояние пьяница брат, сын которого, молодой Мурзавецкий, тоже пьянчуга? При этом пьянчуга никчемный, выгнанный из полка. Физических недостатков у Меропии нет, не урод она и лицом, так в чем же дело? Островский не дает на эти вопросы ответа. Тогда, следуя своему методу работы, я восстанавливаю биографию Меропии и ее брата.
Оба они рано осиротели. Брат был моложе. Забыв себя, Меропия отдается заботам о брате. Ему вручены бразды правления, усадьба, капитал, имение. А он, рано овдовев и оставшись с сыном, проматывает все, что у них с сестрой было, и умирает. Она бесприданница. На ее руках племянник и расстроенное имение. Благодаря своему уму, а он у нее бесспорно есть, определяет племянника на военную службу. Но поправить как следует финансовые дела почти невозможно, да, наверно, и практической сметки у нее нет. Племянника выгоняют из полка. Он сидит на шее у Меропии, пьянствует и тащит из дому все, что попадается под руку. Имение разваливается. А в губернии помнят, как она вела себя, воспитывая брата, каким уважением пользовалась, какой приобрела авторитет. Но денег нет, все идет к финансовому краху, потому и решается она на любую авантюру, даже на подлог: надо сохранять видимость приличия и респектабельности. Потому и вечно черное платье — других-то нарядов нет! Потому и хватается она, как утопающий за соломинку, за возможность женить племянника на богатой, глупой, по ее мнению, и безвольной Купавиной. Если он женится, Меропия все ее имение и капитал в свои руки заберет. Но наступают новые времена, появляются новые люди — заводчики, предприниматели, дельцы. Старосветские помещики отступают. Вот Меропия и напоролась на Беркутова. Фамилия, как всегда у Островского, точно передает смысл: Беркутов — беркут.
Много в своей жизни претерпела Меропия, много перестрадала. Некогда было думать о себе, выезжать, искать подходящего жениха. Да и сами женихи знали о ее разоренном хозяйстве. Их не проведешь. А Меропия не заботилась о радости и счастье. Обладая твердым, властным характером, она думала только о том, как скрыть разорение и поддержать семейный престиж.
Так размышляла я, читая «Темные аллеи» Бунина. Все ветшает. Дом уже не тот. Остался лишь запущенный сад, чудесные аллеи. Наступил конец помещичьей эпохи.
Теперь «Волки и овцы» уже не идут на сцене Малого театра. Если бы мне опять пришлось играть Меропию, вероятно, надо было бы еще помечтать, еще продумать «предлагаемые обстоятельства», и, может быть, да и наверное даже, появились бы некоторые новые черточки, новые акценты в роли. Теперь бы я обязательно настояла, чтобы сцену с Беркутовым не сокращали, а восстановили всю целиком, чего не было в нашем спектакле.
Другая моя работа — два «Горя от ума». Вернее, две Хлёстовы. «Горе от ума» было поставлено Евгением Симоновым в Малом театре в 1963 году. Чацкого играл Подгорный, Софью — Корниенко и Юдина, Фамусова — Царев и Ильинский. Мне и Фадеевой была поручена роль Хлёстовой. Симонов ставил «Горе от ума» в романтическом стиле. Этому способствовали и декорации Б. И. Волкова, и костюмы, и, пожалуй, трактовка некоторых ролей. Это, скорее, был Петербург, а не московский дом Фамусова.
Так я и играла. Я читала, что Грибоедов писал свою Амфису Ниловну простоватой. Я же, следуя замыслу режиссера, представляла Хлёстову независимой, всех и все несколько презирающей, резкой (фамилия-то какая! Хлёстова, хлыст!). Такая и во дворце в Петербурге бывала, и не на последних ролях, могла и с императором говорить свободно. Она, безусловно, умна, хотя несколько самодурка. «Зловещая ли она старуха», как говорит Чацкий, — не знаю. В постановке Симонова, под влиянием слухов и общественной молвы на балу у Фамусова и непочтительного отношения Чацкого (не подошел к ручке да еще осмелился засмеяться, по ее мнению, ни к селу ни к городу), она раздражена, возмущена его дерзостью. Но зловещей старухи в моем исполнении не было. Весь облик скорее напоминал петербургскую гранд-даму, чем московскую старуху, воссозданную по рисункам Боклевского. Не думаю, что образ получился правильным. Во всяком случае, в другой постановке он оказался бы невозможен. Вероятно, правильнее было бы играть, как В. Н. Пашенная и особенно В. О. Массалитинова. Увы! Эти краски не моей палитры. И если бы я и старалась подражать этим великолепным актрисам, у меня бы ничего не получилось, а тем более на общем фоне постановки Евгения Симонова.
Но вот в 1975 году Малый театр опять вернулся к «Горю от ума». Ставил спектакль молодой режиссер. В. Н. Иванов под общим руководством М. И. Царева. Состав несколько изменился, я бы сказала, помолодел, хотя роль Фамусова по-прежнему исполнял Царев, а Софьи — Корниенко. Хлёстову снова дали мне. Художник Е. И. Куманьков создал весьма достоверный московский дом Фамусова, да и сам Царев—Фамусов был блестящим московским барином. Виталий Соломин играл молодого, но несколько спорного Чацкого — резкого, подчас вздорного. Не все принимали такой образ. Пришлось и мне пересматривать мою Хлёстову. Теперь я не кичилась своим богатством, своими бриллиантами, как в прежней постановке. Костюм был более скромным, но я играла московскую крепостницу, властную, иногда даже и веселую, готовую пожурить и метко высказаться. С удовольствием хвасталась своей арапкой — вот, ни у кого такой нет, а у нас с сестрой это чудище есть. Никто не смеет так отрекомендовать Загорецкого, а ей можно, ей все дозволено. Выходка Чацкого, как только она узнала, что это тот мальчишка, которого она «за уши дирала», особенно ее не затронула,—ну что на мальчишку обращать внимание! А вот дурак Скалозуб ее взорвал. Лезет со своими «выпушками, петлицами», вроде ее поправляет, она бы даже уехала сейчас же — так разгневалась. Да вовремя тучу разогнал Молчалин. Вот милый, услужливый человек. Сумасшествие Чацкого ее поразило. Она даже поверить в это не может. Знала его мальчишкой и шалунишкой и только что видела здесь, правда, он как будто не к месту рассмеялся, но зла на него она пока не имеет. Недоумевает, жаль его. В общем он неплохой был малый, и вот — на тебе. В монологе Чацкого есть кое-что, что ее, женщину неглупую, даже заставляет задуматься. Но вот Чацкого занесло, Хлёстовой почудилась дерзость, и она вконец разгневалась и встала из-за стола. Последний акт — разъезд гостей. Хлёстова попросту устала, и ей вое безразлично. Хочется скорей домой в постель, потому почти равнодушно говорит она о Чацком.
Не считаю, что мне удалась эта роль, я чего-то не нашла в ней, не «сидела» в роли, как мы иногда говорим. Режиссура мне не помогала, а сама я, играя редко, никак не могла уловить ту ниточку, которая бы связала мое исполнение с нафантазированным образом. Мешал старый образ Хлёстовой, подсказанный Симоновым. Тянуло на гранд-даму, а не на старуху. Переход на роли старух вообще очень труден, хотя я уже и совершила его, играя «Пучину». Но о «Пучине» особый разговор. Да, в сущности, какая роль дается легко? Мучителен, ох как мучителен труд актера! Если и заснешь, пробегая мысленно отдельные сцены, то, проснувшись среди ночи, опять и опять до рассвета перебираешь, ищешь, думаешь, иногда и плачешь, что не можешь уловить образ.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
СУДЬБА АКТРИСЫ
Актерская профессия серьезно отличается от других творческих профессий. Прежде всего актер — член коллектива, и его личные творческие планы всегда зависят от творческих планов всего коллектива. Ты можешь сколько угодно желать сыграть ту или иную роль, но если театр ставить эту пьесу не будет, ты эту роль никогда не сыграешь.
У каждого актера или актрисы есть роли, о которых они мечтают всю жизнь и, увы, так и не получают возможности их воплотить. Были и у меня мечты-роли, так и не сыгранные. Я уже рассказывала, что, обучаясь на втором курсе Филармонии, пыталась сыграть роль Марии Стюарт. Но из этого ничего не получилось. Так Мария Стюарт и осталась моей заветной мечтой.
Вторая несбывшаяся мечта — Настасья Филипповна в «Идиоте». Я играла ее много и с успехом в поездках труппы Малого театра, организованных С. А. Головиным. Играла в таких больших городах, как Харьков, Ростов, Баку, Тифлис, Одесса. Играла в Москве со смешанным составом в филиале Большого театра. Спектакль шел хорошо, выступали в нем главным образом актеры Малого театра. Но ведь это была моя почти самостоятельная работа, а мне так хотелось сделать Настасью Филипповну с настоящим, строгим режиссером. И я была просто на седьмом небе от счастья, когда услыхала, что после «Варваров» И. Я. Судаков хочет поставить «Идиота» и дать мне роль Настасьи Филипповны. Увы! «Идиот» в Малом театре так и не пошел.
Ну а третья мечта, уже последних лет, — сыграть бабушку Лермонтова, Елизавету Алексеевну Арсеньеву.
Я уже писала, что очень люблю Лермонтова, много читала его с эстрады, много читала о нем. Знала и жизнь и безграничную любовь к нему воспитавшей его бабушки. Но надо было писать об этом пьесу, найти драматурга и режиссера. Прежде всего я обратилась к Ираклию Луарсабовичу Андроникову. Кто, как не он, знал все о Лермонтове. Слушал и меня, когда я давала вечер поэзии Лермонтова. Смею думать, что и лично ко мне он неплохо относится.
Дорогая Елена Николаевна!
Мы не поздравили Вас в юбилейные дни театра, не отметили Вашу награду, не были на Вашем творческом вечере, но думаем о Вас постоянно. Встречи в Доме актера из года в год раскрыли нам чудесные черты Вашего характера. Вы не только высокоталантливы и наделены прекрасной и, можно сказать, торжественной красотой — Вы необыкновенно добрый и скромный человек. И это сочетание так прекрасно, что грех не пожелать вам всего самого лучшего в придачу к тому, чем одарили Вас Ваш талант и Ваша прекрасная жизнь. Будьте здоровы, милая Елена Николаевна!
Ваши Андрониковы 1974.XII. 15.
Андроников очень сочувственно отнесся к моему предложению, тут же рассказал много новых подробностей об Арсеньевой, но добавил: «Консультировать, помогать буду с наслаждением, Елена Николаевна, но я никогда не писал пьес и не могу это сделать». Я просила его подсказать мне, кто из современных драматургов или писателей мог бы взяться за такую тему. Но, перебрав всех современных писателей, мы не нашли никого. «Да и вряд ли найдем, Елена Николаевна, — сказал мне на прощание Андроников. — Я никого не вижу. Тема особенная. Лермонтов».
Как-то при встрече с Г. М. Марковым я поделилась с ним своей мечтой и попросила посоветовать, к кому обратиться с предложением написать такую пьесу. Я даже набросала в мыслях подобие сценарного плана, где мне как бабушке Лермонтова нужны были лишь три картины: детство Миши — бабушка властная помещица; арест Лермонтова — бабушка в Петербурге у Бенкендорфа; и бабушка над могилой или у гроба—в общем, смерть Лермонтова. Георгий Мокеевич посоветовал обратиться к Г. А. Гулиа, который в журнале «Москва» напечатал интересный очерк «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова». Разумеется, я сейчас же отыскала этот очерк, буквально проглотила его и отправилась к Гулиа. Гулиа со свойственным ему темпераментом ухватился за мою идею. Он был, безусловно, в материале, но честно мне сказал, что без помощи режиссера сделать пьесу не сумеет. Режиссер, которого я боготворила и который, казалось мне, должен обязательно увлечься темой, был Г. А. Товстоногов. Воспользовавшись его приездом в Москву, я вместе с ним поехала к Гулиа. Товстоногов высказал необыкновенно интересные мысли. Какой это талантливый человек!
Он блестяще нафантазировал пьесу. Как замечательно все это виделось! Но Георгий Александрович совершенно определенно заявил: пьеса не о Лермонтове, а о бабушке Лермонтова. «Не верю и не могу представить самого Лермонтова на сцене», — говорил Товстоногов. И это ему принадлежат слова: «Как писатели и поэты писали — мы знаем, читаем их с восторгом, но как они говорили в жизни — не знаем и вряд ли кто-нибудь сумеет это верно отобразить». Вспоминали спектакль «Лермонтов» — неудачную постановку МХАТ. Говорили о других неудавшихся попытках вывести на сцену великих поэтов. И опять пришли к выводу: единственная возможность— написать пьесу о бабушке Лермонтова. Но, вероятно, у Гулиа были другие заботы. Дело у него не двигалось, несмотря на мои многократные звонки, а потом я и звонить перестала.
Многоуважаемая Елена Николаевна! ...Недавно, из телевизионной передачи «Мастера искусств», мне было очень приятно и интересно узнать о Вашем желании сыграть роль Елизаветы Алексеевны, так много сделавшей для воспитания своего внука.
Это было бы замечательно!
Посылаю Вам, в знак признательности, «родословную Лермонтовых», составленную по архивным данным, литературным источникам и моим личным контактам и переписке с представителями этого рода, проживающими в СССР.
С уважением к Вам С. А. Панфилова.
И еще была попытка. О моей мечте и приближающемся 60-летии моей работы в Малом театре знал Евгений Иванович Куманьков. Как-то в его мастерской собралась вся его семья, приехала и я. С наслаждением смотрела я картины Евгения Ивановича: переулочки, особнячки старой Москвы, выполненные с огромным мастерством и чуткостью. Так ощущалась любовь Евгения Ивановича к этому простому, чисто русскому уголку, какому-нибудь незатейливому домику с пошатнувшимся крылечком, с садиком, выглядывающим из дырявого забора. Пересмотрев уйму этюдов, набросков, готовых к выставке картин, заговорили и о моем приближающемся юбилее. А что играть? Опять подумали о драматурге или писателе. Евгений Иванович был хорошо знаком с Ю. М. Нагибиным. И вот на одном из спектаклей «Господ Головлевых» состоялось мое знакомство с Нагибиным. Его интересовали и идея и тот набросок, который сделал Товстоногов. Нагибин знал и ценил Товстоногова, и, может быть, могло бы что-то получиться. Но, очевидно, я ни как актриса, ни как человек не вдохновляла Нагибина, и для меня он этой пьесы не написал.
Но актерская профессия имеет и другие сложности. Понятие хорошей роли, роли, которую играешь с удовольствием и творческим удовлетворением, связано обычно и с партнером, к которому чувствуешь притяжение, с которым есть творческая близость. Прощание с хорошей ролью, если к тому же она одна из любимых, всегда трудно и больно. Иногда это прощание начинается, когда меняется многолетний партнер. Так было у меня с «Уриэлем Акостой». Я боготворила Остужева, и то, что его роль стал играть другой актер, восприняла как удар. Я больше не испытывала прежнего трепета, вдохновения, играя Юдифь с новым Уриэлем. Да и спектакль уже потерял интерес зрителя и скоро сошел со сцены. Окончательное прощание с Юдифью прошло почти безболезненно, так как его тяжесть я пережила с уходом из спектакля Остужева. Труднее было расставание с леди Макбет. Непонятно, почему сняли с репертуара этот спектакль, всегда делавший полные сборы. Однако это все были роли героинь, которых я еще продолжала играть, и отказ от этого амплуа казался мне далеким и нескорым. Но вот ушел из жизни Зубов, и я простилась с Надеждой в «Варварах», ибо кто же мог заменить Зубова в Цыганове! Я понимала, что без Зубова нельзя играть «Варваров».
А бывают прощания, связанные с иными суровыми вещами — возрастом, например. Актер—художник, образы которого связаны с его внешностью. И постепенное старение ведет к переходу на другие роли, на другое амплуа. Пришлось это и мне пережить.
В 60-е годы в театре шел спектакль, поставленный И. В. Ильинским и В. И. Цыганковым, — «Ярмарка тщеславия». Исполнительницы роли мисс Кроули А. А. Яблочкина и Е. Д. Турчанинова были уже в преклонных годах, требовалась смена. И эту роль предложили мне. Я, конечно, согласилась. После нескольких репетиций вышла на сцену в костюме, с седой накладкой, но мало что изменив в своем лице. Я вообще не люблю грима. Прошла репетиция. Ильинский зашел в мою гримуборную. «Не вяжется то, что вы делаете на сцене, с вашим лицом, с вашей внешностью, Елена Николаевна. Давайте поищем грим». А образ-то был характерный, острый, сатирический. Пришел наш гример, и оба режиссера стали что-то делать с моим лицом. Гример наклеил страшный нос, провел какие-то штрихи. Надели полуседую накладку, нацепили чепец, и я увидела себя в зеркале. Это был ужасный момент. Очень больно стало где-то в груди, но... грим одобрен; все довольны, и я осталась одна с этой мерзкой, длинноносой образиной, смотрящей на меня из зеркала... Я поняла, как это ни горько было: прощайте, мои героини, начинается, очевидно, новый этап в моей творческой жизни — роли старух. Даже не пожилых героинь, где еще можно щегольнуть остатками внешности. Нет уже и мысли о Кручининой или о ролях «мам» — надо смириться и думать о «бабушках». Больно, грустно, но, как говорится, «закон божий». Я почти не заметила перехода от молодых героинь—Софьи в «Горе от ума», Лидии в «Бешеных деньгах» — к таким ролям, как Горелова в «За тех, кто в море!» и позднее Кручинина в «Без вины виноватых». Все это еще было закономерно и легко. А вот с «Ярмарки тщеславия» поняла, что кончилась и молодость и зрелость. Нужны другие краски, нужен иной подход к ролям. Дело не во внешнем облике. Должно постареть, поуспокоиться то, что внутри. И как-то глубже, мудрее должны смотреть глаза.
Я знала и отдавала себе ясный отчет, что от всех моих героинь, а в прошлом «роковых» женщин, от гордого и властного взгляда, поворота головы, от всех бурь внутри у меня наросли известные штампы. Появилась внешняя, поверхностная игра. Чтобы преодолеть это, мне нужен был друг, товарищ, учитель, пристальный, терпеливый взгляд. В то время в театр пришел режиссер Л. Е. Хейфец. Я внимательно смотрела первую у нас его постановку — «Свадьбу Кречинского». Я хорошо знала актеров, занятых в этом спектакле, и мне почудилось в каждом из них что-то новое, свежее. Интересно поставлены некоторые сцены этой хорошо всем известной комедии.
Мне очень захотелось поработать именно с Хейфецем. Молодой, ищущий, может, он очистит меня от всяких годами наросших штампов, подготовит к тому новому периоду творческой жизни, к которому я через боль, но уже подготовила себя. Стала узнавать у товарищей, как именно он работает с актерами на репетициях. Говорят: прибегает иногда к «этюдам». Как это — к этюдам? Ведь это стыдно, этюды-то делали в школе. И вдруг я, уже полвека актриса, и при всех буду делать этюды. И страшно, и стыдно. Но очень, очень хотелось учиться. Пусть этюды.
Следующей постановкой Хейфеца было «Перед заходом солнца» Гауптмана. Одна пожилая роль. Маленькая — это не важно. Но вот смогут ли мне ее дать: дочери ведь восемнадцать лет. Инкен юна, ну, мне, если дадут эту роль, если думать о поздних родах, должно быть не больше пятидесяти — ну пятидесяти пяти от силы. Да, я выгляжу неплохо, и все ж таки... Так хотелось работать с Хейфецем, что я решила просить эту роль. На деле же оказалось, что дирекция и хотела, чтобы я играла, да роль слишком мала. Еще видели во мне героиню. Значит, все к лучшему.
Уважаемая Елена Николаевна!
Просмотрев вчера спектакль «Перед заходом солнца», не могу удержаться, чтобы не выразить свой восторг. Сыгранная Вами роль хоть и не очень большая, зато глубоко эмоциональна и драматична. Есть некоторые актеры, игра которых всегда меня убеждает в том, что только так надо играть, не иначе, и что это тот образ, который не вызывает сомнений своей сценической достоверностью и органичностью.
Конечно, актеров на свете много, и играют неплохо, но служить эталоном в сценическом мастерстве не могут. Вы мне очень нравитесь и в игре, и в беседах, и в выступлениях, которые я неоднократно слушал. Играйте и маленькие роли, не бойтесь их, ведь все равно останетесь такой же высокой Гоголевой.
Ольшевский
Интересен мой разговор с Хейфецем. Я ему прямо сказала, что очень бы хотела работать с ним и рада, что мне дали эту возможность. Уже вывесили приказ о распределении ролей, и я — фрау Петерc, но я боюсь его. Говорю: «Мне сказали, что вы этюдами занимаетесь, а я уже для этюдов-то старовата, мне смешно и стыдно перед всеми». А он мне в ответ: «Вот видите как. А я вас боюсь — старейшая актриса Малого театра, как мне держать себя с вами?» Мы расхохотались, а потом я уже серьезно сказала: «Да, старейшая, и СССР, и так далее, но я понимаю, что у меня много штампов и сама я их не замечаю. Вас я прошу посмотреть свежими глазами и, не стесняясь, очистить меня от этих штампов. Я верю, что вы можете это сделать, но боюсь ваших «этюдов», как-то мне не очень ловко их проделывать, вроде поздновато!» После паузы Леонид Ефимович вдруг тоже очень серьезно ответил: «Впервые вижу актрису, которая так откровенно говорит о своих недостатках режиссеру, — это удивительно». Потом мне рассказывали, что его просто поразило: Гоголева—и вдруг так говорит о себе. А во время работы, на репетициях, мне было и трудно, и радостно, и творческое удовлетворение я ощутила. Что-то новое, легкое и простое. И были этюды, но Хейфец предлагал их так незаметно, а я исполняла их так непосредственно, что Леонид Ефимович после говорил: «Что же вы боялись этюдов, вы прекрасно их схватываете».
Работа с Хейфецем принесла мне громадную пользу и творческую удачу, как говорили товарищи. Хороший режиссер Хейфец, и моя ему большая благодарность. Его работы в Малом театре, пусть иногда не во всем удавшиеся, всегда чем-то очень и очень интересны. А главное его великолепное качество — он умеет раскрывать актера. Думаю, что это качество — величайший дар режиссера.
В «Заговоре Фиеско» Шиллера он выявил много новых дарований. Некоторые были загублены предыдущим постановщиком, на некоторых вообще не обращали внимания, считая просто бездарными, а они заиграли, и как заиграли! Многие просто вновь родились как актеры. Я — поклонница Хейфеца. Хорошо, что он в Малом театре.
В 60-е годы мне пришлось играть и Мурзавецкую в «Волках и овцах». В Малом театре я много видела Мурзавецких. Видела и Яблочкину, и Турчанинову, и Массалитинову, и Пашенную. Со многими из них я играла Глафиру. И вот теперь сама я Мурзавецкая. Я вдумывалась в образ своей героини, читала о процессе баронессы Розен (в иночестве игуменьи Митрофании) — прототипе Мурзавецкой. Почему-то передо мной часто вставала усадьба и помещичий дом в «Темных аллеях» Бунина. Размышляя, я без конца задавала себе вопросы: почему она осталась «в девицах», почему не вышла замуж? Как и почему не сложилась личная жизнь Меропии Давыдовны? Промотал ли все их состояние пьяница брат, сын которого, молодой Мурзавецкий, тоже пьянчуга? При этом пьянчуга никчемный, выгнанный из полка. Физических недостатков у Меропии нет, не урод она и лицом, так в чем же дело? Островский не дает на эти вопросы ответа. Тогда, следуя своему методу работы, я восстанавливаю биографию Меропии и ее брата.
Оба они рано осиротели. Брат был моложе. Забыв себя, Меропия отдается заботам о брате. Ему вручены бразды правления, усадьба, капитал, имение. А он, рано овдовев и оставшись с сыном, проматывает все, что у них с сестрой было, и умирает. Она бесприданница. На ее руках племянник и расстроенное имение. Благодаря своему уму, а он у нее бесспорно есть, определяет племянника на военную службу. Но поправить как следует финансовые дела почти невозможно, да, наверно, и практической сметки у нее нет. Племянника выгоняют из полка. Он сидит на шее у Меропии, пьянствует и тащит из дому все, что попадается под руку. Имение разваливается. А в губернии помнят, как она вела себя, воспитывая брата, каким уважением пользовалась, какой приобрела авторитет. Но денег нет, все идет к финансовому краху, потому и решается она на любую авантюру, даже на подлог: надо сохранять видимость приличия и респектабельности. Потому и вечно черное платье — других-то нарядов нет! Потому и хватается она, как утопающий за соломинку, за возможность женить племянника на богатой, глупой, по ее мнению, и безвольной Купавиной. Если он женится, Меропия все ее имение и капитал в свои руки заберет. Но наступают новые времена, появляются новые люди — заводчики, предприниматели, дельцы. Старосветские помещики отступают. Вот Меропия и напоролась на Беркутова. Фамилия, как всегда у Островского, точно передает смысл: Беркутов — беркут.
Много в своей жизни претерпела Меропия, много перестрадала. Некогда было думать о себе, выезжать, искать подходящего жениха. Да и сами женихи знали о ее разоренном хозяйстве. Их не проведешь. А Меропия не заботилась о радости и счастье. Обладая твердым, властным характером, она думала только о том, как скрыть разорение и поддержать семейный престиж.
Так размышляла я, читая «Темные аллеи» Бунина. Все ветшает. Дом уже не тот. Остался лишь запущенный сад, чудесные аллеи. Наступил конец помещичьей эпохи.
Теперь «Волки и овцы» уже не идут на сцене Малого театра. Если бы мне опять пришлось играть Меропию, вероятно, надо было бы еще помечтать, еще продумать «предлагаемые обстоятельства», и, может быть, да и наверное даже, появились бы некоторые новые черточки, новые акценты в роли. Теперь бы я обязательно настояла, чтобы сцену с Беркутовым не сокращали, а восстановили всю целиком, чего не было в нашем спектакле.
Другая моя работа — два «Горя от ума». Вернее, две Хлёстовы. «Горе от ума» было поставлено Евгением Симоновым в Малом театре в 1963 году. Чацкого играл Подгорный, Софью — Корниенко и Юдина, Фамусова — Царев и Ильинский. Мне и Фадеевой была поручена роль Хлёстовой. Симонов ставил «Горе от ума» в романтическом стиле. Этому способствовали и декорации Б. И. Волкова, и костюмы, и, пожалуй, трактовка некоторых ролей. Это, скорее, был Петербург, а не московский дом Фамусова.
Так я и играла. Я читала, что Грибоедов писал свою Амфису Ниловну простоватой. Я же, следуя замыслу режиссера, представляла Хлёстову независимой, всех и все несколько презирающей, резкой (фамилия-то какая! Хлёстова, хлыст!). Такая и во дворце в Петербурге бывала, и не на последних ролях, могла и с императором говорить свободно. Она, безусловно, умна, хотя несколько самодурка. «Зловещая ли она старуха», как говорит Чацкий, — не знаю. В постановке Симонова, под влиянием слухов и общественной молвы на балу у Фамусова и непочтительного отношения Чацкого (не подошел к ручке да еще осмелился засмеяться, по ее мнению, ни к селу ни к городу), она раздражена, возмущена его дерзостью. Но зловещей старухи в моем исполнении не было. Весь облик скорее напоминал петербургскую гранд-даму, чем московскую старуху, воссозданную по рисункам Боклевского. Не думаю, что образ получился правильным. Во всяком случае, в другой постановке он оказался бы невозможен. Вероятно, правильнее было бы играть, как В. Н. Пашенная и особенно В. О. Массалитинова. Увы! Эти краски не моей палитры. И если бы я и старалась подражать этим великолепным актрисам, у меня бы ничего не получилось, а тем более на общем фоне постановки Евгения Симонова.
Но вот в 1975 году Малый театр опять вернулся к «Горю от ума». Ставил спектакль молодой режиссер. В. Н. Иванов под общим руководством М. И. Царева. Состав несколько изменился, я бы сказала, помолодел, хотя роль Фамусова по-прежнему исполнял Царев, а Софьи — Корниенко. Хлёстову снова дали мне. Художник Е. И. Куманьков создал весьма достоверный московский дом Фамусова, да и сам Царев—Фамусов был блестящим московским барином. Виталий Соломин играл молодого, но несколько спорного Чацкого — резкого, подчас вздорного. Не все принимали такой образ. Пришлось и мне пересматривать мою Хлёстову. Теперь я не кичилась своим богатством, своими бриллиантами, как в прежней постановке. Костюм был более скромным, но я играла московскую крепостницу, властную, иногда даже и веселую, готовую пожурить и метко высказаться. С удовольствием хвасталась своей арапкой — вот, ни у кого такой нет, а у нас с сестрой это чудище есть. Никто не смеет так отрекомендовать Загорецкого, а ей можно, ей все дозволено. Выходка Чацкого, как только она узнала, что это тот мальчишка, которого она «за уши дирала», особенно ее не затронула,—ну что на мальчишку обращать внимание! А вот дурак Скалозуб ее взорвал. Лезет со своими «выпушками, петлицами», вроде ее поправляет, она бы даже уехала сейчас же — так разгневалась. Да вовремя тучу разогнал Молчалин. Вот милый, услужливый человек. Сумасшествие Чацкого ее поразило. Она даже поверить в это не может. Знала его мальчишкой и шалунишкой и только что видела здесь, правда, он как будто не к месту рассмеялся, но зла на него она пока не имеет. Недоумевает, жаль его. В общем он неплохой был малый, и вот — на тебе. В монологе Чацкого есть кое-что, что ее, женщину неглупую, даже заставляет задуматься. Но вот Чацкого занесло, Хлёстовой почудилась дерзость, и она вконец разгневалась и встала из-за стола. Последний акт — разъезд гостей. Хлёстова попросту устала, и ей вое безразлично. Хочется скорей домой в постель, потому почти равнодушно говорит она о Чацком.
Не считаю, что мне удалась эта роль, я чего-то не нашла в ней, не «сидела» в роли, как мы иногда говорим. Режиссура мне не помогала, а сама я, играя редко, никак не могла уловить ту ниточку, которая бы связала мое исполнение с нафантазированным образом. Мешал старый образ Хлёстовой, подсказанный Симоновым. Тянуло на гранд-даму, а не на старуху. Переход на роли старух вообще очень труден, хотя я уже и совершила его, играя «Пучину». Но о «Пучине» особый разговор. Да, в сущности, какая роль дается легко? Мучителен, ох как мучителен труд актера! Если и заснешь, пробегая мысленно отдельные сцены, то, проснувшись среди ночи, опять и опять до рассвета перебираешь, ищешь, думаешь, иногда и плачешь, что не можешь уловить образ.
Дата публикации: 01.08.2005

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
СУДЬБА АКТРИСЫ
Актерская профессия серьезно отличается от других творческих профессий. Прежде всего актер — член коллектива, и его личные творческие планы всегда зависят от творческих планов всего коллектива. Ты можешь сколько угодно желать сыграть ту или иную роль, но если театр ставить эту пьесу не будет, ты эту роль никогда не сыграешь.
У каждого актера или актрисы есть роли, о которых они мечтают всю жизнь и, увы, так и не получают возможности их воплотить. Были и у меня мечты-роли, так и не сыгранные. Я уже рассказывала, что, обучаясь на втором курсе Филармонии, пыталась сыграть роль Марии Стюарт. Но из этого ничего не получилось. Так Мария Стюарт и осталась моей заветной мечтой.
Вторая несбывшаяся мечта — Настасья Филипповна в «Идиоте». Я играла ее много и с успехом в поездках труппы Малого театра, организованных С. А. Головиным. Играла в таких больших городах, как Харьков, Ростов, Баку, Тифлис, Одесса. Играла в Москве со смешанным составом в филиале Большого театра. Спектакль шел хорошо, выступали в нем главным образом актеры Малого театра. Но ведь это была моя почти самостоятельная работа, а мне так хотелось сделать Настасью Филипповну с настоящим, строгим режиссером. И я была просто на седьмом небе от счастья, когда услыхала, что после «Варваров» И. Я. Судаков хочет поставить «Идиота» и дать мне роль Настасьи Филипповны. Увы! «Идиот» в Малом театре так и не пошел.
Ну а третья мечта, уже последних лет, — сыграть бабушку Лермонтова, Елизавету Алексеевну Арсеньеву.
Я уже писала, что очень люблю Лермонтова, много читала его с эстрады, много читала о нем. Знала и жизнь и безграничную любовь к нему воспитавшей его бабушки. Но надо было писать об этом пьесу, найти драматурга и режиссера. Прежде всего я обратилась к Ираклию Луарсабовичу Андроникову. Кто, как не он, знал все о Лермонтове. Слушал и меня, когда я давала вечер поэзии Лермонтова. Смею думать, что и лично ко мне он неплохо относится.
Дорогая Елена Николаевна!
Мы не поздравили Вас в юбилейные дни театра, не отметили Вашу награду, не были на Вашем творческом вечере, но думаем о Вас постоянно. Встречи в Доме актера из года в год раскрыли нам чудесные черты Вашего характера. Вы не только высокоталантливы и наделены прекрасной и, можно сказать, торжественной красотой — Вы необыкновенно добрый и скромный человек. И это сочетание так прекрасно, что грех не пожелать вам всего самого лучшего в придачу к тому, чем одарили Вас Ваш талант и Ваша прекрасная жизнь. Будьте здоровы, милая Елена Николаевна!
Ваши Андрониковы 1974.XII. 15.
Андроников очень сочувственно отнесся к моему предложению, тут же рассказал много новых подробностей об Арсеньевой, но добавил: «Консультировать, помогать буду с наслаждением, Елена Николаевна, но я никогда не писал пьес и не могу это сделать». Я просила его подсказать мне, кто из современных драматургов или писателей мог бы взяться за такую тему. Но, перебрав всех современных писателей, мы не нашли никого. «Да и вряд ли найдем, Елена Николаевна, — сказал мне на прощание Андроников. — Я никого не вижу. Тема особенная. Лермонтов».
Как-то при встрече с Г. М. Марковым я поделилась с ним своей мечтой и попросила посоветовать, к кому обратиться с предложением написать такую пьесу. Я даже набросала в мыслях подобие сценарного плана, где мне как бабушке Лермонтова нужны были лишь три картины: детство Миши — бабушка властная помещица; арест Лермонтова — бабушка в Петербурге у Бенкендорфа; и бабушка над могилой или у гроба—в общем, смерть Лермонтова. Георгий Мокеевич посоветовал обратиться к Г. А. Гулиа, который в журнале «Москва» напечатал интересный очерк «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова». Разумеется, я сейчас же отыскала этот очерк, буквально проглотила его и отправилась к Гулиа. Гулиа со свойственным ему темпераментом ухватился за мою идею. Он был, безусловно, в материале, но честно мне сказал, что без помощи режиссера сделать пьесу не сумеет. Режиссер, которого я боготворила и который, казалось мне, должен обязательно увлечься темой, был Г. А. Товстоногов. Воспользовавшись его приездом в Москву, я вместе с ним поехала к Гулиа. Товстоногов высказал необыкновенно интересные мысли. Какой это талантливый человек!
Он блестяще нафантазировал пьесу. Как замечательно все это виделось! Но Георгий Александрович совершенно определенно заявил: пьеса не о Лермонтове, а о бабушке Лермонтова. «Не верю и не могу представить самого Лермонтова на сцене», — говорил Товстоногов. И это ему принадлежат слова: «Как писатели и поэты писали — мы знаем, читаем их с восторгом, но как они говорили в жизни — не знаем и вряд ли кто-нибудь сумеет это верно отобразить». Вспоминали спектакль «Лермонтов» — неудачную постановку МХАТ. Говорили о других неудавшихся попытках вывести на сцену великих поэтов. И опять пришли к выводу: единственная возможность— написать пьесу о бабушке Лермонтова. Но, вероятно, у Гулиа были другие заботы. Дело у него не двигалось, несмотря на мои многократные звонки, а потом я и звонить перестала.
Многоуважаемая Елена Николаевна! ...Недавно, из телевизионной передачи «Мастера искусств», мне было очень приятно и интересно узнать о Вашем желании сыграть роль Елизаветы Алексеевны, так много сделавшей для воспитания своего внука.
Это было бы замечательно!
Посылаю Вам, в знак признательности, «родословную Лермонтовых», составленную по архивным данным, литературным источникам и моим личным контактам и переписке с представителями этого рода, проживающими в СССР.
С уважением к Вам С. А. Панфилова.
И еще была попытка. О моей мечте и приближающемся 60-летии моей работы в Малом театре знал Евгений Иванович Куманьков. Как-то в его мастерской собралась вся его семья, приехала и я. С наслаждением смотрела я картины Евгения Ивановича: переулочки, особнячки старой Москвы, выполненные с огромным мастерством и чуткостью. Так ощущалась любовь Евгения Ивановича к этому простому, чисто русскому уголку, какому-нибудь незатейливому домику с пошатнувшимся крылечком, с садиком, выглядывающим из дырявого забора. Пересмотрев уйму этюдов, набросков, готовых к выставке картин, заговорили и о моем приближающемся юбилее. А что играть? Опять подумали о драматурге или писателе. Евгений Иванович был хорошо знаком с Ю. М. Нагибиным. И вот на одном из спектаклей «Господ Головлевых» состоялось мое знакомство с Нагибиным. Его интересовали и идея и тот набросок, который сделал Товстоногов. Нагибин знал и ценил Товстоногова, и, может быть, могло бы что-то получиться. Но, очевидно, я ни как актриса, ни как человек не вдохновляла Нагибина, и для меня он этой пьесы не написал.
Но актерская профессия имеет и другие сложности. Понятие хорошей роли, роли, которую играешь с удовольствием и творческим удовлетворением, связано обычно и с партнером, к которому чувствуешь притяжение, с которым есть творческая близость. Прощание с хорошей ролью, если к тому же она одна из любимых, всегда трудно и больно. Иногда это прощание начинается, когда меняется многолетний партнер. Так было у меня с «Уриэлем Акостой». Я боготворила Остужева, и то, что его роль стал играть другой актер, восприняла как удар. Я больше не испытывала прежнего трепета, вдохновения, играя Юдифь с новым Уриэлем. Да и спектакль уже потерял интерес зрителя и скоро сошел со сцены. Окончательное прощание с Юдифью прошло почти безболезненно, так как его тяжесть я пережила с уходом из спектакля Остужева. Труднее было расставание с леди Макбет. Непонятно, почему сняли с репертуара этот спектакль, всегда делавший полные сборы. Однако это все были роли героинь, которых я еще продолжала играть, и отказ от этого амплуа казался мне далеким и нескорым. Но вот ушел из жизни Зубов, и я простилась с Надеждой в «Варварах», ибо кто же мог заменить Зубова в Цыганове! Я понимала, что без Зубова нельзя играть «Варваров».
А бывают прощания, связанные с иными суровыми вещами — возрастом, например. Актер—художник, образы которого связаны с его внешностью. И постепенное старение ведет к переходу на другие роли, на другое амплуа. Пришлось это и мне пережить.
В 60-е годы в театре шел спектакль, поставленный И. В. Ильинским и В. И. Цыганковым, — «Ярмарка тщеславия». Исполнительницы роли мисс Кроули А. А. Яблочкина и Е. Д. Турчанинова были уже в преклонных годах, требовалась смена. И эту роль предложили мне. Я, конечно, согласилась. После нескольких репетиций вышла на сцену в костюме, с седой накладкой, но мало что изменив в своем лице. Я вообще не люблю грима. Прошла репетиция. Ильинский зашел в мою гримуборную. «Не вяжется то, что вы делаете на сцене, с вашим лицом, с вашей внешностью, Елена Николаевна. Давайте поищем грим». А образ-то был характерный, острый, сатирический. Пришел наш гример, и оба режиссера стали что-то делать с моим лицом. Гример наклеил страшный нос, провел какие-то штрихи. Надели полуседую накладку, нацепили чепец, и я увидела себя в зеркале. Это был ужасный момент. Очень больно стало где-то в груди, но... грим одобрен; все довольны, и я осталась одна с этой мерзкой, длинноносой образиной, смотрящей на меня из зеркала... Я поняла, как это ни горько было: прощайте, мои героини, начинается, очевидно, новый этап в моей творческой жизни — роли старух. Даже не пожилых героинь, где еще можно щегольнуть остатками внешности. Нет уже и мысли о Кручининой или о ролях «мам» — надо смириться и думать о «бабушках». Больно, грустно, но, как говорится, «закон божий». Я почти не заметила перехода от молодых героинь—Софьи в «Горе от ума», Лидии в «Бешеных деньгах» — к таким ролям, как Горелова в «За тех, кто в море!» и позднее Кручинина в «Без вины виноватых». Все это еще было закономерно и легко. А вот с «Ярмарки тщеславия» поняла, что кончилась и молодость и зрелость. Нужны другие краски, нужен иной подход к ролям. Дело не во внешнем облике. Должно постареть, поуспокоиться то, что внутри. И как-то глубже, мудрее должны смотреть глаза.
Я знала и отдавала себе ясный отчет, что от всех моих героинь, а в прошлом «роковых» женщин, от гордого и властного взгляда, поворота головы, от всех бурь внутри у меня наросли известные штампы. Появилась внешняя, поверхностная игра. Чтобы преодолеть это, мне нужен был друг, товарищ, учитель, пристальный, терпеливый взгляд. В то время в театр пришел режиссер Л. Е. Хейфец. Я внимательно смотрела первую у нас его постановку — «Свадьбу Кречинского». Я хорошо знала актеров, занятых в этом спектакле, и мне почудилось в каждом из них что-то новое, свежее. Интересно поставлены некоторые сцены этой хорошо всем известной комедии.
Мне очень захотелось поработать именно с Хейфецем. Молодой, ищущий, может, он очистит меня от всяких годами наросших штампов, подготовит к тому новому периоду творческой жизни, к которому я через боль, но уже подготовила себя. Стала узнавать у товарищей, как именно он работает с актерами на репетициях. Говорят: прибегает иногда к «этюдам». Как это — к этюдам? Ведь это стыдно, этюды-то делали в школе. И вдруг я, уже полвека актриса, и при всех буду делать этюды. И страшно, и стыдно. Но очень, очень хотелось учиться. Пусть этюды.
Следующей постановкой Хейфеца было «Перед заходом солнца» Гауптмана. Одна пожилая роль. Маленькая — это не важно. Но вот смогут ли мне ее дать: дочери ведь восемнадцать лет. Инкен юна, ну, мне, если дадут эту роль, если думать о поздних родах, должно быть не больше пятидесяти — ну пятидесяти пяти от силы. Да, я выгляжу неплохо, и все ж таки... Так хотелось работать с Хейфецем, что я решила просить эту роль. На деле же оказалось, что дирекция и хотела, чтобы я играла, да роль слишком мала. Еще видели во мне героиню. Значит, все к лучшему.
Уважаемая Елена Николаевна!
Просмотрев вчера спектакль «Перед заходом солнца», не могу удержаться, чтобы не выразить свой восторг. Сыгранная Вами роль хоть и не очень большая, зато глубоко эмоциональна и драматична. Есть некоторые актеры, игра которых всегда меня убеждает в том, что только так надо играть, не иначе, и что это тот образ, который не вызывает сомнений своей сценической достоверностью и органичностью.
Конечно, актеров на свете много, и играют неплохо, но служить эталоном в сценическом мастерстве не могут. Вы мне очень нравитесь и в игре, и в беседах, и в выступлениях, которые я неоднократно слушал. Играйте и маленькие роли, не бойтесь их, ведь все равно останетесь такой же высокой Гоголевой.
Ольшевский
Интересен мой разговор с Хейфецем. Я ему прямо сказала, что очень бы хотела работать с ним и рада, что мне дали эту возможность. Уже вывесили приказ о распределении ролей, и я — фрау Петерc, но я боюсь его. Говорю: «Мне сказали, что вы этюдами занимаетесь, а я уже для этюдов-то старовата, мне смешно и стыдно перед всеми». А он мне в ответ: «Вот видите как. А я вас боюсь — старейшая актриса Малого театра, как мне держать себя с вами?» Мы расхохотались, а потом я уже серьезно сказала: «Да, старейшая, и СССР, и так далее, но я понимаю, что у меня много штампов и сама я их не замечаю. Вас я прошу посмотреть свежими глазами и, не стесняясь, очистить меня от этих штампов. Я верю, что вы можете это сделать, но боюсь ваших «этюдов», как-то мне не очень ловко их проделывать, вроде поздновато!» После паузы Леонид Ефимович вдруг тоже очень серьезно ответил: «Впервые вижу актрису, которая так откровенно говорит о своих недостатках режиссеру, — это удивительно». Потом мне рассказывали, что его просто поразило: Гоголева—и вдруг так говорит о себе. А во время работы, на репетициях, мне было и трудно, и радостно, и творческое удовлетворение я ощутила. Что-то новое, легкое и простое. И были этюды, но Хейфец предлагал их так незаметно, а я исполняла их так непосредственно, что Леонид Ефимович после говорил: «Что же вы боялись этюдов, вы прекрасно их схватываете».
Работа с Хейфецем принесла мне громадную пользу и творческую удачу, как говорили товарищи. Хороший режиссер Хейфец, и моя ему большая благодарность. Его работы в Малом театре, пусть иногда не во всем удавшиеся, всегда чем-то очень и очень интересны. А главное его великолепное качество — он умеет раскрывать актера. Думаю, что это качество — величайший дар режиссера.
В «Заговоре Фиеско» Шиллера он выявил много новых дарований. Некоторые были загублены предыдущим постановщиком, на некоторых вообще не обращали внимания, считая просто бездарными, а они заиграли, и как заиграли! Многие просто вновь родились как актеры. Я — поклонница Хейфеца. Хорошо, что он в Малом театре.
В 60-е годы мне пришлось играть и Мурзавецкую в «Волках и овцах». В Малом театре я много видела Мурзавецких. Видела и Яблочкину, и Турчанинову, и Массалитинову, и Пашенную. Со многими из них я играла Глафиру. И вот теперь сама я Мурзавецкая. Я вдумывалась в образ своей героини, читала о процессе баронессы Розен (в иночестве игуменьи Митрофании) — прототипе Мурзавецкой. Почему-то передо мной часто вставала усадьба и помещичий дом в «Темных аллеях» Бунина. Размышляя, я без конца задавала себе вопросы: почему она осталась «в девицах», почему не вышла замуж? Как и почему не сложилась личная жизнь Меропии Давыдовны? Промотал ли все их состояние пьяница брат, сын которого, молодой Мурзавецкий, тоже пьянчуга? При этом пьянчуга никчемный, выгнанный из полка. Физических недостатков у Меропии нет, не урод она и лицом, так в чем же дело? Островский не дает на эти вопросы ответа. Тогда, следуя своему методу работы, я восстанавливаю биографию Меропии и ее брата.
Оба они рано осиротели. Брат был моложе. Забыв себя, Меропия отдается заботам о брате. Ему вручены бразды правления, усадьба, капитал, имение. А он, рано овдовев и оставшись с сыном, проматывает все, что у них с сестрой было, и умирает. Она бесприданница. На ее руках племянник и расстроенное имение. Благодаря своему уму, а он у нее бесспорно есть, определяет племянника на военную службу. Но поправить как следует финансовые дела почти невозможно, да, наверно, и практической сметки у нее нет. Племянника выгоняют из полка. Он сидит на шее у Меропии, пьянствует и тащит из дому все, что попадается под руку. Имение разваливается. А в губернии помнят, как она вела себя, воспитывая брата, каким уважением пользовалась, какой приобрела авторитет. Но денег нет, все идет к финансовому краху, потому и решается она на любую авантюру, даже на подлог: надо сохранять видимость приличия и респектабельности. Потому и вечно черное платье — других-то нарядов нет! Потому и хватается она, как утопающий за соломинку, за возможность женить племянника на богатой, глупой, по ее мнению, и безвольной Купавиной. Если он женится, Меропия все ее имение и капитал в свои руки заберет. Но наступают новые времена, появляются новые люди — заводчики, предприниматели, дельцы. Старосветские помещики отступают. Вот Меропия и напоролась на Беркутова. Фамилия, как всегда у Островского, точно передает смысл: Беркутов — беркут.
Много в своей жизни претерпела Меропия, много перестрадала. Некогда было думать о себе, выезжать, искать подходящего жениха. Да и сами женихи знали о ее разоренном хозяйстве. Их не проведешь. А Меропия не заботилась о радости и счастье. Обладая твердым, властным характером, она думала только о том, как скрыть разорение и поддержать семейный престиж.
Так размышляла я, читая «Темные аллеи» Бунина. Все ветшает. Дом уже не тот. Остался лишь запущенный сад, чудесные аллеи. Наступил конец помещичьей эпохи.
Теперь «Волки и овцы» уже не идут на сцене Малого театра. Если бы мне опять пришлось играть Меропию, вероятно, надо было бы еще помечтать, еще продумать «предлагаемые обстоятельства», и, может быть, да и наверное даже, появились бы некоторые новые черточки, новые акценты в роли. Теперь бы я обязательно настояла, чтобы сцену с Беркутовым не сокращали, а восстановили всю целиком, чего не было в нашем спектакле.
Другая моя работа — два «Горя от ума». Вернее, две Хлёстовы. «Горе от ума» было поставлено Евгением Симоновым в Малом театре в 1963 году. Чацкого играл Подгорный, Софью — Корниенко и Юдина, Фамусова — Царев и Ильинский. Мне и Фадеевой была поручена роль Хлёстовой. Симонов ставил «Горе от ума» в романтическом стиле. Этому способствовали и декорации Б. И. Волкова, и костюмы, и, пожалуй, трактовка некоторых ролей. Это, скорее, был Петербург, а не московский дом Фамусова.
Так я и играла. Я читала, что Грибоедов писал свою Амфису Ниловну простоватой. Я же, следуя замыслу режиссера, представляла Хлёстову независимой, всех и все несколько презирающей, резкой (фамилия-то какая! Хлёстова, хлыст!). Такая и во дворце в Петербурге бывала, и не на последних ролях, могла и с императором говорить свободно. Она, безусловно, умна, хотя несколько самодурка. «Зловещая ли она старуха», как говорит Чацкий, — не знаю. В постановке Симонова, под влиянием слухов и общественной молвы на балу у Фамусова и непочтительного отношения Чацкого (не подошел к ручке да еще осмелился засмеяться, по ее мнению, ни к селу ни к городу), она раздражена, возмущена его дерзостью. Но зловещей старухи в моем исполнении не было. Весь облик скорее напоминал петербургскую гранд-даму, чем московскую старуху, воссозданную по рисункам Боклевского. Не думаю, что образ получился правильным. Во всяком случае, в другой постановке он оказался бы невозможен. Вероятно, правильнее было бы играть, как В. Н. Пашенная и особенно В. О. Массалитинова. Увы! Эти краски не моей палитры. И если бы я и старалась подражать этим великолепным актрисам, у меня бы ничего не получилось, а тем более на общем фоне постановки Евгения Симонова.
Но вот в 1975 году Малый театр опять вернулся к «Горю от ума». Ставил спектакль молодой режиссер. В. Н. Иванов под общим руководством М. И. Царева. Состав несколько изменился, я бы сказала, помолодел, хотя роль Фамусова по-прежнему исполнял Царев, а Софьи — Корниенко. Хлёстову снова дали мне. Художник Е. И. Куманьков создал весьма достоверный московский дом Фамусова, да и сам Царев—Фамусов был блестящим московским барином. Виталий Соломин играл молодого, но несколько спорного Чацкого — резкого, подчас вздорного. Не все принимали такой образ. Пришлось и мне пересматривать мою Хлёстову. Теперь я не кичилась своим богатством, своими бриллиантами, как в прежней постановке. Костюм был более скромным, но я играла московскую крепостницу, властную, иногда даже и веселую, готовую пожурить и метко высказаться. С удовольствием хвасталась своей арапкой — вот, ни у кого такой нет, а у нас с сестрой это чудище есть. Никто не смеет так отрекомендовать Загорецкого, а ей можно, ей все дозволено. Выходка Чацкого, как только она узнала, что это тот мальчишка, которого она «за уши дирала», особенно ее не затронула,—ну что на мальчишку обращать внимание! А вот дурак Скалозуб ее взорвал. Лезет со своими «выпушками, петлицами», вроде ее поправляет, она бы даже уехала сейчас же — так разгневалась. Да вовремя тучу разогнал Молчалин. Вот милый, услужливый человек. Сумасшествие Чацкого ее поразило. Она даже поверить в это не может. Знала его мальчишкой и шалунишкой и только что видела здесь, правда, он как будто не к месту рассмеялся, но зла на него она пока не имеет. Недоумевает, жаль его. В общем он неплохой был малый, и вот — на тебе. В монологе Чацкого есть кое-что, что ее, женщину неглупую, даже заставляет задуматься. Но вот Чацкого занесло, Хлёстовой почудилась дерзость, и она вконец разгневалась и встала из-за стола. Последний акт — разъезд гостей. Хлёстова попросту устала, и ей вое безразлично. Хочется скорей домой в постель, потому почти равнодушно говорит она о Чацком.
Не считаю, что мне удалась эта роль, я чего-то не нашла в ней, не «сидела» в роли, как мы иногда говорим. Режиссура мне не помогала, а сама я, играя редко, никак не могла уловить ту ниточку, которая бы связала мое исполнение с нафантазированным образом. Мешал старый образ Хлёстовой, подсказанный Симоновым. Тянуло на гранд-даму, а не на старуху. Переход на роли старух вообще очень труден, хотя я уже и совершила его, играя «Пучину». Но о «Пучине» особый разговор. Да, в сущности, какая роль дается легко? Мучителен, ох как мучителен труд актера! Если и заснешь, пробегая мысленно отдельные сцены, то, проснувшись среди ночи, опять и опять до рассвета перебираешь, ищешь, думаешь, иногда и плачешь, что не можешь уловить образ.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
СУДЬБА АКТРИСЫ
Актерская профессия серьезно отличается от других творческих профессий. Прежде всего актер — член коллектива, и его личные творческие планы всегда зависят от творческих планов всего коллектива. Ты можешь сколько угодно желать сыграть ту или иную роль, но если театр ставить эту пьесу не будет, ты эту роль никогда не сыграешь.
У каждого актера или актрисы есть роли, о которых они мечтают всю жизнь и, увы, так и не получают возможности их воплотить. Были и у меня мечты-роли, так и не сыгранные. Я уже рассказывала, что, обучаясь на втором курсе Филармонии, пыталась сыграть роль Марии Стюарт. Но из этого ничего не получилось. Так Мария Стюарт и осталась моей заветной мечтой.
Вторая несбывшаяся мечта — Настасья Филипповна в «Идиоте». Я играла ее много и с успехом в поездках труппы Малого театра, организованных С. А. Головиным. Играла в таких больших городах, как Харьков, Ростов, Баку, Тифлис, Одесса. Играла в Москве со смешанным составом в филиале Большого театра. Спектакль шел хорошо, выступали в нем главным образом актеры Малого театра. Но ведь это была моя почти самостоятельная работа, а мне так хотелось сделать Настасью Филипповну с настоящим, строгим режиссером. И я была просто на седьмом небе от счастья, когда услыхала, что после «Варваров» И. Я. Судаков хочет поставить «Идиота» и дать мне роль Настасьи Филипповны. Увы! «Идиот» в Малом театре так и не пошел.
Ну а третья мечта, уже последних лет, — сыграть бабушку Лермонтова, Елизавету Алексеевну Арсеньеву.
Я уже писала, что очень люблю Лермонтова, много читала его с эстрады, много читала о нем. Знала и жизнь и безграничную любовь к нему воспитавшей его бабушки. Но надо было писать об этом пьесу, найти драматурга и режиссера. Прежде всего я обратилась к Ираклию Луарсабовичу Андроникову. Кто, как не он, знал все о Лермонтове. Слушал и меня, когда я давала вечер поэзии Лермонтова. Смею думать, что и лично ко мне он неплохо относится.
Дорогая Елена Николаевна!
Мы не поздравили Вас в юбилейные дни театра, не отметили Вашу награду, не были на Вашем творческом вечере, но думаем о Вас постоянно. Встречи в Доме актера из года в год раскрыли нам чудесные черты Вашего характера. Вы не только высокоталантливы и наделены прекрасной и, можно сказать, торжественной красотой — Вы необыкновенно добрый и скромный человек. И это сочетание так прекрасно, что грех не пожелать вам всего самого лучшего в придачу к тому, чем одарили Вас Ваш талант и Ваша прекрасная жизнь. Будьте здоровы, милая Елена Николаевна!
Ваши Андрониковы 1974.XII. 15.
Андроников очень сочувственно отнесся к моему предложению, тут же рассказал много новых подробностей об Арсеньевой, но добавил: «Консультировать, помогать буду с наслаждением, Елена Николаевна, но я никогда не писал пьес и не могу это сделать». Я просила его подсказать мне, кто из современных драматургов или писателей мог бы взяться за такую тему. Но, перебрав всех современных писателей, мы не нашли никого. «Да и вряд ли найдем, Елена Николаевна, — сказал мне на прощание Андроников. — Я никого не вижу. Тема особенная. Лермонтов».
Как-то при встрече с Г. М. Марковым я поделилась с ним своей мечтой и попросила посоветовать, к кому обратиться с предложением написать такую пьесу. Я даже набросала в мыслях подобие сценарного плана, где мне как бабушке Лермонтова нужны были лишь три картины: детство Миши — бабушка властная помещица; арест Лермонтова — бабушка в Петербурге у Бенкендорфа; и бабушка над могилой или у гроба—в общем, смерть Лермонтова. Георгий Мокеевич посоветовал обратиться к Г. А. Гулиа, который в журнале «Москва» напечатал интересный очерк «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова». Разумеется, я сейчас же отыскала этот очерк, буквально проглотила его и отправилась к Гулиа. Гулиа со свойственным ему темпераментом ухватился за мою идею. Он был, безусловно, в материале, но честно мне сказал, что без помощи режиссера сделать пьесу не сумеет. Режиссер, которого я боготворила и который, казалось мне, должен обязательно увлечься темой, был Г. А. Товстоногов. Воспользовавшись его приездом в Москву, я вместе с ним поехала к Гулиа. Товстоногов высказал необыкновенно интересные мысли. Какой это талантливый человек!
Он блестяще нафантазировал пьесу. Как замечательно все это виделось! Но Георгий Александрович совершенно определенно заявил: пьеса не о Лермонтове, а о бабушке Лермонтова. «Не верю и не могу представить самого Лермонтова на сцене», — говорил Товстоногов. И это ему принадлежат слова: «Как писатели и поэты писали — мы знаем, читаем их с восторгом, но как они говорили в жизни — не знаем и вряд ли кто-нибудь сумеет это верно отобразить». Вспоминали спектакль «Лермонтов» — неудачную постановку МХАТ. Говорили о других неудавшихся попытках вывести на сцену великих поэтов. И опять пришли к выводу: единственная возможность— написать пьесу о бабушке Лермонтова. Но, вероятно, у Гулиа были другие заботы. Дело у него не двигалось, несмотря на мои многократные звонки, а потом я и звонить перестала.
Многоуважаемая Елена Николаевна! ...Недавно, из телевизионной передачи «Мастера искусств», мне было очень приятно и интересно узнать о Вашем желании сыграть роль Елизаветы Алексеевны, так много сделавшей для воспитания своего внука.
Это было бы замечательно!
Посылаю Вам, в знак признательности, «родословную Лермонтовых», составленную по архивным данным, литературным источникам и моим личным контактам и переписке с представителями этого рода, проживающими в СССР.
С уважением к Вам С. А. Панфилова.
И еще была попытка. О моей мечте и приближающемся 60-летии моей работы в Малом театре знал Евгений Иванович Куманьков. Как-то в его мастерской собралась вся его семья, приехала и я. С наслаждением смотрела я картины Евгения Ивановича: переулочки, особнячки старой Москвы, выполненные с огромным мастерством и чуткостью. Так ощущалась любовь Евгения Ивановича к этому простому, чисто русскому уголку, какому-нибудь незатейливому домику с пошатнувшимся крылечком, с садиком, выглядывающим из дырявого забора. Пересмотрев уйму этюдов, набросков, готовых к выставке картин, заговорили и о моем приближающемся юбилее. А что играть? Опять подумали о драматурге или писателе. Евгений Иванович был хорошо знаком с Ю. М. Нагибиным. И вот на одном из спектаклей «Господ Головлевых» состоялось мое знакомство с Нагибиным. Его интересовали и идея и тот набросок, который сделал Товстоногов. Нагибин знал и ценил Товстоногова, и, может быть, могло бы что-то получиться. Но, очевидно, я ни как актриса, ни как человек не вдохновляла Нагибина, и для меня он этой пьесы не написал.
Но актерская профессия имеет и другие сложности. Понятие хорошей роли, роли, которую играешь с удовольствием и творческим удовлетворением, связано обычно и с партнером, к которому чувствуешь притяжение, с которым есть творческая близость. Прощание с хорошей ролью, если к тому же она одна из любимых, всегда трудно и больно. Иногда это прощание начинается, когда меняется многолетний партнер. Так было у меня с «Уриэлем Акостой». Я боготворила Остужева, и то, что его роль стал играть другой актер, восприняла как удар. Я больше не испытывала прежнего трепета, вдохновения, играя Юдифь с новым Уриэлем. Да и спектакль уже потерял интерес зрителя и скоро сошел со сцены. Окончательное прощание с Юдифью прошло почти безболезненно, так как его тяжесть я пережила с уходом из спектакля Остужева. Труднее было расставание с леди Макбет. Непонятно, почему сняли с репертуара этот спектакль, всегда делавший полные сборы. Однако это все были роли героинь, которых я еще продолжала играть, и отказ от этого амплуа казался мне далеким и нескорым. Но вот ушел из жизни Зубов, и я простилась с Надеждой в «Варварах», ибо кто же мог заменить Зубова в Цыганове! Я понимала, что без Зубова нельзя играть «Варваров».
А бывают прощания, связанные с иными суровыми вещами — возрастом, например. Актер—художник, образы которого связаны с его внешностью. И постепенное старение ведет к переходу на другие роли, на другое амплуа. Пришлось это и мне пережить.
В 60-е годы в театре шел спектакль, поставленный И. В. Ильинским и В. И. Цыганковым, — «Ярмарка тщеславия». Исполнительницы роли мисс Кроули А. А. Яблочкина и Е. Д. Турчанинова были уже в преклонных годах, требовалась смена. И эту роль предложили мне. Я, конечно, согласилась. После нескольких репетиций вышла на сцену в костюме, с седой накладкой, но мало что изменив в своем лице. Я вообще не люблю грима. Прошла репетиция. Ильинский зашел в мою гримуборную. «Не вяжется то, что вы делаете на сцене, с вашим лицом, с вашей внешностью, Елена Николаевна. Давайте поищем грим». А образ-то был характерный, острый, сатирический. Пришел наш гример, и оба режиссера стали что-то делать с моим лицом. Гример наклеил страшный нос, провел какие-то штрихи. Надели полуседую накладку, нацепили чепец, и я увидела себя в зеркале. Это был ужасный момент. Очень больно стало где-то в груди, но... грим одобрен; все довольны, и я осталась одна с этой мерзкой, длинноносой образиной, смотрящей на меня из зеркала... Я поняла, как это ни горько было: прощайте, мои героини, начинается, очевидно, новый этап в моей творческой жизни — роли старух. Даже не пожилых героинь, где еще можно щегольнуть остатками внешности. Нет уже и мысли о Кручининой или о ролях «мам» — надо смириться и думать о «бабушках». Больно, грустно, но, как говорится, «закон божий». Я почти не заметила перехода от молодых героинь—Софьи в «Горе от ума», Лидии в «Бешеных деньгах» — к таким ролям, как Горелова в «За тех, кто в море!» и позднее Кручинина в «Без вины виноватых». Все это еще было закономерно и легко. А вот с «Ярмарки тщеславия» поняла, что кончилась и молодость и зрелость. Нужны другие краски, нужен иной подход к ролям. Дело не во внешнем облике. Должно постареть, поуспокоиться то, что внутри. И как-то глубже, мудрее должны смотреть глаза.
Я знала и отдавала себе ясный отчет, что от всех моих героинь, а в прошлом «роковых» женщин, от гордого и властного взгляда, поворота головы, от всех бурь внутри у меня наросли известные штампы. Появилась внешняя, поверхностная игра. Чтобы преодолеть это, мне нужен был друг, товарищ, учитель, пристальный, терпеливый взгляд. В то время в театр пришел режиссер Л. Е. Хейфец. Я внимательно смотрела первую у нас его постановку — «Свадьбу Кречинского». Я хорошо знала актеров, занятых в этом спектакле, и мне почудилось в каждом из них что-то новое, свежее. Интересно поставлены некоторые сцены этой хорошо всем известной комедии.
Мне очень захотелось поработать именно с Хейфецем. Молодой, ищущий, может, он очистит меня от всяких годами наросших штампов, подготовит к тому новому периоду творческой жизни, к которому я через боль, но уже подготовила себя. Стала узнавать у товарищей, как именно он работает с актерами на репетициях. Говорят: прибегает иногда к «этюдам». Как это — к этюдам? Ведь это стыдно, этюды-то делали в школе. И вдруг я, уже полвека актриса, и при всех буду делать этюды. И страшно, и стыдно. Но очень, очень хотелось учиться. Пусть этюды.
Следующей постановкой Хейфеца было «Перед заходом солнца» Гауптмана. Одна пожилая роль. Маленькая — это не важно. Но вот смогут ли мне ее дать: дочери ведь восемнадцать лет. Инкен юна, ну, мне, если дадут эту роль, если думать о поздних родах, должно быть не больше пятидесяти — ну пятидесяти пяти от силы. Да, я выгляжу неплохо, и все ж таки... Так хотелось работать с Хейфецем, что я решила просить эту роль. На деле же оказалось, что дирекция и хотела, чтобы я играла, да роль слишком мала. Еще видели во мне героиню. Значит, все к лучшему.
Уважаемая Елена Николаевна!
Просмотрев вчера спектакль «Перед заходом солнца», не могу удержаться, чтобы не выразить свой восторг. Сыгранная Вами роль хоть и не очень большая, зато глубоко эмоциональна и драматична. Есть некоторые актеры, игра которых всегда меня убеждает в том, что только так надо играть, не иначе, и что это тот образ, который не вызывает сомнений своей сценической достоверностью и органичностью.
Конечно, актеров на свете много, и играют неплохо, но служить эталоном в сценическом мастерстве не могут. Вы мне очень нравитесь и в игре, и в беседах, и в выступлениях, которые я неоднократно слушал. Играйте и маленькие роли, не бойтесь их, ведь все равно останетесь такой же высокой Гоголевой.
Ольшевский
Интересен мой разговор с Хейфецем. Я ему прямо сказала, что очень бы хотела работать с ним и рада, что мне дали эту возможность. Уже вывесили приказ о распределении ролей, и я — фрау Петерc, но я боюсь его. Говорю: «Мне сказали, что вы этюдами занимаетесь, а я уже для этюдов-то старовата, мне смешно и стыдно перед всеми». А он мне в ответ: «Вот видите как. А я вас боюсь — старейшая актриса Малого театра, как мне держать себя с вами?» Мы расхохотались, а потом я уже серьезно сказала: «Да, старейшая, и СССР, и так далее, но я понимаю, что у меня много штампов и сама я их не замечаю. Вас я прошу посмотреть свежими глазами и, не стесняясь, очистить меня от этих штампов. Я верю, что вы можете это сделать, но боюсь ваших «этюдов», как-то мне не очень ловко их проделывать, вроде поздновато!» После паузы Леонид Ефимович вдруг тоже очень серьезно ответил: «Впервые вижу актрису, которая так откровенно говорит о своих недостатках режиссеру, — это удивительно». Потом мне рассказывали, что его просто поразило: Гоголева—и вдруг так говорит о себе. А во время работы, на репетициях, мне было и трудно, и радостно, и творческое удовлетворение я ощутила. Что-то новое, легкое и простое. И были этюды, но Хейфец предлагал их так незаметно, а я исполняла их так непосредственно, что Леонид Ефимович после говорил: «Что же вы боялись этюдов, вы прекрасно их схватываете».
Работа с Хейфецем принесла мне громадную пользу и творческую удачу, как говорили товарищи. Хороший режиссер Хейфец, и моя ему большая благодарность. Его работы в Малом театре, пусть иногда не во всем удавшиеся, всегда чем-то очень и очень интересны. А главное его великолепное качество — он умеет раскрывать актера. Думаю, что это качество — величайший дар режиссера.
В «Заговоре Фиеско» Шиллера он выявил много новых дарований. Некоторые были загублены предыдущим постановщиком, на некоторых вообще не обращали внимания, считая просто бездарными, а они заиграли, и как заиграли! Многие просто вновь родились как актеры. Я — поклонница Хейфеца. Хорошо, что он в Малом театре.
В 60-е годы мне пришлось играть и Мурзавецкую в «Волках и овцах». В Малом театре я много видела Мурзавецких. Видела и Яблочкину, и Турчанинову, и Массалитинову, и Пашенную. Со многими из них я играла Глафиру. И вот теперь сама я Мурзавецкая. Я вдумывалась в образ своей героини, читала о процессе баронессы Розен (в иночестве игуменьи Митрофании) — прототипе Мурзавецкой. Почему-то передо мной часто вставала усадьба и помещичий дом в «Темных аллеях» Бунина. Размышляя, я без конца задавала себе вопросы: почему она осталась «в девицах», почему не вышла замуж? Как и почему не сложилась личная жизнь Меропии Давыдовны? Промотал ли все их состояние пьяница брат, сын которого, молодой Мурзавецкий, тоже пьянчуга? При этом пьянчуга никчемный, выгнанный из полка. Физических недостатков у Меропии нет, не урод она и лицом, так в чем же дело? Островский не дает на эти вопросы ответа. Тогда, следуя своему методу работы, я восстанавливаю биографию Меропии и ее брата.
Оба они рано осиротели. Брат был моложе. Забыв себя, Меропия отдается заботам о брате. Ему вручены бразды правления, усадьба, капитал, имение. А он, рано овдовев и оставшись с сыном, проматывает все, что у них с сестрой было, и умирает. Она бесприданница. На ее руках племянник и расстроенное имение. Благодаря своему уму, а он у нее бесспорно есть, определяет племянника на военную службу. Но поправить как следует финансовые дела почти невозможно, да, наверно, и практической сметки у нее нет. Племянника выгоняют из полка. Он сидит на шее у Меропии, пьянствует и тащит из дому все, что попадается под руку. Имение разваливается. А в губернии помнят, как она вела себя, воспитывая брата, каким уважением пользовалась, какой приобрела авторитет. Но денег нет, все идет к финансовому краху, потому и решается она на любую авантюру, даже на подлог: надо сохранять видимость приличия и респектабельности. Потому и вечно черное платье — других-то нарядов нет! Потому и хватается она, как утопающий за соломинку, за возможность женить племянника на богатой, глупой, по ее мнению, и безвольной Купавиной. Если он женится, Меропия все ее имение и капитал в свои руки заберет. Но наступают новые времена, появляются новые люди — заводчики, предприниматели, дельцы. Старосветские помещики отступают. Вот Меропия и напоролась на Беркутова. Фамилия, как всегда у Островского, точно передает смысл: Беркутов — беркут.
Много в своей жизни претерпела Меропия, много перестрадала. Некогда было думать о себе, выезжать, искать подходящего жениха. Да и сами женихи знали о ее разоренном хозяйстве. Их не проведешь. А Меропия не заботилась о радости и счастье. Обладая твердым, властным характером, она думала только о том, как скрыть разорение и поддержать семейный престиж.
Так размышляла я, читая «Темные аллеи» Бунина. Все ветшает. Дом уже не тот. Остался лишь запущенный сад, чудесные аллеи. Наступил конец помещичьей эпохи.
Теперь «Волки и овцы» уже не идут на сцене Малого театра. Если бы мне опять пришлось играть Меропию, вероятно, надо было бы еще помечтать, еще продумать «предлагаемые обстоятельства», и, может быть, да и наверное даже, появились бы некоторые новые черточки, новые акценты в роли. Теперь бы я обязательно настояла, чтобы сцену с Беркутовым не сокращали, а восстановили всю целиком, чего не было в нашем спектакле.
Другая моя работа — два «Горя от ума». Вернее, две Хлёстовы. «Горе от ума» было поставлено Евгением Симоновым в Малом театре в 1963 году. Чацкого играл Подгорный, Софью — Корниенко и Юдина, Фамусова — Царев и Ильинский. Мне и Фадеевой была поручена роль Хлёстовой. Симонов ставил «Горе от ума» в романтическом стиле. Этому способствовали и декорации Б. И. Волкова, и костюмы, и, пожалуй, трактовка некоторых ролей. Это, скорее, был Петербург, а не московский дом Фамусова.
Так я и играла. Я читала, что Грибоедов писал свою Амфису Ниловну простоватой. Я же, следуя замыслу режиссера, представляла Хлёстову независимой, всех и все несколько презирающей, резкой (фамилия-то какая! Хлёстова, хлыст!). Такая и во дворце в Петербурге бывала, и не на последних ролях, могла и с императором говорить свободно. Она, безусловно, умна, хотя несколько самодурка. «Зловещая ли она старуха», как говорит Чацкий, — не знаю. В постановке Симонова, под влиянием слухов и общественной молвы на балу у Фамусова и непочтительного отношения Чацкого (не подошел к ручке да еще осмелился засмеяться, по ее мнению, ни к селу ни к городу), она раздражена, возмущена его дерзостью. Но зловещей старухи в моем исполнении не было. Весь облик скорее напоминал петербургскую гранд-даму, чем московскую старуху, воссозданную по рисункам Боклевского. Не думаю, что образ получился правильным. Во всяком случае, в другой постановке он оказался бы невозможен. Вероятно, правильнее было бы играть, как В. Н. Пашенная и особенно В. О. Массалитинова. Увы! Эти краски не моей палитры. И если бы я и старалась подражать этим великолепным актрисам, у меня бы ничего не получилось, а тем более на общем фоне постановки Евгения Симонова.
Но вот в 1975 году Малый театр опять вернулся к «Горю от ума». Ставил спектакль молодой режиссер. В. Н. Иванов под общим руководством М. И. Царева. Состав несколько изменился, я бы сказала, помолодел, хотя роль Фамусова по-прежнему исполнял Царев, а Софьи — Корниенко. Хлёстову снова дали мне. Художник Е. И. Куманьков создал весьма достоверный московский дом Фамусова, да и сам Царев—Фамусов был блестящим московским барином. Виталий Соломин играл молодого, но несколько спорного Чацкого — резкого, подчас вздорного. Не все принимали такой образ. Пришлось и мне пересматривать мою Хлёстову. Теперь я не кичилась своим богатством, своими бриллиантами, как в прежней постановке. Костюм был более скромным, но я играла московскую крепостницу, властную, иногда даже и веселую, готовую пожурить и метко высказаться. С удовольствием хвасталась своей арапкой — вот, ни у кого такой нет, а у нас с сестрой это чудище есть. Никто не смеет так отрекомендовать Загорецкого, а ей можно, ей все дозволено. Выходка Чацкого, как только она узнала, что это тот мальчишка, которого она «за уши дирала», особенно ее не затронула,—ну что на мальчишку обращать внимание! А вот дурак Скалозуб ее взорвал. Лезет со своими «выпушками, петлицами», вроде ее поправляет, она бы даже уехала сейчас же — так разгневалась. Да вовремя тучу разогнал Молчалин. Вот милый, услужливый человек. Сумасшествие Чацкого ее поразило. Она даже поверить в это не может. Знала его мальчишкой и шалунишкой и только что видела здесь, правда, он как будто не к месту рассмеялся, но зла на него она пока не имеет. Недоумевает, жаль его. В общем он неплохой был малый, и вот — на тебе. В монологе Чацкого есть кое-что, что ее, женщину неглупую, даже заставляет задуматься. Но вот Чацкого занесло, Хлёстовой почудилась дерзость, и она вконец разгневалась и встала из-за стола. Последний акт — разъезд гостей. Хлёстова попросту устала, и ей вое безразлично. Хочется скорей домой в постель, потому почти равнодушно говорит она о Чацком.
Не считаю, что мне удалась эта роль, я чего-то не нашла в ней, не «сидела» в роли, как мы иногда говорим. Режиссура мне не помогала, а сама я, играя редко, никак не могла уловить ту ниточку, которая бы связала мое исполнение с нафантазированным образом. Мешал старый образ Хлёстовой, подсказанный Симоновым. Тянуло на гранд-даму, а не на старуху. Переход на роли старух вообще очень труден, хотя я уже и совершила его, играя «Пучину». Но о «Пучине» особый разговор. Да, в сущности, какая роль дается легко? Мучителен, ох как мучителен труд актера! Если и заснешь, пробегая мысленно отдельные сцены, то, проснувшись среди ночи, опять и опять до рассвета перебираешь, ищешь, думаешь, иногда и плачешь, что не можешь уловить образ.
Дата публикации: 01.08.2005