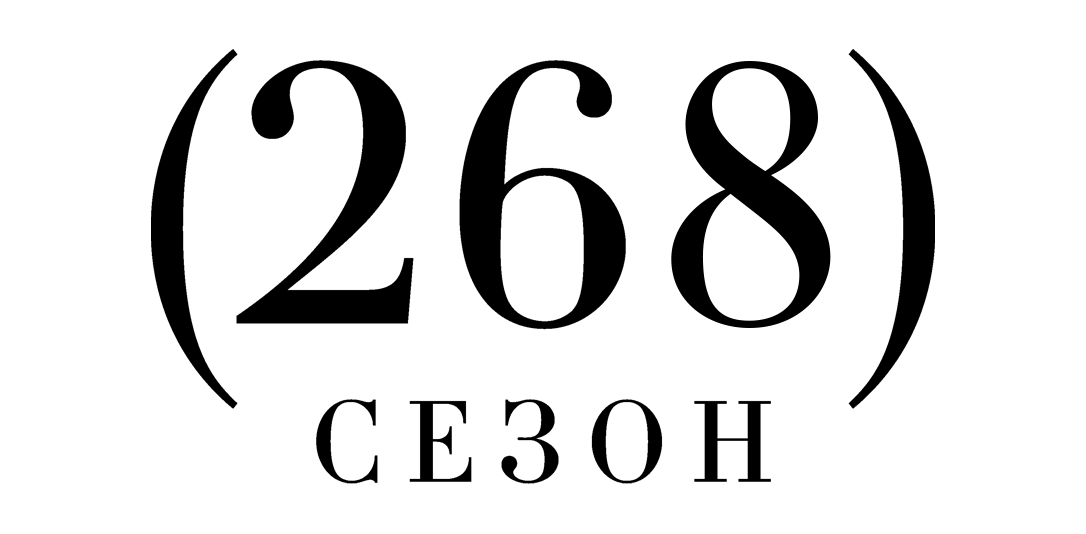Новости
НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ МУЗИЛЬ

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ МУЗИЛЬ
НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ МУЗИЛЬ
Из книги В.А. Нелидова «Театральная Москва. Сорок лет московских театров». М. «Материк», 2002.
Артисты Малого театра так освоились с мыслью, что их останки будут покоиться на Ваганькове, вместе с их славными предшественниками: Мочаловым, Шумским и другими, что сама мысль попасть в «Ваганьковскую труппу» делала в их глазах смерть явлением не столь грозным. Само название кладбища «Ваганьково» напоминало им название коренных русских сел. Русский человек и на свое кладбище смотрел как на свое поместье.
Когда в 1906 году от рака в страшных мучениях умирал Музиль, никто и не спрашивал, где хоронить. Само собой разумелось, что в «поместье» — Ваганькове. Вдруг задержка, тамошнее духовенство несогласно, ибо покойный был лютеранин, а кладбище православное, разрешение может дать митрополит, но он в подобных случаях отказывает. Это было в июне, когда почти все разъехались. Однако поднялась такая «буча», что разрешение было немедленно дано. Впрочем, справедливо будет добавить, что митрополит охотно пошел на просьбу и что мое выражение «буча» надо понять как незыблемость доводов.
Неужели Музиль немецкого происхождения (дед его выходец из Германии, тоже эпизодический актер и тоже комик-резонер) мог при Садовском и Макшееве найти себе «дело»? Вот его репертуар: в «Борисе Годунове» Макшеев — Варлаам, Музиль — юродивый, в «Зимней сказке» Макшеев — старых пастух, Музиль — молодой, в «Талантах и поклонниках» Островского Макшеев — антрепренер, Музиль — Нароков, в «Волках и овцах» Музиль — Чугунов, Макшеев — дворецкий, в «Виндзорских кумушках» они — судья и Форд, в «Плодах просвещения» — первый мужик и повар, во «Власти тьмы» — Аким и Митрич. В прелестном фарсе Гнедича «Венецианский истукан» Макшеев — стрелецкий голова XVII века, Музиль — «странный человек» (странник). «Дело» находилось обоим и даже в одних и тех же пьесах.
Германское происхождение Музиля не мешало ему специализироваться исключительно на русских ролях, и представить себе его играющим «иностранца», кроме подходящих ролей классического репертуара, было бы немыслимо. Музиль, как это часто бывает с обрусевшими иностранцами, и не только в третьем, но и в первом поколении, был настоящий москвич, более москвич, чем заядлые москвичи, и именно москвич, а не только русский, — москвич со всеми его особенностями и неистовым антагонизмом ко всему, что не «Москва».
Я думаю, он в душе и внешнюю сторону Москвы, «большой деревни», считал по благоустройству выше Парижа, куда он ездил с супругой иногда проветриваться, но неизменно в Париже требовал у французов «де билье пур Нис тур э ретур» (он любил и Ниццу). Дальше этой своеобразной фразы он не желал изучать иностранных языков. Зато знал и любил он свое дело, свой храм-театр, обожал его до фанатизма и считал, например, глубоким себе оскорблением всякий отзыв не предельно восторженный об Ермоловой.
В нем не надо объяснять это актерским «наигрыванием». Артист необыкновенно тепло, хочется сказать парадоксальное выражение «с элегическим комизмом», вел роль суфлера Нарокова в «Талантах и поклонниках», особенно последний акт — сцену прощания с Негиной на вокзале. И ему удавалось здесь вызывать слезы не только Ермоловой, но и своих слушателей. Но когда его за это место хвалили, он всегда отвечал: «Хорошо-то оно хорошо, сам знаю, только ведь это не я, а Ермолова делает. Как же с ней иначе прощаться? Дайте мне другую актрису, и десятой доли не получится». И, помолчав, прибавлял: «Да я и играть не смогу». Можно ли нагляднее объяснить, что такое внутренняя органическая спаянность труппы, рождающая общность, ансамбль исполнения.
Это о теплоте Музиля. Возьмем другие стороны, хотя бы комические. Пастух в шекспировской «Зимней сказке» говорит, принося младенца-принцессу, найденную на берегу: «Буря ревет, человек ревет, медведь ревет и ест человека, а человек кричит, что он дворянин и что зовут его Конрад». И с наивным сожалением прибавляет: «Но медведю это было безразлично». В эти слова Музиль вкладывал символистику, да еще в смешной форме: «медведю» ведь правда все равно, кого есть, как слепому случаю или тупой силе тоже все равно, но фраза «медведю было безразлично» цитировалась потом многие годы после спектакля и цитировалась не только в театре, а цитировалась, например, как реплика или на чей-нибудь поступок, цитировалась в шутливых тонах при проигрыше в карты, при поданном блюде, при ушедшем у вас из-под носа поезде и т.д.
Пусть воображение читателя представит себе, как мог играть комик, заставлявший потом цитировать места своих ролей. Я мог бы привести и другие примеры, но одного довольно.
Скажу лишь о третьем его качестве, а именно, о мастерстве в изображении характерных типов. Так, его Чугунов в «Волках и овцах», кулак в «Хрущевских помещиках» заставляли думать не только об Островском в первой комедии, но и о Гоголе и Щедрине. Русская психология была ясна этому русскому артисту немецкого происхождения. В подделывателе векселя (Чугунов) и в выжиге-кулаке Музиль ярко показывал, как добро и зло в русской душе есть что-то химически слитое, и не разберешь, где добро, а где зло. Когда Чугунову-Музилю говорила Федотова-Мурзавецкая: «У тебя совести нет», то его ответ «как так, нельзя, чтоб совсем не быть» ясно показывал, что Чугунов искренно признает себя мошенником, но не допускает и мысли, что можно жить «совсем без совести».
Подобные бриллианты, вкрапляемые в роль, были лучшим его свойством. «Знаешь ли ты, что такое «бавассари», что я сделать мог?» — говорит в числе своих трех-четырех фраз спившийся повар в «Плодах просвещения». Я думаю, что никто не знает, что такое «бавассари», но музилевское исполнение заставляло нас верить, что изготовление этого блюда требует долгого учения, большого труда, кулинарского гения, а в словах «что я сделать моп) слышалось отчаяние погибшего дарования, трагически молящего кухарку (Садовскую) об «одной рюмочке».
Особняком стоит его роль юродивого в пушкинском «Борисе Годунове». К сожалению, я не знаю наизусть Пушкина, а это долг каждого русского, и потому процитирую, конечно, с ошибками пять-шесть фраз юродивого в его единственном явлении, а именно: «Дай, дай копеечку», «у меня копеечка есть», «отняли копеечку, обижают юродивого», «мальчишки копеечку отняли, вели их зарезать, как ты зарезал маленького царевича», «нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Это все. Если, по удачному выражению Ключевского, Шаляпин в «Фаусте» в первые годы, в сцене заклинания цветов олицетворял собою весь средневековый мистицизм, то Музиль, конечно, в этих немногих словах, данных ему автором, олицетворял собою даже не «богоискательство», а «богонахождение» русской души. Беседуя как-то с моим другом, ныне покойным Ф.Ф. Достоевским, сыном Достоевского, я услышал от него: «Жаль, что папа Музиля в юродивом не видел. Папе бы он очень понравился». По мнению всех нас, Музиль в этой роли был достоин иметь зрителями только Достоевских и только Пушкиных, ибо перед нами был святой, и вспоминалось, что сам Иоанн IV, задушивший митрополита, не дерзнул посягнуть на блаженного. И это становилось понятным с первого входа артиста: его юродивый вне земли, в потустороннем лучшем мире, власяница или порфира, пудовые вериги или ожерелья из алмазов, копеечка или Голконда, ему все равно, не это ему надо.
Давайте разберемся. Говорят, и говорят недаром, что нет вообще человека, а не только артиста, который не мог бы сыграть одну какую-то роль, и сыграть ее так, как это не удается никому другому. В этом положении много правды, конечно, толкуя его широко. Икс или Игрек не сыграют ни одной роли ни в одной пьесе, взяв репертуар со времен Калидасы и Эсхила и кончая Клоделем, но, конечно, может встретиться «образ», который только один человек и может воплотить. Весьма возможно, что пушкинский юродивый именно в этом смысле подходил к Музилю. С внешней стороны, безусловно, да: худой, небольшого роста, восприимчивый. И зеркало его души, глаза артиста, помогало не мало.
Внешняя сторона актерского таланта обычно имеет своим основанием личное обаяние, голос и глаза. Голос и внешнее обаяние у Музиля почти отсутствовали, и тем и другим он не выделялся, но эти данные для роли юродивого не только не нужны, а, скорее, наоборот. Глаза? В них девять десятых роли, а музи-левские глаза умели сверкать остроумием, лукавством, теплиться лаской, язвить, веселиться, а главное — проникать в сердце, большие, карие, умные и такие «хорошие». Про музи-левского юродивого выражение «проникновенный взор» будет уместно.
Вот каков был Музиль, и так жаль, что трагедия Пушкина шла в последний раз в Малом театре в самом начале девяностых годов, а возобновить ее потом так и не удалось, несмотря на наличие отличного Шуйского, ибо ни Ленский, ни Рыбаков, ни Южин не решались брать на себя главной роли, а игравший ее Горев играл ее для Малого театра плохо.
Закончу мой рассказ о Музиле сообщением о его частной жизни, ибо она так интересна, такая «московская», что стоит о ней поговорить.
В своей домашней жизни артисты вообще жили сравнительно замкнуто, во-первых, в силу своего ремесла, так как, будучи постоянно на виду, дома искали они уединения, во-вторых, из-за недосуга. Каждый из видных артистов в сезон был занят не менее 4 раз в неделю. Если считать длительностью спектакля хотя бы в три с половиной часа плюс час на одевание и грим, полчаса на раздевание и по получасу в среднем на сборы по приезду и отъезду из театра, получается самое меньшее пять с половиною часов. Затем утренняя репетиция опять-таки самое меньшее четыре плюс два получаса на приезд и отъезд, всего пять часов, а в общем десять с половиной часов. Дальше работа для создания сценического образа, обдумывание и выучка роли, время на заказ платья и костюма и пр., и пр. Словом, нет времени на открытую жизнь.
Музиль представлял исключение. Отец пятерых детей, в числе прочих артистки Малого театра Рыжовой, он обожал свою семью и вместе с тем любил культурное общество. Его знала и любила вся Москва. Часто на ваше: «Извозчик, Каретная Садовая, близ Петровки», следовало: «К Николай Игнатьичу? Знаем, пожалуйте». Вы заходили в его дом с большой залой с колоннами, дом со всевозможными переходами и закоулками, и вас сразу охватывало чем-то необыкновенно спокойным и одновременно оживленным.
Тут и Мафусаил московских критиков, почтенный, широко образованный С.В. Васильев-Флеров, и представители именитого культурного купечества, и 85-летний, когда-то знаменитый в Москве в пятидесятых годах XIX столетия артист из провинции, и приходской батюшка, и даже сам протодьякон храма Спасителя, знаменитая «октава», большой театрал, тайно посещавший Малый театр, когда шли пьесы, «кои духовному лицу посещать не зазорно».
Оживленный разговор, действительно всех интересующий, снедь «московская» с ее «бесстыжей» кулебякой, «как смерть белой» белорыбицей, слезоточивым балыком, стерлядкой-«желтобрюшкой» и т.д. Конечно, и выпивали «по единой». Но не только пьяных, но и захмелевших мне в этом почтенном доме встречать не приходилось. Садимся за стол, а об ухе «московской на ершах, налимах с печеночкой-с» говорить не приходится. Все хвалят, немного почему-то мрачен обычно такой жизнерадостный А.М. Кондратьев. «Что, не нравится, Алексей Михайлович? Вы ведь сами мастер уху варить», — поддразнивают его. «Подите к черту», — рычит Кондратьев своим громогласным басом, ибо его «варение ухи» сопряжено с трагедией.
Страстный любитель рыболовства, он завел у себя дома аквариум с каким-то особым отоплением и подогреванием воды. Пустил раз это отопление и уехал в театр, забыв его закрыть, а вернувшись, застал уже много часов бурлящий кипяток. Это и была его «уха».
Чтобы его немного утешить, переходят к вопросу: «А как вы, Алексей Михайлович, в Судже играли?» Это он почему-то очень любил рассказывать. Был, если не ошибаюсь, в 1895 году спектакль в честь открытия памятника Щепкину в Судже с участием сил Малого театра. Знаменитый Щепкин был уроженец этого города. В торжественной программе, между прочим, первый акт «Марии Стюарт». Кондратьев объявил: «Я буду играть Паулета, там два слова, костюм я носить умею, в балете учился, меня не раз старый Петипа бил, и хорошо делал, голос у меня паулетовский. Он — тюремщик, и наружно я подхожу (Кондратьев был высокий, стройный, необыкновенно благообразный старик с седой, клинообразной бородой). А главное, поймите, дурачье, должен я хоть раз в жизни с Ермоловой сыграть». Конечно, роль ему дали. «А править спектакль я тоже сам буду».
Правил Кондратьев мастерски, так же, как и Черневский, всегда в пенсне, всегда с пьесой в руках «на случай», хотя все всегда знал наизусть. По натуре он был весьма суетлив и отличался рассеянностью людей глубоко сосредоточенных. Если он «правит», то только об этом и думает.
Так и на этом спектакле, все готово, все на месте, начали. Один из нас, молодежи (дело было весной, настроение веселое), сыграл с Кондратьевым шутку. Перед выходом Паулета подкараулен был момент, когда Кондратьев начнет «готовить самого себя к выходу». В этот момент к нему подошли и говорят: «А.М., сейчас Кондратьеву выходить, а его нет». Взбесился старик, кидается всюду: «Черт, дьявол, мерзавец, где Кондратьев, подать сюда, убью» и пр. В последнюю секунду ему говорят: «Да ведь это же вы». Кондратьев взглянул оком грозного царя, швырнул в кого-то книгой и вышел на сцену в костюме эпохи Елизаветы Английской, забыв... снять пенсне.
Сама Ермолова не удержалась от улыбки: «Но публика ничего не заметила, — заканчивал Кондратьев. — Стал это я, как Ольридж, в три четверти спиной к публике (спиной и тогда играли), величественным жестом поднял руку, а по дороге окаянное пенсне успел сбросить».
Красна была изба Музиля и «пирогами», и шуткой «безобидной». После трапезы в одном углу Садовский сыплет своими эпиграммами, тихий и светлый Макшеев скромно слушает комплименты исполнению своей роли Большинцова в тургеневском «Месяце в деревне» и на удивление энтузиаста, почему пьеса не делает сборов, заявляет: «Понятно! Ну кто в Москве сейчас, в ноябре, поедет на месяц в деревню?»
Разговор, конечно, вертится вокруг театра. Я уже говорил, что это была эпоха перелома, когда вместо индивидуального творчества нам подсовывали что-то другое. И должен сказать откровенно, что это «другое» вне индивидуального творчества я не только принять, но и понять никогда не мог. Но тогда была эпоха «Бури и натиска». А лозунг был — «настроение», которое кинулись создавать внешними приемами. Конечно, на названном вечере был разговор о настроении и режиссуре.
Старый милый Музиль пускает в ход тяжелую артиллерию — Ермолову и Островского. «Хорошо, — говорят ему, — а ставить-то ведь надо? Не вы ли сами на свой счет для пьесы Островского декорацию сделали, когда дирекция не давала, а сами говорите — ставить не надо?» Музиль защищается тем, что это было «для Островского».
Обмен мыслей все «оживленнее». Переходят к театральному освещению. Жалуются, что в Малом театре и в полдень в Сахаре, и в полночь на полюсе свет один, а свет-то и дает настроение. Свет важнее декораций и костюмов, и это положение с пеной у рта отстаивают новаторы.
Вопрос так ясен, так очевиден, что ретроградам спасения нет. «Вот оно, новое... Свет дает настроение радости, скорби, жути, сосредотачивает и углубляет внимание. Вот оно новое, а вы...» — доканчивают ликующе сторонники нового течения. «Новое ли? — слышится громовой «глас» протодьякона. — А вот в третьем веке христианства — так в уставе написано, в семинарии учил, — при богослужении на малом выходе обедни полагался свет тихий, при херувимской — торжественный, при шестопсалмии на всенощной — единая свеча в руке чтеца и т.д. Отцы церкви установили сие, дабы молящемуся помочь, по-вашему, стало быть, в должное настроение его привести. Но я разумею, что единым зажиганием и тушением свечи молиться не заставишь, иное тут требуется». «Верно! — кричит старец Владиславлев. — И одна душа без прочего, победить может». Подбегает к роялю и на восемьдесят шестом году, сам себе аккомпанируя, поет (конечно, без признака голоса), поет так, что на все утро в Москве острят: «Владиславлев вчера у Музиля всех захватил, видно, скоро его на Ваганьково проводим». После владиславлевского выступления спор не кончен. А миролюбивый хозяин с целью внести успокоение в горячий спор о том, нужно ли только хорошо ставить или только хорошо играть, рассказывает нам про английского актера XVIII столетия Гаррика, как сто лет до этого вечера были те же споры и как Гаррику раз сказали: «Что ж вы, господин Гаррик, так вот безо всего так же хорошо сыграете?» — и что будто бы Гаррик взял подушку и сказал: «Вот эта подушка — ребенок, а я его мать». Начал качать и баюкать песенкой подушку, подошел к окну, дело было в четвертом этаже, нагнулся, внимательно присмотрелся, а подушку выронил, а когда повернулся к зрителям, то они... оледенели от ужаса и кинулись на помощь матери (Гаррику), уронившей ребенка (подушку).
В таких и приблизительно таких беседах проходили музилевские вечера, затягивавшиеся иногда, когда утро свободно до... ранней обедни в храме Спасителя, куда иные в сообществе того же знаменитого протодьякона и направлялись. И не было стыдно, покинув в шесть часов утра хозяина, через полчаса при мерцающих свечах собора слушать стихийное «вонмем, премудрость простим» театрала-дьякона.
Если кто-нибудь, снисходительно пробежав изложенное, скажет: «Никогда это не вернется», то я тем более попрошу моего читателя дочитать мою книгу до конца.
Для земной жизни Музиля конец его был не легок. Его годы и слабое здоровье стали на глазах приводить его к дряхлости. На сцене появилась некоторая медленность речи, по поводу чего зло глумились: «Теперь из Музиля каждое седьмое слово надо клещами тащить». Факт налицо: когда он играл, спектакль всегда шел значительно дольше, чем когда играл его «очередной». Он, не сознавая этого, перестал быть работником. Вместе с тем надо было дать дорогу молодежи, иначе бы она разбежалась.
В 1905 году стало ясно, что Федотова прикована навсегда к креслу, Никулина стала проявлять явные признаки маразма, а Музиль и Садовский, видимо, дряхлеть. Эти великие имена в данное время являлись балластом, давившем на бюджет. Уволить? Но никому не хотелось получить ломоносовский ответ: «Можно от этих сил отставить театр, но не их от театра», и вместе с тем было бы преступно лишить их сознания, что они нужны театру.
В итоге было выработано следующее: 1) каждое из названных лиц сохраняет свою пенсию, 2) каждое из них пожизненно сохраняет свой оклад в уменьшенном виде, а именно, по 4000 рублей в год (мужчины получали 8200 рублей, женщины 10 000, из-за туалетов), 3) каждое из них может брать хотя бы годовой отпуск ежегодно.
Хотя это были почетные условия, но принять их артистам, а нам объявить им об этом радости не представляло. Федотова и Садовский с величавым достоинством подчинились требованиям жизни. Впечатлительная, «подсознательная» Никулина «воевала» и в буквальном смысле (было написано три жалобы) подала и «в Сенат», и «к министрам», и «государю».
Новые условия для названных артистов решено было ввести с 1 сентября 1906 года (начало театрального года), а объявить им об этом до 1 мая. Это и было сделано. Только с Музилем я тянул: он был болен и удвоенно тяжело воспринял бы сообщение. Между тем контора требует: «Привести в исполнение меру, вами же предложенную и получившую санкцию господина директора».
Санкцию я тем не менее задерживал, хотя тут с моей стороны вовсе не требовалось гражданского мужества, ибо я знал, что директор Теляковский, бывший тогда в Париже для набора французской труппы, требовал разумного, а не «чиновничьего» выполнения своих распоряжений. Это, впрочем, не мешало этому лучшему директору Императорских театров назначать иногда людей, искренно верящих, что художник Коровин может по-египетски написать «Пролетарии всех стран...», или людей такого же рода, рабски ему льстящих.
Один из моих милых будущих начальников раз сказал мне: «Как изумительно Теляковский понимает искусство, а такой-то административное дело!» Я на это ему ответил публично, с целью его поддразнить: «Итак, вы хотите сказать, что Теляковский в администрации, а такой-то в искусстве ничего не понимают?»
Возвращаюсь к моему рассказу. Подобные представители конторы «наседают», да и время не терпит. Притом, в сентябре, при получении жалованья, Музиль все равно автоматически был бы осведомлен. Пришлось действовать политично, и я пригласил его старшего сына и врача, его лечившего, к себе. Зная от сына ранее, что у Музиля рак и что смерть неизбежна, во время нашей беседы врач заявил, что больному осталось жизни не более шести недель. Дело было в конце апреля.
Потому, конечно, все дальнейшие «предлагается Вам сообщить артисту Музилю», «напоминается Вам...», «благоволите в трехдневный срок» и т.д., — все это бросалось мною в корзину, и в июне, кажется шестого числа, в страшных мучениях артист скончался.
С теплотой благодарности вспоминаю слова его дочери, тоже артистки Малого театра, Елены Музиль, благодарившей меня... в сущности, не знаю за что, разве за несовершение неблагородной и ненужной жестокости.
Смерть Музиля отняла у Малого театра не «копеечку» юродивого, а полноценную золотую монету старинной художественной чеканки.
Из книги В.А. Нелидова «Театральная Москва. Сорок лет московских театров». М. «Материк», 2002.
Артисты Малого театра так освоились с мыслью, что их останки будут покоиться на Ваганькове, вместе с их славными предшественниками: Мочаловым, Шумским и другими, что сама мысль попасть в «Ваганьковскую труппу» делала в их глазах смерть явлением не столь грозным. Само название кладбища «Ваганьково» напоминало им название коренных русских сел. Русский человек и на свое кладбище смотрел как на свое поместье.
Когда в 1906 году от рака в страшных мучениях умирал Музиль, никто и не спрашивал, где хоронить. Само собой разумелось, что в «поместье» — Ваганькове. Вдруг задержка, тамошнее духовенство несогласно, ибо покойный был лютеранин, а кладбище православное, разрешение может дать митрополит, но он в подобных случаях отказывает. Это было в июне, когда почти все разъехались. Однако поднялась такая «буча», что разрешение было немедленно дано. Впрочем, справедливо будет добавить, что митрополит охотно пошел на просьбу и что мое выражение «буча» надо понять как незыблемость доводов.
Неужели Музиль немецкого происхождения (дед его выходец из Германии, тоже эпизодический актер и тоже комик-резонер) мог при Садовском и Макшееве найти себе «дело»? Вот его репертуар: в «Борисе Годунове» Макшеев — Варлаам, Музиль — юродивый, в «Зимней сказке» Макшеев — старых пастух, Музиль — молодой, в «Талантах и поклонниках» Островского Макшеев — антрепренер, Музиль — Нароков, в «Волках и овцах» Музиль — Чугунов, Макшеев — дворецкий, в «Виндзорских кумушках» они — судья и Форд, в «Плодах просвещения» — первый мужик и повар, во «Власти тьмы» — Аким и Митрич. В прелестном фарсе Гнедича «Венецианский истукан» Макшеев — стрелецкий голова XVII века, Музиль — «странный человек» (странник). «Дело» находилось обоим и даже в одних и тех же пьесах.
Германское происхождение Музиля не мешало ему специализироваться исключительно на русских ролях, и представить себе его играющим «иностранца», кроме подходящих ролей классического репертуара, было бы немыслимо. Музиль, как это часто бывает с обрусевшими иностранцами, и не только в третьем, но и в первом поколении, был настоящий москвич, более москвич, чем заядлые москвичи, и именно москвич, а не только русский, — москвич со всеми его особенностями и неистовым антагонизмом ко всему, что не «Москва».
Я думаю, он в душе и внешнюю сторону Москвы, «большой деревни», считал по благоустройству выше Парижа, куда он ездил с супругой иногда проветриваться, но неизменно в Париже требовал у французов «де билье пур Нис тур э ретур» (он любил и Ниццу). Дальше этой своеобразной фразы он не желал изучать иностранных языков. Зато знал и любил он свое дело, свой храм-театр, обожал его до фанатизма и считал, например, глубоким себе оскорблением всякий отзыв не предельно восторженный об Ермоловой.
В нем не надо объяснять это актерским «наигрыванием». Артист необыкновенно тепло, хочется сказать парадоксальное выражение «с элегическим комизмом», вел роль суфлера Нарокова в «Талантах и поклонниках», особенно последний акт — сцену прощания с Негиной на вокзале. И ему удавалось здесь вызывать слезы не только Ермоловой, но и своих слушателей. Но когда его за это место хвалили, он всегда отвечал: «Хорошо-то оно хорошо, сам знаю, только ведь это не я, а Ермолова делает. Как же с ней иначе прощаться? Дайте мне другую актрису, и десятой доли не получится». И, помолчав, прибавлял: «Да я и играть не смогу». Можно ли нагляднее объяснить, что такое внутренняя органическая спаянность труппы, рождающая общность, ансамбль исполнения.
Это о теплоте Музиля. Возьмем другие стороны, хотя бы комические. Пастух в шекспировской «Зимней сказке» говорит, принося младенца-принцессу, найденную на берегу: «Буря ревет, человек ревет, медведь ревет и ест человека, а человек кричит, что он дворянин и что зовут его Конрад». И с наивным сожалением прибавляет: «Но медведю это было безразлично». В эти слова Музиль вкладывал символистику, да еще в смешной форме: «медведю» ведь правда все равно, кого есть, как слепому случаю или тупой силе тоже все равно, но фраза «медведю было безразлично» цитировалась потом многие годы после спектакля и цитировалась не только в театре, а цитировалась, например, как реплика или на чей-нибудь поступок, цитировалась в шутливых тонах при проигрыше в карты, при поданном блюде, при ушедшем у вас из-под носа поезде и т.д.
Пусть воображение читателя представит себе, как мог играть комик, заставлявший потом цитировать места своих ролей. Я мог бы привести и другие примеры, но одного довольно.
Скажу лишь о третьем его качестве, а именно, о мастерстве в изображении характерных типов. Так, его Чугунов в «Волках и овцах», кулак в «Хрущевских помещиках» заставляли думать не только об Островском в первой комедии, но и о Гоголе и Щедрине. Русская психология была ясна этому русскому артисту немецкого происхождения. В подделывателе векселя (Чугунов) и в выжиге-кулаке Музиль ярко показывал, как добро и зло в русской душе есть что-то химически слитое, и не разберешь, где добро, а где зло. Когда Чугунову-Музилю говорила Федотова-Мурзавецкая: «У тебя совести нет», то его ответ «как так, нельзя, чтоб совсем не быть» ясно показывал, что Чугунов искренно признает себя мошенником, но не допускает и мысли, что можно жить «совсем без совести».
Подобные бриллианты, вкрапляемые в роль, были лучшим его свойством. «Знаешь ли ты, что такое «бавассари», что я сделать мог?» — говорит в числе своих трех-четырех фраз спившийся повар в «Плодах просвещения». Я думаю, что никто не знает, что такое «бавассари», но музилевское исполнение заставляло нас верить, что изготовление этого блюда требует долгого учения, большого труда, кулинарского гения, а в словах «что я сделать моп) слышалось отчаяние погибшего дарования, трагически молящего кухарку (Садовскую) об «одной рюмочке».
Особняком стоит его роль юродивого в пушкинском «Борисе Годунове». К сожалению, я не знаю наизусть Пушкина, а это долг каждого русского, и потому процитирую, конечно, с ошибками пять-шесть фраз юродивого в его единственном явлении, а именно: «Дай, дай копеечку», «у меня копеечка есть», «отняли копеечку, обижают юродивого», «мальчишки копеечку отняли, вели их зарезать, как ты зарезал маленького царевича», «нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Это все. Если, по удачному выражению Ключевского, Шаляпин в «Фаусте» в первые годы, в сцене заклинания цветов олицетворял собою весь средневековый мистицизм, то Музиль, конечно, в этих немногих словах, данных ему автором, олицетворял собою даже не «богоискательство», а «богонахождение» русской души. Беседуя как-то с моим другом, ныне покойным Ф.Ф. Достоевским, сыном Достоевского, я услышал от него: «Жаль, что папа Музиля в юродивом не видел. Папе бы он очень понравился». По мнению всех нас, Музиль в этой роли был достоин иметь зрителями только Достоевских и только Пушкиных, ибо перед нами был святой, и вспоминалось, что сам Иоанн IV, задушивший митрополита, не дерзнул посягнуть на блаженного. И это становилось понятным с первого входа артиста: его юродивый вне земли, в потустороннем лучшем мире, власяница или порфира, пудовые вериги или ожерелья из алмазов, копеечка или Голконда, ему все равно, не это ему надо.
Давайте разберемся. Говорят, и говорят недаром, что нет вообще человека, а не только артиста, который не мог бы сыграть одну какую-то роль, и сыграть ее так, как это не удается никому другому. В этом положении много правды, конечно, толкуя его широко. Икс или Игрек не сыграют ни одной роли ни в одной пьесе, взяв репертуар со времен Калидасы и Эсхила и кончая Клоделем, но, конечно, может встретиться «образ», который только один человек и может воплотить. Весьма возможно, что пушкинский юродивый именно в этом смысле подходил к Музилю. С внешней стороны, безусловно, да: худой, небольшого роста, восприимчивый. И зеркало его души, глаза артиста, помогало не мало.
Внешняя сторона актерского таланта обычно имеет своим основанием личное обаяние, голос и глаза. Голос и внешнее обаяние у Музиля почти отсутствовали, и тем и другим он не выделялся, но эти данные для роли юродивого не только не нужны, а, скорее, наоборот. Глаза? В них девять десятых роли, а музи-левские глаза умели сверкать остроумием, лукавством, теплиться лаской, язвить, веселиться, а главное — проникать в сердце, большие, карие, умные и такие «хорошие». Про музи-левского юродивого выражение «проникновенный взор» будет уместно.
Вот каков был Музиль, и так жаль, что трагедия Пушкина шла в последний раз в Малом театре в самом начале девяностых годов, а возобновить ее потом так и не удалось, несмотря на наличие отличного Шуйского, ибо ни Ленский, ни Рыбаков, ни Южин не решались брать на себя главной роли, а игравший ее Горев играл ее для Малого театра плохо.
Закончу мой рассказ о Музиле сообщением о его частной жизни, ибо она так интересна, такая «московская», что стоит о ней поговорить.
В своей домашней жизни артисты вообще жили сравнительно замкнуто, во-первых, в силу своего ремесла, так как, будучи постоянно на виду, дома искали они уединения, во-вторых, из-за недосуга. Каждый из видных артистов в сезон был занят не менее 4 раз в неделю. Если считать длительностью спектакля хотя бы в три с половиной часа плюс час на одевание и грим, полчаса на раздевание и по получасу в среднем на сборы по приезду и отъезду из театра, получается самое меньшее пять с половиною часов. Затем утренняя репетиция опять-таки самое меньшее четыре плюс два получаса на приезд и отъезд, всего пять часов, а в общем десять с половиной часов. Дальше работа для создания сценического образа, обдумывание и выучка роли, время на заказ платья и костюма и пр., и пр. Словом, нет времени на открытую жизнь.
Музиль представлял исключение. Отец пятерых детей, в числе прочих артистки Малого театра Рыжовой, он обожал свою семью и вместе с тем любил культурное общество. Его знала и любила вся Москва. Часто на ваше: «Извозчик, Каретная Садовая, близ Петровки», следовало: «К Николай Игнатьичу? Знаем, пожалуйте». Вы заходили в его дом с большой залой с колоннами, дом со всевозможными переходами и закоулками, и вас сразу охватывало чем-то необыкновенно спокойным и одновременно оживленным.
Тут и Мафусаил московских критиков, почтенный, широко образованный С.В. Васильев-Флеров, и представители именитого культурного купечества, и 85-летний, когда-то знаменитый в Москве в пятидесятых годах XIX столетия артист из провинции, и приходской батюшка, и даже сам протодьякон храма Спасителя, знаменитая «октава», большой театрал, тайно посещавший Малый театр, когда шли пьесы, «кои духовному лицу посещать не зазорно».
Оживленный разговор, действительно всех интересующий, снедь «московская» с ее «бесстыжей» кулебякой, «как смерть белой» белорыбицей, слезоточивым балыком, стерлядкой-«желтобрюшкой» и т.д. Конечно, и выпивали «по единой». Но не только пьяных, но и захмелевших мне в этом почтенном доме встречать не приходилось. Садимся за стол, а об ухе «московской на ершах, налимах с печеночкой-с» говорить не приходится. Все хвалят, немного почему-то мрачен обычно такой жизнерадостный А.М. Кондратьев. «Что, не нравится, Алексей Михайлович? Вы ведь сами мастер уху варить», — поддразнивают его. «Подите к черту», — рычит Кондратьев своим громогласным басом, ибо его «варение ухи» сопряжено с трагедией.
Страстный любитель рыболовства, он завел у себя дома аквариум с каким-то особым отоплением и подогреванием воды. Пустил раз это отопление и уехал в театр, забыв его закрыть, а вернувшись, застал уже много часов бурлящий кипяток. Это и была его «уха».
Чтобы его немного утешить, переходят к вопросу: «А как вы, Алексей Михайлович, в Судже играли?» Это он почему-то очень любил рассказывать. Был, если не ошибаюсь, в 1895 году спектакль в честь открытия памятника Щепкину в Судже с участием сил Малого театра. Знаменитый Щепкин был уроженец этого города. В торжественной программе, между прочим, первый акт «Марии Стюарт». Кондратьев объявил: «Я буду играть Паулета, там два слова, костюм я носить умею, в балете учился, меня не раз старый Петипа бил, и хорошо делал, голос у меня паулетовский. Он — тюремщик, и наружно я подхожу (Кондратьев был высокий, стройный, необыкновенно благообразный старик с седой, клинообразной бородой). А главное, поймите, дурачье, должен я хоть раз в жизни с Ермоловой сыграть». Конечно, роль ему дали. «А править спектакль я тоже сам буду».
Правил Кондратьев мастерски, так же, как и Черневский, всегда в пенсне, всегда с пьесой в руках «на случай», хотя все всегда знал наизусть. По натуре он был весьма суетлив и отличался рассеянностью людей глубоко сосредоточенных. Если он «правит», то только об этом и думает.
Так и на этом спектакле, все готово, все на месте, начали. Один из нас, молодежи (дело было весной, настроение веселое), сыграл с Кондратьевым шутку. Перед выходом Паулета подкараулен был момент, когда Кондратьев начнет «готовить самого себя к выходу». В этот момент к нему подошли и говорят: «А.М., сейчас Кондратьеву выходить, а его нет». Взбесился старик, кидается всюду: «Черт, дьявол, мерзавец, где Кондратьев, подать сюда, убью» и пр. В последнюю секунду ему говорят: «Да ведь это же вы». Кондратьев взглянул оком грозного царя, швырнул в кого-то книгой и вышел на сцену в костюме эпохи Елизаветы Английской, забыв... снять пенсне.
Сама Ермолова не удержалась от улыбки: «Но публика ничего не заметила, — заканчивал Кондратьев. — Стал это я, как Ольридж, в три четверти спиной к публике (спиной и тогда играли), величественным жестом поднял руку, а по дороге окаянное пенсне успел сбросить».
Красна была изба Музиля и «пирогами», и шуткой «безобидной». После трапезы в одном углу Садовский сыплет своими эпиграммами, тихий и светлый Макшеев скромно слушает комплименты исполнению своей роли Большинцова в тургеневском «Месяце в деревне» и на удивление энтузиаста, почему пьеса не делает сборов, заявляет: «Понятно! Ну кто в Москве сейчас, в ноябре, поедет на месяц в деревню?»
Разговор, конечно, вертится вокруг театра. Я уже говорил, что это была эпоха перелома, когда вместо индивидуального творчества нам подсовывали что-то другое. И должен сказать откровенно, что это «другое» вне индивидуального творчества я не только принять, но и понять никогда не мог. Но тогда была эпоха «Бури и натиска». А лозунг был — «настроение», которое кинулись создавать внешними приемами. Конечно, на названном вечере был разговор о настроении и режиссуре.
Старый милый Музиль пускает в ход тяжелую артиллерию — Ермолову и Островского. «Хорошо, — говорят ему, — а ставить-то ведь надо? Не вы ли сами на свой счет для пьесы Островского декорацию сделали, когда дирекция не давала, а сами говорите — ставить не надо?» Музиль защищается тем, что это было «для Островского».
Обмен мыслей все «оживленнее». Переходят к театральному освещению. Жалуются, что в Малом театре и в полдень в Сахаре, и в полночь на полюсе свет один, а свет-то и дает настроение. Свет важнее декораций и костюмов, и это положение с пеной у рта отстаивают новаторы.
Вопрос так ясен, так очевиден, что ретроградам спасения нет. «Вот оно, новое... Свет дает настроение радости, скорби, жути, сосредотачивает и углубляет внимание. Вот оно новое, а вы...» — доканчивают ликующе сторонники нового течения. «Новое ли? — слышится громовой «глас» протодьякона. — А вот в третьем веке христианства — так в уставе написано, в семинарии учил, — при богослужении на малом выходе обедни полагался свет тихий, при херувимской — торжественный, при шестопсалмии на всенощной — единая свеча в руке чтеца и т.д. Отцы церкви установили сие, дабы молящемуся помочь, по-вашему, стало быть, в должное настроение его привести. Но я разумею, что единым зажиганием и тушением свечи молиться не заставишь, иное тут требуется». «Верно! — кричит старец Владиславлев. — И одна душа без прочего, победить может». Подбегает к роялю и на восемьдесят шестом году, сам себе аккомпанируя, поет (конечно, без признака голоса), поет так, что на все утро в Москве острят: «Владиславлев вчера у Музиля всех захватил, видно, скоро его на Ваганьково проводим». После владиславлевского выступления спор не кончен. А миролюбивый хозяин с целью внести успокоение в горячий спор о том, нужно ли только хорошо ставить или только хорошо играть, рассказывает нам про английского актера XVIII столетия Гаррика, как сто лет до этого вечера были те же споры и как Гаррику раз сказали: «Что ж вы, господин Гаррик, так вот безо всего так же хорошо сыграете?» — и что будто бы Гаррик взял подушку и сказал: «Вот эта подушка — ребенок, а я его мать». Начал качать и баюкать песенкой подушку, подошел к окну, дело было в четвертом этаже, нагнулся, внимательно присмотрелся, а подушку выронил, а когда повернулся к зрителям, то они... оледенели от ужаса и кинулись на помощь матери (Гаррику), уронившей ребенка (подушку).
В таких и приблизительно таких беседах проходили музилевские вечера, затягивавшиеся иногда, когда утро свободно до... ранней обедни в храме Спасителя, куда иные в сообществе того же знаменитого протодьякона и направлялись. И не было стыдно, покинув в шесть часов утра хозяина, через полчаса при мерцающих свечах собора слушать стихийное «вонмем, премудрость простим» театрала-дьякона.
Если кто-нибудь, снисходительно пробежав изложенное, скажет: «Никогда это не вернется», то я тем более попрошу моего читателя дочитать мою книгу до конца.
Для земной жизни Музиля конец его был не легок. Его годы и слабое здоровье стали на глазах приводить его к дряхлости. На сцене появилась некоторая медленность речи, по поводу чего зло глумились: «Теперь из Музиля каждое седьмое слово надо клещами тащить». Факт налицо: когда он играл, спектакль всегда шел значительно дольше, чем когда играл его «очередной». Он, не сознавая этого, перестал быть работником. Вместе с тем надо было дать дорогу молодежи, иначе бы она разбежалась.
В 1905 году стало ясно, что Федотова прикована навсегда к креслу, Никулина стала проявлять явные признаки маразма, а Музиль и Садовский, видимо, дряхлеть. Эти великие имена в данное время являлись балластом, давившем на бюджет. Уволить? Но никому не хотелось получить ломоносовский ответ: «Можно от этих сил отставить театр, но не их от театра», и вместе с тем было бы преступно лишить их сознания, что они нужны театру.
В итоге было выработано следующее: 1) каждое из названных лиц сохраняет свою пенсию, 2) каждое из них пожизненно сохраняет свой оклад в уменьшенном виде, а именно, по 4000 рублей в год (мужчины получали 8200 рублей, женщины 10 000, из-за туалетов), 3) каждое из них может брать хотя бы годовой отпуск ежегодно.
Хотя это были почетные условия, но принять их артистам, а нам объявить им об этом радости не представляло. Федотова и Садовский с величавым достоинством подчинились требованиям жизни. Впечатлительная, «подсознательная» Никулина «воевала» и в буквальном смысле (было написано три жалобы) подала и «в Сенат», и «к министрам», и «государю».
Новые условия для названных артистов решено было ввести с 1 сентября 1906 года (начало театрального года), а объявить им об этом до 1 мая. Это и было сделано. Только с Музилем я тянул: он был болен и удвоенно тяжело воспринял бы сообщение. Между тем контора требует: «Привести в исполнение меру, вами же предложенную и получившую санкцию господина директора».
Санкцию я тем не менее задерживал, хотя тут с моей стороны вовсе не требовалось гражданского мужества, ибо я знал, что директор Теляковский, бывший тогда в Париже для набора французской труппы, требовал разумного, а не «чиновничьего» выполнения своих распоряжений. Это, впрочем, не мешало этому лучшему директору Императорских театров назначать иногда людей, искренно верящих, что художник Коровин может по-египетски написать «Пролетарии всех стран...», или людей такого же рода, рабски ему льстящих.
Один из моих милых будущих начальников раз сказал мне: «Как изумительно Теляковский понимает искусство, а такой-то административное дело!» Я на это ему ответил публично, с целью его поддразнить: «Итак, вы хотите сказать, что Теляковский в администрации, а такой-то в искусстве ничего не понимают?»
Возвращаюсь к моему рассказу. Подобные представители конторы «наседают», да и время не терпит. Притом, в сентябре, при получении жалованья, Музиль все равно автоматически был бы осведомлен. Пришлось действовать политично, и я пригласил его старшего сына и врача, его лечившего, к себе. Зная от сына ранее, что у Музиля рак и что смерть неизбежна, во время нашей беседы врач заявил, что больному осталось жизни не более шести недель. Дело было в конце апреля.
Потому, конечно, все дальнейшие «предлагается Вам сообщить артисту Музилю», «напоминается Вам...», «благоволите в трехдневный срок» и т.д., — все это бросалось мною в корзину, и в июне, кажется шестого числа, в страшных мучениях артист скончался.
С теплотой благодарности вспоминаю слова его дочери, тоже артистки Малого театра, Елены Музиль, благодарившей меня... в сущности, не знаю за что, разве за несовершение неблагородной и ненужной жестокости.
Смерть Музиля отняла у Малого театра не «копеечку» юродивого, а полноценную золотую монету старинной художественной чеканки.
Дата публикации: 26.11.1839

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ МУЗИЛЬ
Из книги В.А. Нелидова «Театральная Москва. Сорок лет московских театров». М. «Материк», 2002.
Артисты Малого театра так освоились с мыслью, что их останки будут покоиться на Ваганькове, вместе с их славными предшественниками: Мочаловым, Шумским и другими, что сама мысль попасть в «Ваганьковскую труппу» делала в их глазах смерть явлением не столь грозным. Само название кладбища «Ваганьково» напоминало им название коренных русских сел. Русский человек и на свое кладбище смотрел как на свое поместье.
Когда в 1906 году от рака в страшных мучениях умирал Музиль, никто и не спрашивал, где хоронить. Само собой разумелось, что в «поместье» — Ваганькове. Вдруг задержка, тамошнее духовенство несогласно, ибо покойный был лютеранин, а кладбище православное, разрешение может дать митрополит, но он в подобных случаях отказывает. Это было в июне, когда почти все разъехались. Однако поднялась такая «буча», что разрешение было немедленно дано. Впрочем, справедливо будет добавить, что митрополит охотно пошел на просьбу и что мое выражение «буча» надо понять как незыблемость доводов.
Неужели Музиль немецкого происхождения (дед его выходец из Германии, тоже эпизодический актер и тоже комик-резонер) мог при Садовском и Макшееве найти себе «дело»? Вот его репертуар: в «Борисе Годунове» Макшеев — Варлаам, Музиль — юродивый, в «Зимней сказке» Макшеев — старых пастух, Музиль — молодой, в «Талантах и поклонниках» Островского Макшеев — антрепренер, Музиль — Нароков, в «Волках и овцах» Музиль — Чугунов, Макшеев — дворецкий, в «Виндзорских кумушках» они — судья и Форд, в «Плодах просвещения» — первый мужик и повар, во «Власти тьмы» — Аким и Митрич. В прелестном фарсе Гнедича «Венецианский истукан» Макшеев — стрелецкий голова XVII века, Музиль — «странный человек» (странник). «Дело» находилось обоим и даже в одних и тех же пьесах.
Германское происхождение Музиля не мешало ему специализироваться исключительно на русских ролях, и представить себе его играющим «иностранца», кроме подходящих ролей классического репертуара, было бы немыслимо. Музиль, как это часто бывает с обрусевшими иностранцами, и не только в третьем, но и в первом поколении, был настоящий москвич, более москвич, чем заядлые москвичи, и именно москвич, а не только русский, — москвич со всеми его особенностями и неистовым антагонизмом ко всему, что не «Москва».
Я думаю, он в душе и внешнюю сторону Москвы, «большой деревни», считал по благоустройству выше Парижа, куда он ездил с супругой иногда проветриваться, но неизменно в Париже требовал у французов «де билье пур Нис тур э ретур» (он любил и Ниццу). Дальше этой своеобразной фразы он не желал изучать иностранных языков. Зато знал и любил он свое дело, свой храм-театр, обожал его до фанатизма и считал, например, глубоким себе оскорблением всякий отзыв не предельно восторженный об Ермоловой.
В нем не надо объяснять это актерским «наигрыванием». Артист необыкновенно тепло, хочется сказать парадоксальное выражение «с элегическим комизмом», вел роль суфлера Нарокова в «Талантах и поклонниках», особенно последний акт — сцену прощания с Негиной на вокзале. И ему удавалось здесь вызывать слезы не только Ермоловой, но и своих слушателей. Но когда его за это место хвалили, он всегда отвечал: «Хорошо-то оно хорошо, сам знаю, только ведь это не я, а Ермолова делает. Как же с ней иначе прощаться? Дайте мне другую актрису, и десятой доли не получится». И, помолчав, прибавлял: «Да я и играть не смогу». Можно ли нагляднее объяснить, что такое внутренняя органическая спаянность труппы, рождающая общность, ансамбль исполнения.
Это о теплоте Музиля. Возьмем другие стороны, хотя бы комические. Пастух в шекспировской «Зимней сказке» говорит, принося младенца-принцессу, найденную на берегу: «Буря ревет, человек ревет, медведь ревет и ест человека, а человек кричит, что он дворянин и что зовут его Конрад». И с наивным сожалением прибавляет: «Но медведю это было безразлично». В эти слова Музиль вкладывал символистику, да еще в смешной форме: «медведю» ведь правда все равно, кого есть, как слепому случаю или тупой силе тоже все равно, но фраза «медведю было безразлично» цитировалась потом многие годы после спектакля и цитировалась не только в театре, а цитировалась, например, как реплика или на чей-нибудь поступок, цитировалась в шутливых тонах при проигрыше в карты, при поданном блюде, при ушедшем у вас из-под носа поезде и т.д.
Пусть воображение читателя представит себе, как мог играть комик, заставлявший потом цитировать места своих ролей. Я мог бы привести и другие примеры, но одного довольно.
Скажу лишь о третьем его качестве, а именно, о мастерстве в изображении характерных типов. Так, его Чугунов в «Волках и овцах», кулак в «Хрущевских помещиках» заставляли думать не только об Островском в первой комедии, но и о Гоголе и Щедрине. Русская психология была ясна этому русскому артисту немецкого происхождения. В подделывателе векселя (Чугунов) и в выжиге-кулаке Музиль ярко показывал, как добро и зло в русской душе есть что-то химически слитое, и не разберешь, где добро, а где зло. Когда Чугунову-Музилю говорила Федотова-Мурзавецкая: «У тебя совести нет», то его ответ «как так, нельзя, чтоб совсем не быть» ясно показывал, что Чугунов искренно признает себя мошенником, но не допускает и мысли, что можно жить «совсем без совести».
Подобные бриллианты, вкрапляемые в роль, были лучшим его свойством. «Знаешь ли ты, что такое «бавассари», что я сделать мог?» — говорит в числе своих трех-четырех фраз спившийся повар в «Плодах просвещения». Я думаю, что никто не знает, что такое «бавассари», но музилевское исполнение заставляло нас верить, что изготовление этого блюда требует долгого учения, большого труда, кулинарского гения, а в словах «что я сделать моп) слышалось отчаяние погибшего дарования, трагически молящего кухарку (Садовскую) об «одной рюмочке».
Особняком стоит его роль юродивого в пушкинском «Борисе Годунове». К сожалению, я не знаю наизусть Пушкина, а это долг каждого русского, и потому процитирую, конечно, с ошибками пять-шесть фраз юродивого в его единственном явлении, а именно: «Дай, дай копеечку», «у меня копеечка есть», «отняли копеечку, обижают юродивого», «мальчишки копеечку отняли, вели их зарезать, как ты зарезал маленького царевича», «нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Это все. Если, по удачному выражению Ключевского, Шаляпин в «Фаусте» в первые годы, в сцене заклинания цветов олицетворял собою весь средневековый мистицизм, то Музиль, конечно, в этих немногих словах, данных ему автором, олицетворял собою даже не «богоискательство», а «богонахождение» русской души. Беседуя как-то с моим другом, ныне покойным Ф.Ф. Достоевским, сыном Достоевского, я услышал от него: «Жаль, что папа Музиля в юродивом не видел. Папе бы он очень понравился». По мнению всех нас, Музиль в этой роли был достоин иметь зрителями только Достоевских и только Пушкиных, ибо перед нами был святой, и вспоминалось, что сам Иоанн IV, задушивший митрополита, не дерзнул посягнуть на блаженного. И это становилось понятным с первого входа артиста: его юродивый вне земли, в потустороннем лучшем мире, власяница или порфира, пудовые вериги или ожерелья из алмазов, копеечка или Голконда, ему все равно, не это ему надо.
Давайте разберемся. Говорят, и говорят недаром, что нет вообще человека, а не только артиста, который не мог бы сыграть одну какую-то роль, и сыграть ее так, как это не удается никому другому. В этом положении много правды, конечно, толкуя его широко. Икс или Игрек не сыграют ни одной роли ни в одной пьесе, взяв репертуар со времен Калидасы и Эсхила и кончая Клоделем, но, конечно, может встретиться «образ», который только один человек и может воплотить. Весьма возможно, что пушкинский юродивый именно в этом смысле подходил к Музилю. С внешней стороны, безусловно, да: худой, небольшого роста, восприимчивый. И зеркало его души, глаза артиста, помогало не мало.
Внешняя сторона актерского таланта обычно имеет своим основанием личное обаяние, голос и глаза. Голос и внешнее обаяние у Музиля почти отсутствовали, и тем и другим он не выделялся, но эти данные для роли юродивого не только не нужны, а, скорее, наоборот. Глаза? В них девять десятых роли, а музи-левские глаза умели сверкать остроумием, лукавством, теплиться лаской, язвить, веселиться, а главное — проникать в сердце, большие, карие, умные и такие «хорошие». Про музи-левского юродивого выражение «проникновенный взор» будет уместно.
Вот каков был Музиль, и так жаль, что трагедия Пушкина шла в последний раз в Малом театре в самом начале девяностых годов, а возобновить ее потом так и не удалось, несмотря на наличие отличного Шуйского, ибо ни Ленский, ни Рыбаков, ни Южин не решались брать на себя главной роли, а игравший ее Горев играл ее для Малого театра плохо.
Закончу мой рассказ о Музиле сообщением о его частной жизни, ибо она так интересна, такая «московская», что стоит о ней поговорить.
В своей домашней жизни артисты вообще жили сравнительно замкнуто, во-первых, в силу своего ремесла, так как, будучи постоянно на виду, дома искали они уединения, во-вторых, из-за недосуга. Каждый из видных артистов в сезон был занят не менее 4 раз в неделю. Если считать длительностью спектакля хотя бы в три с половиной часа плюс час на одевание и грим, полчаса на раздевание и по получасу в среднем на сборы по приезду и отъезду из театра, получается самое меньшее пять с половиною часов. Затем утренняя репетиция опять-таки самое меньшее четыре плюс два получаса на приезд и отъезд, всего пять часов, а в общем десять с половиной часов. Дальше работа для создания сценического образа, обдумывание и выучка роли, время на заказ платья и костюма и пр., и пр. Словом, нет времени на открытую жизнь.
Музиль представлял исключение. Отец пятерых детей, в числе прочих артистки Малого театра Рыжовой, он обожал свою семью и вместе с тем любил культурное общество. Его знала и любила вся Москва. Часто на ваше: «Извозчик, Каретная Садовая, близ Петровки», следовало: «К Николай Игнатьичу? Знаем, пожалуйте». Вы заходили в его дом с большой залой с колоннами, дом со всевозможными переходами и закоулками, и вас сразу охватывало чем-то необыкновенно спокойным и одновременно оживленным.
Тут и Мафусаил московских критиков, почтенный, широко образованный С.В. Васильев-Флеров, и представители именитого культурного купечества, и 85-летний, когда-то знаменитый в Москве в пятидесятых годах XIX столетия артист из провинции, и приходской батюшка, и даже сам протодьякон храма Спасителя, знаменитая «октава», большой театрал, тайно посещавший Малый театр, когда шли пьесы, «кои духовному лицу посещать не зазорно».
Оживленный разговор, действительно всех интересующий, снедь «московская» с ее «бесстыжей» кулебякой, «как смерть белой» белорыбицей, слезоточивым балыком, стерлядкой-«желтобрюшкой» и т.д. Конечно, и выпивали «по единой». Но не только пьяных, но и захмелевших мне в этом почтенном доме встречать не приходилось. Садимся за стол, а об ухе «московской на ершах, налимах с печеночкой-с» говорить не приходится. Все хвалят, немного почему-то мрачен обычно такой жизнерадостный А.М. Кондратьев. «Что, не нравится, Алексей Михайлович? Вы ведь сами мастер уху варить», — поддразнивают его. «Подите к черту», — рычит Кондратьев своим громогласным басом, ибо его «варение ухи» сопряжено с трагедией.
Страстный любитель рыболовства, он завел у себя дома аквариум с каким-то особым отоплением и подогреванием воды. Пустил раз это отопление и уехал в театр, забыв его закрыть, а вернувшись, застал уже много часов бурлящий кипяток. Это и была его «уха».
Чтобы его немного утешить, переходят к вопросу: «А как вы, Алексей Михайлович, в Судже играли?» Это он почему-то очень любил рассказывать. Был, если не ошибаюсь, в 1895 году спектакль в честь открытия памятника Щепкину в Судже с участием сил Малого театра. Знаменитый Щепкин был уроженец этого города. В торжественной программе, между прочим, первый акт «Марии Стюарт». Кондратьев объявил: «Я буду играть Паулета, там два слова, костюм я носить умею, в балете учился, меня не раз старый Петипа бил, и хорошо делал, голос у меня паулетовский. Он — тюремщик, и наружно я подхожу (Кондратьев был высокий, стройный, необыкновенно благообразный старик с седой, клинообразной бородой). А главное, поймите, дурачье, должен я хоть раз в жизни с Ермоловой сыграть». Конечно, роль ему дали. «А править спектакль я тоже сам буду».
Правил Кондратьев мастерски, так же, как и Черневский, всегда в пенсне, всегда с пьесой в руках «на случай», хотя все всегда знал наизусть. По натуре он был весьма суетлив и отличался рассеянностью людей глубоко сосредоточенных. Если он «правит», то только об этом и думает.
Так и на этом спектакле, все готово, все на месте, начали. Один из нас, молодежи (дело было весной, настроение веселое), сыграл с Кондратьевым шутку. Перед выходом Паулета подкараулен был момент, когда Кондратьев начнет «готовить самого себя к выходу». В этот момент к нему подошли и говорят: «А.М., сейчас Кондратьеву выходить, а его нет». Взбесился старик, кидается всюду: «Черт, дьявол, мерзавец, где Кондратьев, подать сюда, убью» и пр. В последнюю секунду ему говорят: «Да ведь это же вы». Кондратьев взглянул оком грозного царя, швырнул в кого-то книгой и вышел на сцену в костюме эпохи Елизаветы Английской, забыв... снять пенсне.
Сама Ермолова не удержалась от улыбки: «Но публика ничего не заметила, — заканчивал Кондратьев. — Стал это я, как Ольридж, в три четверти спиной к публике (спиной и тогда играли), величественным жестом поднял руку, а по дороге окаянное пенсне успел сбросить».
Красна была изба Музиля и «пирогами», и шуткой «безобидной». После трапезы в одном углу Садовский сыплет своими эпиграммами, тихий и светлый Макшеев скромно слушает комплименты исполнению своей роли Большинцова в тургеневском «Месяце в деревне» и на удивление энтузиаста, почему пьеса не делает сборов, заявляет: «Понятно! Ну кто в Москве сейчас, в ноябре, поедет на месяц в деревню?»
Разговор, конечно, вертится вокруг театра. Я уже говорил, что это была эпоха перелома, когда вместо индивидуального творчества нам подсовывали что-то другое. И должен сказать откровенно, что это «другое» вне индивидуального творчества я не только принять, но и понять никогда не мог. Но тогда была эпоха «Бури и натиска». А лозунг был — «настроение», которое кинулись создавать внешними приемами. Конечно, на названном вечере был разговор о настроении и режиссуре.
Старый милый Музиль пускает в ход тяжелую артиллерию — Ермолову и Островского. «Хорошо, — говорят ему, — а ставить-то ведь надо? Не вы ли сами на свой счет для пьесы Островского декорацию сделали, когда дирекция не давала, а сами говорите — ставить не надо?» Музиль защищается тем, что это было «для Островского».
Обмен мыслей все «оживленнее». Переходят к театральному освещению. Жалуются, что в Малом театре и в полдень в Сахаре, и в полночь на полюсе свет один, а свет-то и дает настроение. Свет важнее декораций и костюмов, и это положение с пеной у рта отстаивают новаторы.
Вопрос так ясен, так очевиден, что ретроградам спасения нет. «Вот оно, новое... Свет дает настроение радости, скорби, жути, сосредотачивает и углубляет внимание. Вот оно новое, а вы...» — доканчивают ликующе сторонники нового течения. «Новое ли? — слышится громовой «глас» протодьякона. — А вот в третьем веке христианства — так в уставе написано, в семинарии учил, — при богослужении на малом выходе обедни полагался свет тихий, при херувимской — торжественный, при шестопсалмии на всенощной — единая свеча в руке чтеца и т.д. Отцы церкви установили сие, дабы молящемуся помочь, по-вашему, стало быть, в должное настроение его привести. Но я разумею, что единым зажиганием и тушением свечи молиться не заставишь, иное тут требуется». «Верно! — кричит старец Владиславлев. — И одна душа без прочего, победить может». Подбегает к роялю и на восемьдесят шестом году, сам себе аккомпанируя, поет (конечно, без признака голоса), поет так, что на все утро в Москве острят: «Владиславлев вчера у Музиля всех захватил, видно, скоро его на Ваганьково проводим». После владиславлевского выступления спор не кончен. А миролюбивый хозяин с целью внести успокоение в горячий спор о том, нужно ли только хорошо ставить или только хорошо играть, рассказывает нам про английского актера XVIII столетия Гаррика, как сто лет до этого вечера были те же споры и как Гаррику раз сказали: «Что ж вы, господин Гаррик, так вот безо всего так же хорошо сыграете?» — и что будто бы Гаррик взял подушку и сказал: «Вот эта подушка — ребенок, а я его мать». Начал качать и баюкать песенкой подушку, подошел к окну, дело было в четвертом этаже, нагнулся, внимательно присмотрелся, а подушку выронил, а когда повернулся к зрителям, то они... оледенели от ужаса и кинулись на помощь матери (Гаррику), уронившей ребенка (подушку).
В таких и приблизительно таких беседах проходили музилевские вечера, затягивавшиеся иногда, когда утро свободно до... ранней обедни в храме Спасителя, куда иные в сообществе того же знаменитого протодьякона и направлялись. И не было стыдно, покинув в шесть часов утра хозяина, через полчаса при мерцающих свечах собора слушать стихийное «вонмем, премудрость простим» театрала-дьякона.
Если кто-нибудь, снисходительно пробежав изложенное, скажет: «Никогда это не вернется», то я тем более попрошу моего читателя дочитать мою книгу до конца.
Для земной жизни Музиля конец его был не легок. Его годы и слабое здоровье стали на глазах приводить его к дряхлости. На сцене появилась некоторая медленность речи, по поводу чего зло глумились: «Теперь из Музиля каждое седьмое слово надо клещами тащить». Факт налицо: когда он играл, спектакль всегда шел значительно дольше, чем когда играл его «очередной». Он, не сознавая этого, перестал быть работником. Вместе с тем надо было дать дорогу молодежи, иначе бы она разбежалась.
В 1905 году стало ясно, что Федотова прикована навсегда к креслу, Никулина стала проявлять явные признаки маразма, а Музиль и Садовский, видимо, дряхлеть. Эти великие имена в данное время являлись балластом, давившем на бюджет. Уволить? Но никому не хотелось получить ломоносовский ответ: «Можно от этих сил отставить театр, но не их от театра», и вместе с тем было бы преступно лишить их сознания, что они нужны театру.
В итоге было выработано следующее: 1) каждое из названных лиц сохраняет свою пенсию, 2) каждое из них пожизненно сохраняет свой оклад в уменьшенном виде, а именно, по 4000 рублей в год (мужчины получали 8200 рублей, женщины 10 000, из-за туалетов), 3) каждое из них может брать хотя бы годовой отпуск ежегодно.
Хотя это были почетные условия, но принять их артистам, а нам объявить им об этом радости не представляло. Федотова и Садовский с величавым достоинством подчинились требованиям жизни. Впечатлительная, «подсознательная» Никулина «воевала» и в буквальном смысле (было написано три жалобы) подала и «в Сенат», и «к министрам», и «государю».
Новые условия для названных артистов решено было ввести с 1 сентября 1906 года (начало театрального года), а объявить им об этом до 1 мая. Это и было сделано. Только с Музилем я тянул: он был болен и удвоенно тяжело воспринял бы сообщение. Между тем контора требует: «Привести в исполнение меру, вами же предложенную и получившую санкцию господина директора».
Санкцию я тем не менее задерживал, хотя тут с моей стороны вовсе не требовалось гражданского мужества, ибо я знал, что директор Теляковский, бывший тогда в Париже для набора французской труппы, требовал разумного, а не «чиновничьего» выполнения своих распоряжений. Это, впрочем, не мешало этому лучшему директору Императорских театров назначать иногда людей, искренно верящих, что художник Коровин может по-египетски написать «Пролетарии всех стран...», или людей такого же рода, рабски ему льстящих.
Один из моих милых будущих начальников раз сказал мне: «Как изумительно Теляковский понимает искусство, а такой-то административное дело!» Я на это ему ответил публично, с целью его поддразнить: «Итак, вы хотите сказать, что Теляковский в администрации, а такой-то в искусстве ничего не понимают?»
Возвращаюсь к моему рассказу. Подобные представители конторы «наседают», да и время не терпит. Притом, в сентябре, при получении жалованья, Музиль все равно автоматически был бы осведомлен. Пришлось действовать политично, и я пригласил его старшего сына и врача, его лечившего, к себе. Зная от сына ранее, что у Музиля рак и что смерть неизбежна, во время нашей беседы врач заявил, что больному осталось жизни не более шести недель. Дело было в конце апреля.
Потому, конечно, все дальнейшие «предлагается Вам сообщить артисту Музилю», «напоминается Вам...», «благоволите в трехдневный срок» и т.д., — все это бросалось мною в корзину, и в июне, кажется шестого числа, в страшных мучениях артист скончался.
С теплотой благодарности вспоминаю слова его дочери, тоже артистки Малого театра, Елены Музиль, благодарившей меня... в сущности, не знаю за что, разве за несовершение неблагородной и ненужной жестокости.
Смерть Музиля отняла у Малого театра не «копеечку» юродивого, а полноценную золотую монету старинной художественной чеканки.
Из книги В.А. Нелидова «Театральная Москва. Сорок лет московских театров». М. «Материк», 2002.
Артисты Малого театра так освоились с мыслью, что их останки будут покоиться на Ваганькове, вместе с их славными предшественниками: Мочаловым, Шумским и другими, что сама мысль попасть в «Ваганьковскую труппу» делала в их глазах смерть явлением не столь грозным. Само название кладбища «Ваганьково» напоминало им название коренных русских сел. Русский человек и на свое кладбище смотрел как на свое поместье.
Когда в 1906 году от рака в страшных мучениях умирал Музиль, никто и не спрашивал, где хоронить. Само собой разумелось, что в «поместье» — Ваганькове. Вдруг задержка, тамошнее духовенство несогласно, ибо покойный был лютеранин, а кладбище православное, разрешение может дать митрополит, но он в подобных случаях отказывает. Это было в июне, когда почти все разъехались. Однако поднялась такая «буча», что разрешение было немедленно дано. Впрочем, справедливо будет добавить, что митрополит охотно пошел на просьбу и что мое выражение «буча» надо понять как незыблемость доводов.
Неужели Музиль немецкого происхождения (дед его выходец из Германии, тоже эпизодический актер и тоже комик-резонер) мог при Садовском и Макшееве найти себе «дело»? Вот его репертуар: в «Борисе Годунове» Макшеев — Варлаам, Музиль — юродивый, в «Зимней сказке» Макшеев — старых пастух, Музиль — молодой, в «Талантах и поклонниках» Островского Макшеев — антрепренер, Музиль — Нароков, в «Волках и овцах» Музиль — Чугунов, Макшеев — дворецкий, в «Виндзорских кумушках» они — судья и Форд, в «Плодах просвещения» — первый мужик и повар, во «Власти тьмы» — Аким и Митрич. В прелестном фарсе Гнедича «Венецианский истукан» Макшеев — стрелецкий голова XVII века, Музиль — «странный человек» (странник). «Дело» находилось обоим и даже в одних и тех же пьесах.
Германское происхождение Музиля не мешало ему специализироваться исключительно на русских ролях, и представить себе его играющим «иностранца», кроме подходящих ролей классического репертуара, было бы немыслимо. Музиль, как это часто бывает с обрусевшими иностранцами, и не только в третьем, но и в первом поколении, был настоящий москвич, более москвич, чем заядлые москвичи, и именно москвич, а не только русский, — москвич со всеми его особенностями и неистовым антагонизмом ко всему, что не «Москва».
Я думаю, он в душе и внешнюю сторону Москвы, «большой деревни», считал по благоустройству выше Парижа, куда он ездил с супругой иногда проветриваться, но неизменно в Париже требовал у французов «де билье пур Нис тур э ретур» (он любил и Ниццу). Дальше этой своеобразной фразы он не желал изучать иностранных языков. Зато знал и любил он свое дело, свой храм-театр, обожал его до фанатизма и считал, например, глубоким себе оскорблением всякий отзыв не предельно восторженный об Ермоловой.
В нем не надо объяснять это актерским «наигрыванием». Артист необыкновенно тепло, хочется сказать парадоксальное выражение «с элегическим комизмом», вел роль суфлера Нарокова в «Талантах и поклонниках», особенно последний акт — сцену прощания с Негиной на вокзале. И ему удавалось здесь вызывать слезы не только Ермоловой, но и своих слушателей. Но когда его за это место хвалили, он всегда отвечал: «Хорошо-то оно хорошо, сам знаю, только ведь это не я, а Ермолова делает. Как же с ней иначе прощаться? Дайте мне другую актрису, и десятой доли не получится». И, помолчав, прибавлял: «Да я и играть не смогу». Можно ли нагляднее объяснить, что такое внутренняя органическая спаянность труппы, рождающая общность, ансамбль исполнения.
Это о теплоте Музиля. Возьмем другие стороны, хотя бы комические. Пастух в шекспировской «Зимней сказке» говорит, принося младенца-принцессу, найденную на берегу: «Буря ревет, человек ревет, медведь ревет и ест человека, а человек кричит, что он дворянин и что зовут его Конрад». И с наивным сожалением прибавляет: «Но медведю это было безразлично». В эти слова Музиль вкладывал символистику, да еще в смешной форме: «медведю» ведь правда все равно, кого есть, как слепому случаю или тупой силе тоже все равно, но фраза «медведю было безразлично» цитировалась потом многие годы после спектакля и цитировалась не только в театре, а цитировалась, например, как реплика или на чей-нибудь поступок, цитировалась в шутливых тонах при проигрыше в карты, при поданном блюде, при ушедшем у вас из-под носа поезде и т.д.
Пусть воображение читателя представит себе, как мог играть комик, заставлявший потом цитировать места своих ролей. Я мог бы привести и другие примеры, но одного довольно.
Скажу лишь о третьем его качестве, а именно, о мастерстве в изображении характерных типов. Так, его Чугунов в «Волках и овцах», кулак в «Хрущевских помещиках» заставляли думать не только об Островском в первой комедии, но и о Гоголе и Щедрине. Русская психология была ясна этому русскому артисту немецкого происхождения. В подделывателе векселя (Чугунов) и в выжиге-кулаке Музиль ярко показывал, как добро и зло в русской душе есть что-то химически слитое, и не разберешь, где добро, а где зло. Когда Чугунову-Музилю говорила Федотова-Мурзавецкая: «У тебя совести нет», то его ответ «как так, нельзя, чтоб совсем не быть» ясно показывал, что Чугунов искренно признает себя мошенником, но не допускает и мысли, что можно жить «совсем без совести».
Подобные бриллианты, вкрапляемые в роль, были лучшим его свойством. «Знаешь ли ты, что такое «бавассари», что я сделать мог?» — говорит в числе своих трех-четырех фраз спившийся повар в «Плодах просвещения». Я думаю, что никто не знает, что такое «бавассари», но музилевское исполнение заставляло нас верить, что изготовление этого блюда требует долгого учения, большого труда, кулинарского гения, а в словах «что я сделать моп) слышалось отчаяние погибшего дарования, трагически молящего кухарку (Садовскую) об «одной рюмочке».
Особняком стоит его роль юродивого в пушкинском «Борисе Годунове». К сожалению, я не знаю наизусть Пушкина, а это долг каждого русского, и потому процитирую, конечно, с ошибками пять-шесть фраз юродивого в его единственном явлении, а именно: «Дай, дай копеечку», «у меня копеечка есть», «отняли копеечку, обижают юродивого», «мальчишки копеечку отняли, вели их зарезать, как ты зарезал маленького царевича», «нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Это все. Если, по удачному выражению Ключевского, Шаляпин в «Фаусте» в первые годы, в сцене заклинания цветов олицетворял собою весь средневековый мистицизм, то Музиль, конечно, в этих немногих словах, данных ему автором, олицетворял собою даже не «богоискательство», а «богонахождение» русской души. Беседуя как-то с моим другом, ныне покойным Ф.Ф. Достоевским, сыном Достоевского, я услышал от него: «Жаль, что папа Музиля в юродивом не видел. Папе бы он очень понравился». По мнению всех нас, Музиль в этой роли был достоин иметь зрителями только Достоевских и только Пушкиных, ибо перед нами был святой, и вспоминалось, что сам Иоанн IV, задушивший митрополита, не дерзнул посягнуть на блаженного. И это становилось понятным с первого входа артиста: его юродивый вне земли, в потустороннем лучшем мире, власяница или порфира, пудовые вериги или ожерелья из алмазов, копеечка или Голконда, ему все равно, не это ему надо.
Давайте разберемся. Говорят, и говорят недаром, что нет вообще человека, а не только артиста, который не мог бы сыграть одну какую-то роль, и сыграть ее так, как это не удается никому другому. В этом положении много правды, конечно, толкуя его широко. Икс или Игрек не сыграют ни одной роли ни в одной пьесе, взяв репертуар со времен Калидасы и Эсхила и кончая Клоделем, но, конечно, может встретиться «образ», который только один человек и может воплотить. Весьма возможно, что пушкинский юродивый именно в этом смысле подходил к Музилю. С внешней стороны, безусловно, да: худой, небольшого роста, восприимчивый. И зеркало его души, глаза артиста, помогало не мало.
Внешняя сторона актерского таланта обычно имеет своим основанием личное обаяние, голос и глаза. Голос и внешнее обаяние у Музиля почти отсутствовали, и тем и другим он не выделялся, но эти данные для роли юродивого не только не нужны, а, скорее, наоборот. Глаза? В них девять десятых роли, а музи-левские глаза умели сверкать остроумием, лукавством, теплиться лаской, язвить, веселиться, а главное — проникать в сердце, большие, карие, умные и такие «хорошие». Про музи-левского юродивого выражение «проникновенный взор» будет уместно.
Вот каков был Музиль, и так жаль, что трагедия Пушкина шла в последний раз в Малом театре в самом начале девяностых годов, а возобновить ее потом так и не удалось, несмотря на наличие отличного Шуйского, ибо ни Ленский, ни Рыбаков, ни Южин не решались брать на себя главной роли, а игравший ее Горев играл ее для Малого театра плохо.
Закончу мой рассказ о Музиле сообщением о его частной жизни, ибо она так интересна, такая «московская», что стоит о ней поговорить.
В своей домашней жизни артисты вообще жили сравнительно замкнуто, во-первых, в силу своего ремесла, так как, будучи постоянно на виду, дома искали они уединения, во-вторых, из-за недосуга. Каждый из видных артистов в сезон был занят не менее 4 раз в неделю. Если считать длительностью спектакля хотя бы в три с половиной часа плюс час на одевание и грим, полчаса на раздевание и по получасу в среднем на сборы по приезду и отъезду из театра, получается самое меньшее пять с половиною часов. Затем утренняя репетиция опять-таки самое меньшее четыре плюс два получаса на приезд и отъезд, всего пять часов, а в общем десять с половиной часов. Дальше работа для создания сценического образа, обдумывание и выучка роли, время на заказ платья и костюма и пр., и пр. Словом, нет времени на открытую жизнь.
Музиль представлял исключение. Отец пятерых детей, в числе прочих артистки Малого театра Рыжовой, он обожал свою семью и вместе с тем любил культурное общество. Его знала и любила вся Москва. Часто на ваше: «Извозчик, Каретная Садовая, близ Петровки», следовало: «К Николай Игнатьичу? Знаем, пожалуйте». Вы заходили в его дом с большой залой с колоннами, дом со всевозможными переходами и закоулками, и вас сразу охватывало чем-то необыкновенно спокойным и одновременно оживленным.
Тут и Мафусаил московских критиков, почтенный, широко образованный С.В. Васильев-Флеров, и представители именитого культурного купечества, и 85-летний, когда-то знаменитый в Москве в пятидесятых годах XIX столетия артист из провинции, и приходской батюшка, и даже сам протодьякон храма Спасителя, знаменитая «октава», большой театрал, тайно посещавший Малый театр, когда шли пьесы, «кои духовному лицу посещать не зазорно».
Оживленный разговор, действительно всех интересующий, снедь «московская» с ее «бесстыжей» кулебякой, «как смерть белой» белорыбицей, слезоточивым балыком, стерлядкой-«желтобрюшкой» и т.д. Конечно, и выпивали «по единой». Но не только пьяных, но и захмелевших мне в этом почтенном доме встречать не приходилось. Садимся за стол, а об ухе «московской на ершах, налимах с печеночкой-с» говорить не приходится. Все хвалят, немного почему-то мрачен обычно такой жизнерадостный А.М. Кондратьев. «Что, не нравится, Алексей Михайлович? Вы ведь сами мастер уху варить», — поддразнивают его. «Подите к черту», — рычит Кондратьев своим громогласным басом, ибо его «варение ухи» сопряжено с трагедией.
Страстный любитель рыболовства, он завел у себя дома аквариум с каким-то особым отоплением и подогреванием воды. Пустил раз это отопление и уехал в театр, забыв его закрыть, а вернувшись, застал уже много часов бурлящий кипяток. Это и была его «уха».
Чтобы его немного утешить, переходят к вопросу: «А как вы, Алексей Михайлович, в Судже играли?» Это он почему-то очень любил рассказывать. Был, если не ошибаюсь, в 1895 году спектакль в честь открытия памятника Щепкину в Судже с участием сил Малого театра. Знаменитый Щепкин был уроженец этого города. В торжественной программе, между прочим, первый акт «Марии Стюарт». Кондратьев объявил: «Я буду играть Паулета, там два слова, костюм я носить умею, в балете учился, меня не раз старый Петипа бил, и хорошо делал, голос у меня паулетовский. Он — тюремщик, и наружно я подхожу (Кондратьев был высокий, стройный, необыкновенно благообразный старик с седой, клинообразной бородой). А главное, поймите, дурачье, должен я хоть раз в жизни с Ермоловой сыграть». Конечно, роль ему дали. «А править спектакль я тоже сам буду».
Правил Кондратьев мастерски, так же, как и Черневский, всегда в пенсне, всегда с пьесой в руках «на случай», хотя все всегда знал наизусть. По натуре он был весьма суетлив и отличался рассеянностью людей глубоко сосредоточенных. Если он «правит», то только об этом и думает.
Так и на этом спектакле, все готово, все на месте, начали. Один из нас, молодежи (дело было весной, настроение веселое), сыграл с Кондратьевым шутку. Перед выходом Паулета подкараулен был момент, когда Кондратьев начнет «готовить самого себя к выходу». В этот момент к нему подошли и говорят: «А.М., сейчас Кондратьеву выходить, а его нет». Взбесился старик, кидается всюду: «Черт, дьявол, мерзавец, где Кондратьев, подать сюда, убью» и пр. В последнюю секунду ему говорят: «Да ведь это же вы». Кондратьев взглянул оком грозного царя, швырнул в кого-то книгой и вышел на сцену в костюме эпохи Елизаветы Английской, забыв... снять пенсне.
Сама Ермолова не удержалась от улыбки: «Но публика ничего не заметила, — заканчивал Кондратьев. — Стал это я, как Ольридж, в три четверти спиной к публике (спиной и тогда играли), величественным жестом поднял руку, а по дороге окаянное пенсне успел сбросить».
Красна была изба Музиля и «пирогами», и шуткой «безобидной». После трапезы в одном углу Садовский сыплет своими эпиграммами, тихий и светлый Макшеев скромно слушает комплименты исполнению своей роли Большинцова в тургеневском «Месяце в деревне» и на удивление энтузиаста, почему пьеса не делает сборов, заявляет: «Понятно! Ну кто в Москве сейчас, в ноябре, поедет на месяц в деревню?»
Разговор, конечно, вертится вокруг театра. Я уже говорил, что это была эпоха перелома, когда вместо индивидуального творчества нам подсовывали что-то другое. И должен сказать откровенно, что это «другое» вне индивидуального творчества я не только принять, но и понять никогда не мог. Но тогда была эпоха «Бури и натиска». А лозунг был — «настроение», которое кинулись создавать внешними приемами. Конечно, на названном вечере был разговор о настроении и режиссуре.
Старый милый Музиль пускает в ход тяжелую артиллерию — Ермолову и Островского. «Хорошо, — говорят ему, — а ставить-то ведь надо? Не вы ли сами на свой счет для пьесы Островского декорацию сделали, когда дирекция не давала, а сами говорите — ставить не надо?» Музиль защищается тем, что это было «для Островского».
Обмен мыслей все «оживленнее». Переходят к театральному освещению. Жалуются, что в Малом театре и в полдень в Сахаре, и в полночь на полюсе свет один, а свет-то и дает настроение. Свет важнее декораций и костюмов, и это положение с пеной у рта отстаивают новаторы.
Вопрос так ясен, так очевиден, что ретроградам спасения нет. «Вот оно, новое... Свет дает настроение радости, скорби, жути, сосредотачивает и углубляет внимание. Вот оно новое, а вы...» — доканчивают ликующе сторонники нового течения. «Новое ли? — слышится громовой «глас» протодьякона. — А вот в третьем веке христианства — так в уставе написано, в семинарии учил, — при богослужении на малом выходе обедни полагался свет тихий, при херувимской — торжественный, при шестопсалмии на всенощной — единая свеча в руке чтеца и т.д. Отцы церкви установили сие, дабы молящемуся помочь, по-вашему, стало быть, в должное настроение его привести. Но я разумею, что единым зажиганием и тушением свечи молиться не заставишь, иное тут требуется». «Верно! — кричит старец Владиславлев. — И одна душа без прочего, победить может». Подбегает к роялю и на восемьдесят шестом году, сам себе аккомпанируя, поет (конечно, без признака голоса), поет так, что на все утро в Москве острят: «Владиславлев вчера у Музиля всех захватил, видно, скоро его на Ваганьково проводим». После владиславлевского выступления спор не кончен. А миролюбивый хозяин с целью внести успокоение в горячий спор о том, нужно ли только хорошо ставить или только хорошо играть, рассказывает нам про английского актера XVIII столетия Гаррика, как сто лет до этого вечера были те же споры и как Гаррику раз сказали: «Что ж вы, господин Гаррик, так вот безо всего так же хорошо сыграете?» — и что будто бы Гаррик взял подушку и сказал: «Вот эта подушка — ребенок, а я его мать». Начал качать и баюкать песенкой подушку, подошел к окну, дело было в четвертом этаже, нагнулся, внимательно присмотрелся, а подушку выронил, а когда повернулся к зрителям, то они... оледенели от ужаса и кинулись на помощь матери (Гаррику), уронившей ребенка (подушку).
В таких и приблизительно таких беседах проходили музилевские вечера, затягивавшиеся иногда, когда утро свободно до... ранней обедни в храме Спасителя, куда иные в сообществе того же знаменитого протодьякона и направлялись. И не было стыдно, покинув в шесть часов утра хозяина, через полчаса при мерцающих свечах собора слушать стихийное «вонмем, премудрость простим» театрала-дьякона.
Если кто-нибудь, снисходительно пробежав изложенное, скажет: «Никогда это не вернется», то я тем более попрошу моего читателя дочитать мою книгу до конца.
Для земной жизни Музиля конец его был не легок. Его годы и слабое здоровье стали на глазах приводить его к дряхлости. На сцене появилась некоторая медленность речи, по поводу чего зло глумились: «Теперь из Музиля каждое седьмое слово надо клещами тащить». Факт налицо: когда он играл, спектакль всегда шел значительно дольше, чем когда играл его «очередной». Он, не сознавая этого, перестал быть работником. Вместе с тем надо было дать дорогу молодежи, иначе бы она разбежалась.
В 1905 году стало ясно, что Федотова прикована навсегда к креслу, Никулина стала проявлять явные признаки маразма, а Музиль и Садовский, видимо, дряхлеть. Эти великие имена в данное время являлись балластом, давившем на бюджет. Уволить? Но никому не хотелось получить ломоносовский ответ: «Можно от этих сил отставить театр, но не их от театра», и вместе с тем было бы преступно лишить их сознания, что они нужны театру.
В итоге было выработано следующее: 1) каждое из названных лиц сохраняет свою пенсию, 2) каждое из них пожизненно сохраняет свой оклад в уменьшенном виде, а именно, по 4000 рублей в год (мужчины получали 8200 рублей, женщины 10 000, из-за туалетов), 3) каждое из них может брать хотя бы годовой отпуск ежегодно.
Хотя это были почетные условия, но принять их артистам, а нам объявить им об этом радости не представляло. Федотова и Садовский с величавым достоинством подчинились требованиям жизни. Впечатлительная, «подсознательная» Никулина «воевала» и в буквальном смысле (было написано три жалобы) подала и «в Сенат», и «к министрам», и «государю».
Новые условия для названных артистов решено было ввести с 1 сентября 1906 года (начало театрального года), а объявить им об этом до 1 мая. Это и было сделано. Только с Музилем я тянул: он был болен и удвоенно тяжело воспринял бы сообщение. Между тем контора требует: «Привести в исполнение меру, вами же предложенную и получившую санкцию господина директора».
Санкцию я тем не менее задерживал, хотя тут с моей стороны вовсе не требовалось гражданского мужества, ибо я знал, что директор Теляковский, бывший тогда в Париже для набора французской труппы, требовал разумного, а не «чиновничьего» выполнения своих распоряжений. Это, впрочем, не мешало этому лучшему директору Императорских театров назначать иногда людей, искренно верящих, что художник Коровин может по-египетски написать «Пролетарии всех стран...», или людей такого же рода, рабски ему льстящих.
Один из моих милых будущих начальников раз сказал мне: «Как изумительно Теляковский понимает искусство, а такой-то административное дело!» Я на это ему ответил публично, с целью его поддразнить: «Итак, вы хотите сказать, что Теляковский в администрации, а такой-то в искусстве ничего не понимают?»
Возвращаюсь к моему рассказу. Подобные представители конторы «наседают», да и время не терпит. Притом, в сентябре, при получении жалованья, Музиль все равно автоматически был бы осведомлен. Пришлось действовать политично, и я пригласил его старшего сына и врача, его лечившего, к себе. Зная от сына ранее, что у Музиля рак и что смерть неизбежна, во время нашей беседы врач заявил, что больному осталось жизни не более шести недель. Дело было в конце апреля.
Потому, конечно, все дальнейшие «предлагается Вам сообщить артисту Музилю», «напоминается Вам...», «благоволите в трехдневный срок» и т.д., — все это бросалось мною в корзину, и в июне, кажется шестого числа, в страшных мучениях артист скончался.
С теплотой благодарности вспоминаю слова его дочери, тоже артистки Малого театра, Елены Музиль, благодарившей меня... в сущности, не знаю за что, разве за несовершение неблагородной и ненужной жестокости.
Смерть Музиля отняла у Малого театра не «копеечку» юродивого, а полноценную золотую монету старинной художественной чеканки.
Дата публикации: 26.11.1839