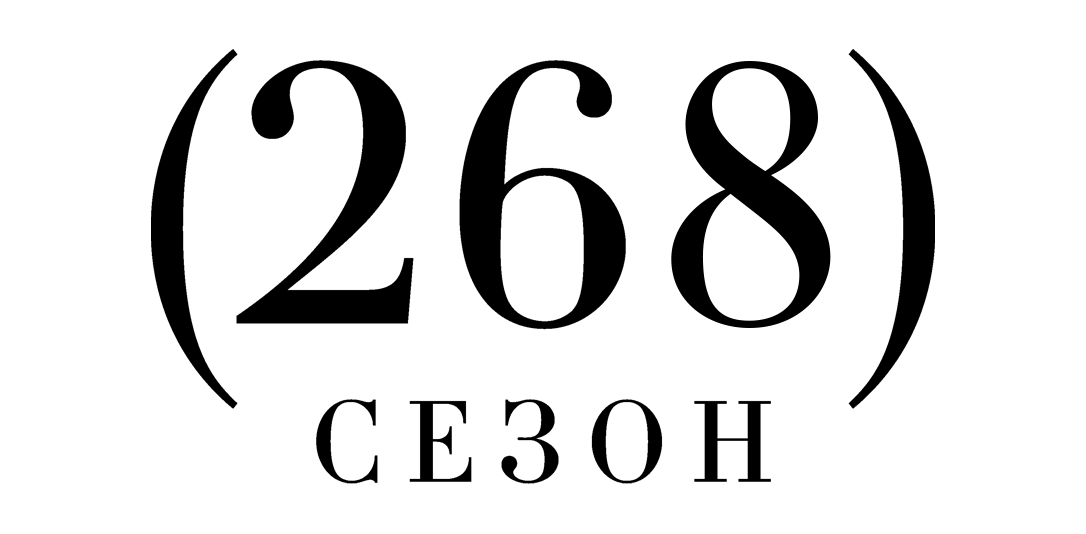Новости
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ». ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой» Е.Н. ГОГОЛЕВА «НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ». ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ (окончание)
Мы переехали в Москву, и начались хлопоты. Во-первых, следовало обзавестись жильем. Нашли маленькую квартирку на Зубовском бульваре, Дворцовый проезд. Далее, предстояло выбирать, где же мне учиться. О частной школе нечего было и думать—на это не хватало средств. Надо было ехать в Петроград — пытаться поступить в школу при Александрийском театре. Как дочь раненого офицера меня могли принять на казенный счет. Но ехать в далекий Питер, где нет никого знакомых... И страшно, и не хочется отрываться от родной Москвы.
Выяснилось, что на казенный счет меня могли бы. принять на драматическое отделение Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. И тут было решено обратиться за советом не более и не менее как к самому А. И. Южину, первому актеру Малого театра и кумиру нашей семьи. Мы не имели с ним никаких общих знакомых, никого, кто бы мог ввести нас к этому знаменитому человеку. И мама написала ему письмо. В нем она просила о визите и, разумеется, охарактеризовала свою единственную дочь как будущую Ермолову.
И вот Александр Иванович Южин, вероятно, посмеиваясь в душе, все же, несмотря на огромную занятость, назначил нам день и час визита. Помню обстановку квартиры Александра Ивановича, ибо потом часто бывала там, подружившись на всю жизнь с племянницей Южина — Мусей Богуславской. Александр Иванович занимал целый этаж дома. Вместе с ним жила его жена, живая и обаятельная Мария Николаевна, его сестра Екатерина Ивановна, вдова, с дочкой Мусей, в которой Южины души не чаяли, и брат Владимир Иванович с семьей, которых я не знала, так как обитали они совершенно обособленно.
Итак, мы в темной, большой передней. Из нее через гостиную, убранную чуть-чуть в восточном вкусе (мельком увидела в стеклянном шкафу массу венков, сувениров и подношений замечательному артисту), прошли в большой угловой кабинет, весь заставленный книжными шкафами. Книги были не только в шкафу, но и всюду на столах. За большим письменным столом сидел Александр Иванович. Как сейчас помню его сутуловатую, большую фигуру. Он любезно поднялся нам навстречу.
О чем говорила мама, что был за разговор, я не помню. Понимала, что решается моя судьба. И очнулась лишь тогда, когда все с той же приветливой любезной улыбкой Александр Иванович предложил мне что-нибудь прочесть. Я пришла в себя. О! Тут уже все ясно. Мама прожужжала мне все уши, что я будущая Ермолова. И, конечно же, я должна была читать монолог из «Орлеанской девы» Шиллера, который так гениально читала сама великая Ермолова. Я прочла монолог «Простите вы, холмы, поля родные», какую-то басню, потом некрасовскую «Катерину». Александр Иванович слушал внимательно, не перебивая, и, когда я исчерпала весь свой репертуар, серьезно, без улыбки, не глядя на меня и что-то обдумывая, молчал. Молчали и мы с мамой. Какие мысли витали в голове моей тщеславной матушки—не знаю. Я же твердо была уверена, что читала отвратительно и провалилась.
И вообще, какая невероятная дерзость—прийти сюда, отнимать время—и у кого?! У самого Южина! Вот он и молчит, не зная, вероятно, как бы деликатнее нас выпроводить. Тут до моего сознания долетели слова: «В филармонии сейчас преподают все актеры нашего Малого театра, отдайте вашу дочь в Филармонию — так она будет ближе к нам!» На всю жизнь запомнились мне эти слова Александра Ивановича. А тогда, если можно было бы упасть без чувств от счастья, наверное, упала бы. Во всяком случае, все дальнейшее происходило как в тумане. Не помню, как мы простились с Александром Ивановичем, как ушли.
Были посланы просьбы о зачислении меня на казенный счет в Филармонию. Конечно, если Выдержу экзамены. Начались мои приготовления к этому серьезному испытанию. Готовила я, разумеется, те же произведения, что читала Южину. Напутственные слова Александра Ивановича хоть и ободрили меня, все же не изгнали из души некоторых сомнений. «А что если это были только любезные слова, сказанные, чтобы вежливо отделаться от назойливой мамаши, которая считает свою незадачливую дочь чуть ли не гением?!» Я не делилась с мамой этими мыслями. Она торжествовала и ни минуты не сомневалась, что я с блеском выдержу экзамены.
Наконец настал решающий день. Как сейчас помню мою альма-матер (теперь в этом здании находится ГИТИС). Во дворе — большой двухэтажный особняк. Широкая лестница в глубине полутемного холла. Наверху площадка, где сидели, ходили и стояли взволнованные девушки и юноши. Слева—громадные двери, за которыми находился большой зал и сидели они, наши экзаменаторы, вершители наших судеб. До мельчайших подробностей помню даже платье, в которое была одета: самое лучшее, какое у меня имелось, скромное черненькое платье. Но зато мама дала мне янтарные серьги и брошь! Среди жаждущих и дрожащих новичков встречались и «опытные» уже второкурсники, критически нас оглядывавшие и дававшие свысока «полезные советы». Удивительно приятный юноша, тоже со второго курса, своей доброжелательностью, юмором и потрясающей способностью копировать всем нам знакомых актеров поддерживал в нас, умиравших от страха, бодрость и надежду. Юноша этот был, как он себя всем рекомендовал, Шура Никольский»
Впоследствии я узнала его как чудесного товарища, любимца Филармонии, а еще через несколько лет и талантливейшего актера Малого театра Сашина-Никольского. С ним до конца его жизни меня связывала сердечная дружба. Да и в театре он был общим любимцем.
Тогда же Шура искоса присматривался ко мне и наконец, явно почувствовав, несмотря на независимый вид, мое адское волнение, не выдержал и подошел. Спросил, что я намерена читать на экзамене. «Пролог «Орлеанской девы» — это значит «Простите вы, холмы, поля родные,..», да?—протянул он многозначительно. — Героиня, значит. Так-так... А раньше вы что-нибудь играли, в любительских спектаклях, я подразумеваю?» С апломбом и уверенностью я назвала ряд ролей, которые, как мне думалось, я с успехом воплощала в маленьком клубе в Новогирееве, а до этого в классах института. И еще раньше, в антрепризе Собольщикова-Самарина. «Да,— сурово произнес Шура Никольский,—стаж порядочный. Только знаете что я вам посоветую? Не вздумайте все это выложить экзаменаторам, они таких «опытных» актеров не очень-то жалуют!» Вот тебе и на! А я-то думала!.. Но думать было некогда—меня вызвали в зал.
За столом сидело много совсем незнакомых мне людей. Никого из актеров я со страху не узнала, хотя не раз видела их на сцене. Помню только, что самый главный, председатель, был очень крупный мужчина, с довольно красивым лицом. Как я впоследствии узнала, это был Н. Н. Греков, в прошлом актер Малого театра, из-за болезни ног вышедший на пенсию и в то время возглавлявший драматическое отделение Филармонического училища. Все преподаватели драматических курсов находились у него в подчинении, хотя сам Греков преподаванием не занимался. Директором всего училища являлся профессор А. А. Брандуков, один из лучших виолончелистов того времени.
В драматических классах преподавали многие представители Малого театра—режиссер И. С. Платон, прекрасный актер Н. К. Яковлев, великолепный исполнитель эпизодических ролей И. А. Рыжов, жена Платона М. П. Юдина, бывшая актриса Малого театра, тогда
ушедшая на пенсию.
В то время никаких помощников педагоги не имели. Каждый из них руководил своим курсом с самого начала до выпуска. И лишь на первом курсе было две группы, одну из которых вела М. П. Юдина. В дальнейшем она передавала наиболее способных следующему педагогу на второй курс, а слабые ученики отсеивались.
В 1916 году на первый курс набирали И. А. Рыжов: и М. П. Юдина.
Итак, экзамены. Я прочитала пролог к «Орлеанской деве» и какую-то басню. Меня не прервали. Затем\\\\\\\' посыпались вопросы: почему хочу идти на сцену, кто родители, что я читала, где получила среднее образование, играла ли вообще. Вопреки советам Шуры Никольского, я с гордостью сказала, что играла очень много в любительских спектаклях и в институте, и в Гирееве.
Когда я хвасталась участием в антрепризе Собольщикова-Самарина, перечисляя свои детские роли, все сидевшие за столом заулыбались. Как я вышла из зала, как ждала своей участи—не помню. Знаю только, что мне очень хотелось попасть к И. А. Рыжову. В том, что меня вообще примут в Филармонию, я почему-то совсем не сомневалась. Так и случилось. Меня приняли, и взял меня в свой класс И. А. Рыжов, у которого я училась в течение двух лет пребывания в Филармонии.
Чудесные это были годы. Мы очень дружили не только со своими сверстниками, однокурсниками, но и с учениками вокального отделения и музыкальных классов.
Постоянно ходили на зачеты вокалистов и вечера музыкантов, болели за своих любимцев. Так же и они интересовались нами, «драматическими». Возникали и неизбежные свадьбы. Но объединяло всех главным образом творчество.
Когда я была еще на первом курсе, второй курс И. К. Яковлева давал полугодовой экзаменационный вечер отрывков из пьес. И вдруг в программу включают мой отрывок из пьесы И. В. Шпажинского «В старые годы», который я готовила у Рыжова. Беспрецедентный случай в Филармонии. За меня волновались буквально все. Еще бы, подобные вечера на втором курсе проходили в присутствии не только Грекова, но и самого Брандукова. Зал был полон учащимися и их родственниками. Вечер прошел удачно. Особенно хороша была любимая ученица Яковлева Аннинка Галлинг; Когда она переходила на третий курс, Яковлев поставил для нее «Подростка» Вебера и\\\\\\\' Грессе, а на роль Нанси Валье взял меня, тогда студентку второго курса. Это тоже было для меня большой честью. На драматическом отделении Яковлева все боялись. Он был очень строг, требователен, и тишина и внимание на его уроках стояли совершенно удивительные.
Помню, я страшно волновалась на репетициях «Подростка». Роль, конечно, выучила назубок. И вдруг из зала раздается громкий голос Николая Капитоновича: «Что это вы, душечка, все руками машете, как ветряная мельница! Ну-ка успокойте руки, начинайте сначала и не трепыхайтесь так». Мне на всю жизнь запомнились эти слова. Часто, работая над ролью, я думаю о них и теперь.
Иван Андреевич Рыжов был требователен, но и очень мягок. Он, скорее, был нашим другом или необыкновенно терпеливым отцом. Однажды только видела я его разгневанным. Один из учеников, явно не приготовившись к уроку, позволил себе на сцене глупую отсебятину. И Иван Андреевич накричал на него.
Рыжов был большим другом и поклонником Марии Николаевны Ермоловой. Он часто говорил нам о ней, о ее отношении к театру, к работе, о ее трепетном волнении на репетициях и спектаклях. Мы благоговейно впитывали в себя эти рассказы. Они воспитывали в нас то подлинное уважение к театру, ту беспредельную любовь к искусству, примером которых была Ермолова.
Иван Андреевич Рыжов прежде всего будил в своих учениках чувство. «Почувствуйте правильно, тогда и роль пойдет»,— говорил он. Он шел от восприятия внутреннего мира человека. Но объяснить и раскрыть процесс подхода к роли он, как и все почти тогдашние актеры-педагоги, не умел.
Мне рассказывали как-то, что одна известная актриса обратилась к Ермоловой с просьбой пройти с ней роль из репертуара Марии Николаевны. Ермолова страшно смутилась и ответила, что не умеет рассказывать и объяснять, как надо делать. В результате Мария Николаевна предложила огорченной просительнице: «Знаете что, голубушка, давайте лучше я вам сыграю всю роль, а вы посмотрите». Объяснить, научить Ермолова не могла. Однако стоило понаблюдать, как она ведет себя перед выходом на сцену, и становились понятны слова Станиславского «войти в круг». Стоит вспомнить знаменитые слова Ольги Осиповны Садовской: «Я тебе, голубчик, крючочек, а ты мне — петельку». Именно о таком общении с партнером писал Станиславский в своей «системе».
Да, не умели великие «могикане» старого театра рассказать, как они творят, как создают свои гениальные роли. Они знали только какие-то общие, но весьма существенные принципы. Щепкин говорил: «Будь в обществе, Наблюдай жизнь». Ермолова часто посещала выставки живописцев и скульпторов, не пропускала наиболее интересные симфонические концерты. Бывая в обществе, обычно молчала, но внимательно слушала и наблюдала собравшихся. Много читала. Читала и искала специальные труды и художественные произведения, относящиеся к тем эпохам, в которых жили и действовали ее героини. Все это вбиралось, проникало в память и душу, а потом—в самую лабораторию ее гениального творчества.
В Филармонии преподавались разные дисциплины, например танцы. Следили за пластикой, много уделялось внимания старинным танцам—в них требовалось изящество и музыкальность. Занимались фехтованием, которым я очень увлекалась. Наш преподаватель Апушкин считал меня одной из лучших учениц. Танцы и фехтование были обязательны для всех учеников Филармонии. Но особенно рьяно посещали эти уроки вокалисты и мы.
Очень старались Шура Никольский и я. К тому же я просто терзалась ревностью, потому что Шура чаще и больше танцевал с Анночкой Галлинг. Она была очаровательна. Шведка по происхождению, Анночка училась на курс старше меня. После окончания Филармонии она вышла замуж за известного режиссера Эггерта. Я потеряла Анночку из вида. А когда мне дали ее адрес и я пошла к ней, увы, мы не нашли общего языка и оказались чужими. Мне остались только чудесные воспоминания о тоненькой, хрупкой, очаровательной Анночке Галлинг.
Помню, в Филармонии мы самостоятельно ставили что-то вроде спектакля-пантомимы. Назывался он «Нарцисс и Психея». Я изображала Нарцисса, Анночка была изумительной Психеей. Шел и второй такой же «самодеятельный» спектакль. На сцене под музыку старинного менуэта дремлет молодой маркиз. У задника, хорошо освещенная и похожая на картину в раме, стоит маркиза. Кто-то читает стихи. Маркиз удивленно замечает, что маркиза оживает. Он предлагает ей руку. Они танцуют менуэт. Затем маркиза опять входит в раму и превращается в картину. Маркиз садится в свое кресло и засыпает— то, что произошло, было лишь сном.
На такие «самодеятельные» миниатюры приглашались преподаватели, все учащиеся Филармонии, родные и знакомые учащихся. Всем заправлял Шура Никольский, а мы с Анночкой Галлинг были его первыми актрисами.
Занимались мы на курсах и сценическим движением. Преподаватель—его фамилия была Загаров—задавал нам этюды с падениями, быстрыми, ловкими поворотами тела, движениями по лестнице, красивыми прыжками на стол и стулья. Как я теперь понимаю, это было и некое подобие физкультуры и урок пластики, умения стать в нужную и выразительную позу.
Помню один из заданных мне этюдов. Я в комнате. В окна стреляют. Под пулями я должна через всю сцену добраться до стола—там мой револьвер. Пока я перебежками направляюсь к заветному столику, меня ранят. Дальше надо изобразить боль от раны и продолжать движение к цели. Второе ранение, я падаю, но все же ползу к столу. Больно, теряю силы. Но вот уже цель близка. Я карабкаюсь по ножке стола. Рука уже шарит по столу, ища спасительное оружие. Но силы иссякают, и я в последнем порыве выпрямляюсь и замертво падаю. Считалось, что я все это хорошо выполнила.
Очень любили мы лекции по истории театра. Читал их незабвенный Владимир Александрович Филиппов. Филиппов действительно был великолепный знаток театра и горячий поклонник Малого. Я почти стенографически записывала его лекции и очень гордилась, когда много лет спустя Владимир Александрович попросил у меня мои тетради для своей книги. Владимира Александровича высоко чтили все актеры, даже самые маститые. Он часто писал рецензии и считался после А. Р. Кугеля, которого я еще застала, лучшим критиком и историком театрального искусства, глубоко уважающим и любящим актера. Он бывал и суров в своих оценках, но они всегда оказывались объективными и приносили настоящую пользу актеру и театру.
Велись у нас занятия по дикции, постановке голоса, которым придавалось большое значение.
Были уроки грима, которые давал Николай Максимович Сорокин, лучший гример Малого театра. Красивый, умный человек, он много и остроумно рассказывал нам об актерах этого театра. И мы с большим вниманием слушали о Ермоловой, Лешковской, Южине и, конечно, о наших кумирах—Остужеве и Прове Садовском.
Теперь грим не в моде. Актеры чаще играют с так называемым «своим лицом». В те времена при существовавшей технике освещения и молодым актерам надо было накладывать грим. Особенно если актеру приходилось добиваться сходства, когда он играл историческое лицо, известное по портретам.
Обаятельный Николай Максимович был большим другом актеров. У меня остались о нем самые задушевные воспоминания. Нередко плакалась ему в жилетку, когда наступали трудные минуты в театре, да и помимо театральных невзгод часто делилась с ним своими заботами. Настоящий художник был Н. М. Сорокин, его преданность театру передалась и нам.
Так, очень дружно и интересно, проходили наши учебные годы в Филармонии. Закончился первый год, сданы экзамены, все разлетелись на лето кто куда. Мы с мамой и отцом не уехали из Москвы. От весны 1917 года остались в памяти манифестации, дамы с красными бантами, влюбленно прославлявшие Керенского, шум и сумятица. Меня все это мало трогало. Я думала лишь о предстоящем учебном годе и о новых сценических отрывках — на втором курсе нам предстояло готовить уже целые акты. Отречение царя, приход Временного правительства—все это как-то прошло мимо меня. Дома разговоры об этих событиях велись, но, как я теперь понимаю, чисто обывательские. Отец давно был в отставке; человек-больной, он мало интересовался происходящим. К тому времени мы с мамой жили уже на Кузнецком мосту. Мама получила место управляющей домами, и мы имели казенную квартиру. Папа жил отдельно, во Всехсвятском, в доме офицеров-ветеранов. Ему требовался постоянный уход. Теперь я считаю себя виноватой, что позволила отцу уехать от нас. Многое стало мне понятно слишком поздно. А тогда эгоистичная молодость не разбиралась во взаимоотношениях родителей. Что-то от меня скрывали; допытываться я не хотела из ложной стыдливости, да и не умела. И легкомыслия в то время было хоть отбавляй.
Осенью 1917 года занятия начались как обычно. Но настроения учащихся изменились. Особенно это чувствовалось на музыкальном отделении. Ученики там были по возрасту много старше драматических. Как-то сразу они отдалились от нас. Кое-кто и из вокальных классов перестал общаться с нами.
Предстояло готовиться к полугодовым зачетам. У меня были две, совершенно различные по характеру, чудесные роли: комедийный акт из пьесы «Ренессанс», написанной белыми стихами, где я играла юношу Витторино, и третий акт «Марии Стюарт». Как же билась я с моей Марией, плакала над ней! И темперамента как будто хватало и... ничего не выходило! Долго мучились мы, ученица и преподаватель, и наконец Иван Андреевич сказал мне просто: «Голуба моя, не умею я вам объяснить, в чем дело, но не выходит эта сцена королев у вас. Мария Николаевна Ермолова играла ее чуть-чуть над полом. У нее была и искренность и простота, был и пафос трагедии, а не обыденный разговор. А как она этого достигала — сам не знаю, как объяснить. Вижу, что не то у вас получается, а как помочь и что сделать—не придумаю. Давайте выберем другой отрывок, из другой\\\\\\\' пьесы. Может быть, Мария Стюарт вам пока еще трудна, не по силам».
Так, поплакав, я и отказалась от Марии Стюарт. И на всю жизнь эта роль осталась моей недостижимой творческой мечтой. Лишь к какой-то шиллеровской дате я вновь возвратилась к третьему акту—сцене королев—в концертном исполнении. Елизавету очень хорошо играла С. Н. Фадеева, а у меня Мария так и не получилась. Правда, мы с успехом играли эту сцену в Колонном зале в Москве во время шиллеровских торжеств, а также в военно-шефской поездке по ГДР—в Берлине, в Доме творчества немецких актеров. Позднее я с ужасом узнала, что в числе зрителей был сам Брехт.
Несколько раз я просила театр, чтобы поставили «Марию Стюарт», но... мало ли несбыточных мечтаний у актеров! А может, все это к лучшему, и что-то было для меня недоступное в этой Марии. Но я хотела бы сыграть и Елизавету. Мечтала, что к 100-летию со дня рождения Ермоловой Малый театр поставит эту пьесу, столь любимую Марией Николаевной. Мне было все равно, играть Марию или Елизавету, только бы пошла эта пьеса. Но — увы!..
Итак, значит, — прощай, Мария. Рыжов дал мне отрывок из пьесы Анри Батайля «Обнаженная», эпизод, когда героиня врывается к своей сопернице — какой-то высокопоставленной даме. Акт сильный, интересный и проникнутый большим драматизмом.
И вот два мои отрывка удачно сданы. Я отчиталась за первое полугодие.
А в это время в стране происходили бурные события. Захватили они и филармонию. Помню, на каком-то собрании меня выдвинули делегатом на совещание в университет. От музыкального отделения Филармонии был выдвинут Георгий Николаевич Дудкевич. В огромной аудитории с тусклым освещением стоял густой дым от курения. Шли бесконечные дебаты. Естественно, я держалась около Дудкевича. Он был много старше меня, побывал за границей (аккомпанировал в Германии знаменитому тенору Смирнову). Часто мы вместе возвращались домой. На несколько дней занятия были прерваны. В Москве стреляли. По телефону, еще работавшему на Арбате, где жил Дудкевич, сообщали, что там находятся юнкера и победили белые. А у нас на Кузнецком мосту было уже точно известно, что большевики взяли Кремль. Обыватели, движимые страхом перед этими неизвестными большевиками, попрятались и не выходили на улицу.
Мы с мамой все же на улицу выглядывали. Мне запомнился такой случай. Мимо нашего парадного пробегал солдат, молоденький, совсем мальчик. То ли он был ранен, то ли насмерть перепуган, но он явно искал» какого-либо убежища. Мы с мамой почти втащили его к нам, дали воды, стали расспрашивать, кто он: белый, красный? Солдатик ничего не отвечал. Мы решили оставить его в покое. Вдруг солдат пришел в себя, начал озираться, увидел приличную обстановку, рояль, быстро подхватил свою винтовку и бросился вон из квартиры. Только мы его и видели. Что его испугало? Что побудило стремглав покинуть двух совершенно безоружных женщин? Не знаю. Но вот затихла стрельба. Новая власть прочно взяла бразды правления в свои руки, власть рабочих, власть большевиков. Помню, что новое правительство разрешило хоронить всех павших офицеров и юнкеров. Я случайно оказалась на Тверской, когда большая похоронная процессия направлялась к Ходынскому полю. Мне кажется, это был честный акт по отношению к противнику. И жаль, что в те годы многие не поняли своих заблуждений и великих идей грядущего.
Мы возобновили наши занятия, театры открыли свои двери. Налаживалась новая жизнь. Я готовилась к переходным зачетам на третий курс. Сдавать надо было уже целые пьесы. Иван Андреевич решил поставить «Огни Ивановой ночи» Г. Зудермана. Я работала над Мариккой. И вдруг, в самый разгар работы, Иван Андреевич снова назначает репетиции «Обнаженной» и «Ренессанса», то есть уже сданных мною отрывков. Никто ничего не понимает. Иван Андреевич молчит. А по Филармонии ползут слухи, что кто-то будет смотреть Гоголеву. Кто? Почему? Все молчат. Назначается день просмотра. У меня складывается впечатление, что просмотр устраивается для директора училища Брандукова, перед которым я на первом курсе уже играла с второкурсниками в пьесе Шпажинского. Однако всеведущий Шура Никольский шепнул мне, что дело не только в Брандукове. Кажется, ждут представителей Малого и Художественного театров.
На генеральной, надевая мне парик, милый Николай Максимович Сорокин лукаво улыбается, что-то подправляет и... молчит.
И вот настал день показа. Не помню, как я пришла в Филармонию, как села гримироваться. Торжественное молчание моих однокурсников, участников спектакля, взволновало еще больше. Поцеловав меня в лоб, Иван Андреевич куда-то вышел. Посерьезнел и Николай Максимович. Вдруг влетает Шура Никольский: «В зале — Южин и Лешковская!» Исчезает, чтобы через минуту снова вбежать: «Приехал Станиславский с Немировичем!» А потом еще и еще: «В зале — Яблочкина, Остужев, Садовский, Книппер» и т. д. Наконец появляется Иван Андреевич. Он волнуется, но, как всегда, старается быть спокойным и ровным. Поймав мой отчаянный взгляд, внимательно и ободряюще оглядывает меня и, улыбаясь, замечает: «Да, голуба, играйте все так же, как и играли. В зале все друзья. Наше начальство вам известно, смотрят и Греков и Брандуков, ну и художественный совет Малого театра, и из Художественного пришли. Не волнуйтесь, все будет хорошо».
Да, хорошо! А у меня не знаю где душа, говорят, в пятках. Может быть, и там! Не помню, как я спустилась на сцену, как начала играть «Обнаженную». Показ происходил днем, и, несмотря на зашторенные окна, можно было разглядеть всех сидящих в зале. Я не видела никого — только свою ненавистную соперницу, ее дряхлого супруга и моего возлюбленного, которого я не хочу, не могу и не должна отдать этой высокомерной даме.
Кончился первый отрывок. Я переодевалась и перегримировывалась ко второму. Во время переодевания к нам никого не пускали. Хотя, я уверена, всем интереснее было смотреть на находящихся так близко в зале знаменитых и обожаемых артистов. Спокойный Иван Андреевич деловито осведомился, готова ли я. Очень взволнован был Николай Максимович. Ему изменило даже обычное шутливое настроение и обаятельное остроумие.
Но вот прошел и второй отрывок. Странно, но у меня было легко и ясно на душе. Может быть, я была спокойна потому, что считала, что смотрят не меня, а мою партнершу Наташу Гурбатову (ее, кстати сказать, действительно приняли в Малый театр, но через два-три года после окончания Филармонии). Пришел Иван Андреевич, всех нас перецеловал, похвалил и... ушел!
Вот и все. Никаких разговоров, никаких отзывов. Жизнь пошла своим обычным порядком. Опять стали репетировать «Огни Ивановой ночи».
Мне предстояло учиться в Филармонии еще два года, так как был прибавлен четвертый курс. Но вот однажды весной 1918 года после одной из репетиций «Огней» Рыжов отозвал меня в сторону и сказал: «Я должен передать вам, голуба моя, что вам предлагают вступить в труппу Художественного театра. Вас смотрели Станиславский и Немирович-Данченко, приглашение исходит от них». Я онемела. «Так что мне им ответить?»— продолжает Иван Андреевич. И вдруг я слышу внутри себя какой-то голос: «А Малый?!» Вижу, Иван Андреевич улыбается: «Ну, насчет Малого ничего не могу сказать, а вот Художественный вас приглашает».
Кажется, я действительно заплакала. Ведь все мысли, все мечты мои были о Малом. Я даже не осознала, какую великую честь мне оказывают—меня, восемнадцатилетнюю девчонку, еще не окончившую Филармонию, приглашают—и куда? В Художественный театр. И кто приглашает? Сам Станиславский. А я реву, реву, мотаю головой и бормочу: «Нет, нет, я—в Малый, в Малый». Едва успокоил меня мой незабвенный Иван Андреевич. «Ну как хотите, все же подумайте. Приглашения в Малый нет, а в Художественный уже зовут». Но при всем глубоком восхищении Художественным театром, его великолепными актерами, Станиславским, Леонидовым, Качаловым, Москвиным, моя душа и сердце были отданы .Малому театру и его корифеям. Им я поклонялась, у них хотела учиться и—что скрывать мою затаенную мечту! — .хотела быть принятой в их семью. И потому от приглашения в Художественный я отказалась. Мой отказ дипломатично согласился передать Иван Андреевич. Как он это .сделал—не знаю. Но и Станиславский и Немирович-Данченко всегда относились ко мне весьма доброжелательно. Я чувствовала их внимание и симпатию, хотя часто при встречах оба они шутя корили меня: «Не захотела к нам идти, не захотела». Тогда же, в тот памятный день, разговор был окончен.
Приближался переходный экзамен на третий курс. Никаких других показов больше не было. Экзамен прошел, все опять разъехались на лето, некоторые поступили на летний сезон играть маленькие рольки в Малаховке и Кускове. Шура Никольский играл в Кускове первые роли. И мы все гордились им и завидовали его успехам.
Я по-прежнему жила в Москве, вышла замуж за Дудкевича и бегала на теннисный корт в Пименовский переулок. Он и сейчас существует, этот двор, хотя переделан под детскую площадку. Часто для быстроты я прохожу этим двором на улицу Чехова, чтобы ехать в Малый театр. Мы с мужем жили тогда в Денежном переулке, носящем теперь имя Веснина, как раз напротив особняка, в котором был убит немецкий посол Мирбах.
Замужество мое привело к полному разрыву с матерью. Мне было семнадцать лет, Дудкевичу—много больше, и раннее замужество, по мнению мамы, могло помешать моей сценической карьере. Так до самого конца ее жизни эти отношения окончательно и не наладились.
Мама тогда опять вернулась на сцену, вступила в .труппу Калужского театра и увезла с собой отца. Папа и умер в Калуге в 1919 году. Когда, до Отечественной войны, мне случалось бывать на гастролях в этом чудесном городе;, Я всегда приходила на могилу отца. Однако, приехав в Калугу после войны, так и не нашла ее. Немцы зверски .бомбили город и кладбище—говорили, что гробы из земли взлетали в воздух. Да, было и такое.
Так вот, вернемся к лету 1918 года. Как уже говорилось, я часто бегала днем в Пименовский переулок играть в теннис, которым очень увлекалась, И вот с ракеткой под мышкой, с сеткой с мячами в руках и в теннисных, туфлях (это для скорости и удобства при ходьбе, транспортом я не пользовалась) я бегом спускаюсь с нашего четвертого этажа. Навстречу идет какой-то человек и спрашивает мою квартиру. Это был курьер из Малого театра с письмом для меня. Быстро расписавшись в книге о получении письма, я здесь же, на лестнице, прочла, что меня вызывают в Малый театр к Прову Михайловичу Садовскому. В то время Малый получил автономию в управлении. Была создана директория из пяти человек: председателем, вернее первым советским директором Малого театра назначили А. И. Южина, заведующим репертуаром (или, как теперь говорят, литературной частью) — И. С. Платона, художественной частью — П. М. Садовского, финансово-хозяйственной частью — С. А. Головина и кем-то тоже по хозяйству, по порядку в здании — А. А. Остужева. Правда, Остужев от этого вскоре отказался, передав все свои полномочия Головину.
Вот к Прову Михайловичу меня и вызывали. Не помня себя и не подумав, в каком я виде, так с ракеткой, мячами и в совсем неподобающем костюме (правда, тогда на теннис надевали обыкновенные юбки, время-то было— 1918 год!) я и помчалась в Малый театр. Пров Михайлович сам очень любил спорт. Увидев меня запыхавшуюся, красную, со спортивным инвентарем, он весело расхохотался и стал расспрашивать, где и с кем я играю. Оказалось, что именно в домах рядом с теннисным кортом была и его квартира и квартира его брата Михаила Михайловича. Пошутив и поговорив о лучших тогда теннисистах Тепляковой и Вербицком (артисте Художественного театра), Пров Михайлович приступил к серьезному разговору. Он сказал, что мне предлагается с осени вступить в труппу Малого театра. Лично он считает, что мне надо сначала поступить во вспомогательный состав, но А. И. Южин настаивает, чтобы я сразу же была принята в основной состав. Оба они надеются, что в театре я научусь большему, чем обучаясь еще два года в Филармонии. Сейчас мне следует пройти в канцелярию театра и подписать контракт (тогда были контракты). «Разумеется, если вы согласны поступить к нам в театр»,— добавил, лукаво улыбаясь, Пров Михайлович.
Согласна ли я!!! Боже мой, да я ног под собой не чуяла! Слова не могла вымолвить, то перекладывала мячи, то хваталась за ракетку, а Пров Михайлович, наш кумир Садовский, откровенно хохотал, глядя на меня, чем повергал в еще большее смущение. Я сидела немая и красная как рак. Не помню, как я оказалась в канцелярии у Василевского, тогда, очевидно, заведовавшего ею. Не помню, как подписывала свой первый контракт на самый первый оклад—четыреста рублей. Помню только, что Василевский говорил со мной с большим почтением, не как с восемнадцатилетней девчонкой, а как с молодой женщиной, актрисой, вступающей в труппу Малого театра. Тут же мне сообщили, когда назначается открытие сезона и что за две недели до этого следует явиться на сбор труппы. По торжественному тону Василевского я поняла, что сбор труппы — событие, к которому надо готовиться и внутренне и внешне. Как мне кажется, теннисные туфли и весь мой облик несколько смущала этого старого, бесконечно преданного Малому театру человека, имевшего дело с самим Южиным, Ермоловой, Садовской и их товарищами.
Так состоялось моё приглашение в Малый театр. Так исполнилась мечта моей жизни. На все годы, отпущенные мне судьбой, осталась я верна моему родному, любимому театру, где испытала и большие радости и горькие минуты, что неизбежно сопровождает жизнь артиста.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ (окончание)
Мы переехали в Москву, и начались хлопоты. Во-первых, следовало обзавестись жильем. Нашли маленькую квартирку на Зубовском бульваре, Дворцовый проезд. Далее, предстояло выбирать, где же мне учиться. О частной школе нечего было и думать—на это не хватало средств. Надо было ехать в Петроград — пытаться поступить в школу при Александрийском театре. Как дочь раненого офицера меня могли принять на казенный счет. Но ехать в далекий Питер, где нет никого знакомых... И страшно, и не хочется отрываться от родной Москвы.
Выяснилось, что на казенный счет меня могли бы. принять на драматическое отделение Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. И тут было решено обратиться за советом не более и не менее как к самому А. И. Южину, первому актеру Малого театра и кумиру нашей семьи. Мы не имели с ним никаких общих знакомых, никого, кто бы мог ввести нас к этому знаменитому человеку. И мама написала ему письмо. В нем она просила о визите и, разумеется, охарактеризовала свою единственную дочь как будущую Ермолову.
И вот Александр Иванович Южин, вероятно, посмеиваясь в душе, все же, несмотря на огромную занятость, назначил нам день и час визита. Помню обстановку квартиры Александра Ивановича, ибо потом часто бывала там, подружившись на всю жизнь с племянницей Южина — Мусей Богуславской. Александр Иванович занимал целый этаж дома. Вместе с ним жила его жена, живая и обаятельная Мария Николаевна, его сестра Екатерина Ивановна, вдова, с дочкой Мусей, в которой Южины души не чаяли, и брат Владимир Иванович с семьей, которых я не знала, так как обитали они совершенно обособленно.
Итак, мы в темной, большой передней. Из нее через гостиную, убранную чуть-чуть в восточном вкусе (мельком увидела в стеклянном шкафу массу венков, сувениров и подношений замечательному артисту), прошли в большой угловой кабинет, весь заставленный книжными шкафами. Книги были не только в шкафу, но и всюду на столах. За большим письменным столом сидел Александр Иванович. Как сейчас помню его сутуловатую, большую фигуру. Он любезно поднялся нам навстречу.
О чем говорила мама, что был за разговор, я не помню. Понимала, что решается моя судьба. И очнулась лишь тогда, когда все с той же приветливой любезной улыбкой Александр Иванович предложил мне что-нибудь прочесть. Я пришла в себя. О! Тут уже все ясно. Мама прожужжала мне все уши, что я будущая Ермолова. И, конечно же, я должна была читать монолог из «Орлеанской девы» Шиллера, который так гениально читала сама великая Ермолова. Я прочла монолог «Простите вы, холмы, поля родные», какую-то басню, потом некрасовскую «Катерину». Александр Иванович слушал внимательно, не перебивая, и, когда я исчерпала весь свой репертуар, серьезно, без улыбки, не глядя на меня и что-то обдумывая, молчал. Молчали и мы с мамой. Какие мысли витали в голове моей тщеславной матушки—не знаю. Я же твердо была уверена, что читала отвратительно и провалилась.
И вообще, какая невероятная дерзость—прийти сюда, отнимать время—и у кого?! У самого Южина! Вот он и молчит, не зная, вероятно, как бы деликатнее нас выпроводить. Тут до моего сознания долетели слова: «В филармонии сейчас преподают все актеры нашего Малого театра, отдайте вашу дочь в Филармонию — так она будет ближе к нам!» На всю жизнь запомнились мне эти слова Александра Ивановича. А тогда, если можно было бы упасть без чувств от счастья, наверное, упала бы. Во всяком случае, все дальнейшее происходило как в тумане. Не помню, как мы простились с Александром Ивановичем, как ушли.
Были посланы просьбы о зачислении меня на казенный счет в Филармонию. Конечно, если Выдержу экзамены. Начались мои приготовления к этому серьезному испытанию. Готовила я, разумеется, те же произведения, что читала Южину. Напутственные слова Александра Ивановича хоть и ободрили меня, все же не изгнали из души некоторых сомнений. «А что если это были только любезные слова, сказанные, чтобы вежливо отделаться от назойливой мамаши, которая считает свою незадачливую дочь чуть ли не гением?!» Я не делилась с мамой этими мыслями. Она торжествовала и ни минуты не сомневалась, что я с блеском выдержу экзамены.
Наконец настал решающий день. Как сейчас помню мою альма-матер (теперь в этом здании находится ГИТИС). Во дворе — большой двухэтажный особняк. Широкая лестница в глубине полутемного холла. Наверху площадка, где сидели, ходили и стояли взволнованные девушки и юноши. Слева—громадные двери, за которыми находился большой зал и сидели они, наши экзаменаторы, вершители наших судеб. До мельчайших подробностей помню даже платье, в которое была одета: самое лучшее, какое у меня имелось, скромное черненькое платье. Но зато мама дала мне янтарные серьги и брошь! Среди жаждущих и дрожащих новичков встречались и «опытные» уже второкурсники, критически нас оглядывавшие и дававшие свысока «полезные советы». Удивительно приятный юноша, тоже со второго курса, своей доброжелательностью, юмором и потрясающей способностью копировать всем нам знакомых актеров поддерживал в нас, умиравших от страха, бодрость и надежду. Юноша этот был, как он себя всем рекомендовал, Шура Никольский»
Впоследствии я узнала его как чудесного товарища, любимца Филармонии, а еще через несколько лет и талантливейшего актера Малого театра Сашина-Никольского. С ним до конца его жизни меня связывала сердечная дружба. Да и в театре он был общим любимцем.
Тогда же Шура искоса присматривался ко мне и наконец, явно почувствовав, несмотря на независимый вид, мое адское волнение, не выдержал и подошел. Спросил, что я намерена читать на экзамене. «Пролог «Орлеанской девы» — это значит «Простите вы, холмы, поля родные,..», да?—протянул он многозначительно. — Героиня, значит. Так-так... А раньше вы что-нибудь играли, в любительских спектаклях, я подразумеваю?» С апломбом и уверенностью я назвала ряд ролей, которые, как мне думалось, я с успехом воплощала в маленьком клубе в Новогирееве, а до этого в классах института. И еще раньше, в антрепризе Собольщикова-Самарина. «Да,— сурово произнес Шура Никольский,—стаж порядочный. Только знаете что я вам посоветую? Не вздумайте все это выложить экзаменаторам, они таких «опытных» актеров не очень-то жалуют!» Вот тебе и на! А я-то думала!.. Но думать было некогда—меня вызвали в зал.
За столом сидело много совсем незнакомых мне людей. Никого из актеров я со страху не узнала, хотя не раз видела их на сцене. Помню только, что самый главный, председатель, был очень крупный мужчина, с довольно красивым лицом. Как я впоследствии узнала, это был Н. Н. Греков, в прошлом актер Малого театра, из-за болезни ног вышедший на пенсию и в то время возглавлявший драматическое отделение Филармонического училища. Все преподаватели драматических курсов находились у него в подчинении, хотя сам Греков преподаванием не занимался. Директором всего училища являлся профессор А. А. Брандуков, один из лучших виолончелистов того времени.
В драматических классах преподавали многие представители Малого театра—режиссер И. С. Платон, прекрасный актер Н. К. Яковлев, великолепный исполнитель эпизодических ролей И. А. Рыжов, жена Платона М. П. Юдина, бывшая актриса Малого театра, тогда
ушедшая на пенсию.
В то время никаких помощников педагоги не имели. Каждый из них руководил своим курсом с самого начала до выпуска. И лишь на первом курсе было две группы, одну из которых вела М. П. Юдина. В дальнейшем она передавала наиболее способных следующему педагогу на второй курс, а слабые ученики отсеивались.
В 1916 году на первый курс набирали И. А. Рыжов: и М. П. Юдина.
Итак, экзамены. Я прочитала пролог к «Орлеанской деве» и какую-то басню. Меня не прервали. Затем\\\\\\\' посыпались вопросы: почему хочу идти на сцену, кто родители, что я читала, где получила среднее образование, играла ли вообще. Вопреки советам Шуры Никольского, я с гордостью сказала, что играла очень много в любительских спектаклях и в институте, и в Гирееве.
Когда я хвасталась участием в антрепризе Собольщикова-Самарина, перечисляя свои детские роли, все сидевшие за столом заулыбались. Как я вышла из зала, как ждала своей участи—не помню. Знаю только, что мне очень хотелось попасть к И. А. Рыжову. В том, что меня вообще примут в Филармонию, я почему-то совсем не сомневалась. Так и случилось. Меня приняли, и взял меня в свой класс И. А. Рыжов, у которого я училась в течение двух лет пребывания в Филармонии.
Чудесные это были годы. Мы очень дружили не только со своими сверстниками, однокурсниками, но и с учениками вокального отделения и музыкальных классов.
Постоянно ходили на зачеты вокалистов и вечера музыкантов, болели за своих любимцев. Так же и они интересовались нами, «драматическими». Возникали и неизбежные свадьбы. Но объединяло всех главным образом творчество.
Когда я была еще на первом курсе, второй курс И. К. Яковлева давал полугодовой экзаменационный вечер отрывков из пьес. И вдруг в программу включают мой отрывок из пьесы И. В. Шпажинского «В старые годы», который я готовила у Рыжова. Беспрецедентный случай в Филармонии. За меня волновались буквально все. Еще бы, подобные вечера на втором курсе проходили в присутствии не только Грекова, но и самого Брандукова. Зал был полон учащимися и их родственниками. Вечер прошел удачно. Особенно хороша была любимая ученица Яковлева Аннинка Галлинг; Когда она переходила на третий курс, Яковлев поставил для нее «Подростка» Вебера и\\\\\\\' Грессе, а на роль Нанси Валье взял меня, тогда студентку второго курса. Это тоже было для меня большой честью. На драматическом отделении Яковлева все боялись. Он был очень строг, требователен, и тишина и внимание на его уроках стояли совершенно удивительные.
Помню, я страшно волновалась на репетициях «Подростка». Роль, конечно, выучила назубок. И вдруг из зала раздается громкий голос Николая Капитоновича: «Что это вы, душечка, все руками машете, как ветряная мельница! Ну-ка успокойте руки, начинайте сначала и не трепыхайтесь так». Мне на всю жизнь запомнились эти слова. Часто, работая над ролью, я думаю о них и теперь.
Иван Андреевич Рыжов был требователен, но и очень мягок. Он, скорее, был нашим другом или необыкновенно терпеливым отцом. Однажды только видела я его разгневанным. Один из учеников, явно не приготовившись к уроку, позволил себе на сцене глупую отсебятину. И Иван Андреевич накричал на него.
Рыжов был большим другом и поклонником Марии Николаевны Ермоловой. Он часто говорил нам о ней, о ее отношении к театру, к работе, о ее трепетном волнении на репетициях и спектаклях. Мы благоговейно впитывали в себя эти рассказы. Они воспитывали в нас то подлинное уважение к театру, ту беспредельную любовь к искусству, примером которых была Ермолова.
Иван Андреевич Рыжов прежде всего будил в своих учениках чувство. «Почувствуйте правильно, тогда и роль пойдет»,— говорил он. Он шел от восприятия внутреннего мира человека. Но объяснить и раскрыть процесс подхода к роли он, как и все почти тогдашние актеры-педагоги, не умел.
Мне рассказывали как-то, что одна известная актриса обратилась к Ермоловой с просьбой пройти с ней роль из репертуара Марии Николаевны. Ермолова страшно смутилась и ответила, что не умеет рассказывать и объяснять, как надо делать. В результате Мария Николаевна предложила огорченной просительнице: «Знаете что, голубушка, давайте лучше я вам сыграю всю роль, а вы посмотрите». Объяснить, научить Ермолова не могла. Однако стоило понаблюдать, как она ведет себя перед выходом на сцену, и становились понятны слова Станиславского «войти в круг». Стоит вспомнить знаменитые слова Ольги Осиповны Садовской: «Я тебе, голубчик, крючочек, а ты мне — петельку». Именно о таком общении с партнером писал Станиславский в своей «системе».
Да, не умели великие «могикане» старого театра рассказать, как они творят, как создают свои гениальные роли. Они знали только какие-то общие, но весьма существенные принципы. Щепкин говорил: «Будь в обществе, Наблюдай жизнь». Ермолова часто посещала выставки живописцев и скульпторов, не пропускала наиболее интересные симфонические концерты. Бывая в обществе, обычно молчала, но внимательно слушала и наблюдала собравшихся. Много читала. Читала и искала специальные труды и художественные произведения, относящиеся к тем эпохам, в которых жили и действовали ее героини. Все это вбиралось, проникало в память и душу, а потом—в самую лабораторию ее гениального творчества.
В Филармонии преподавались разные дисциплины, например танцы. Следили за пластикой, много уделялось внимания старинным танцам—в них требовалось изящество и музыкальность. Занимались фехтованием, которым я очень увлекалась. Наш преподаватель Апушкин считал меня одной из лучших учениц. Танцы и фехтование были обязательны для всех учеников Филармонии. Но особенно рьяно посещали эти уроки вокалисты и мы.
Очень старались Шура Никольский и я. К тому же я просто терзалась ревностью, потому что Шура чаще и больше танцевал с Анночкой Галлинг. Она была очаровательна. Шведка по происхождению, Анночка училась на курс старше меня. После окончания Филармонии она вышла замуж за известного режиссера Эггерта. Я потеряла Анночку из вида. А когда мне дали ее адрес и я пошла к ней, увы, мы не нашли общего языка и оказались чужими. Мне остались только чудесные воспоминания о тоненькой, хрупкой, очаровательной Анночке Галлинг.
Помню, в Филармонии мы самостоятельно ставили что-то вроде спектакля-пантомимы. Назывался он «Нарцисс и Психея». Я изображала Нарцисса, Анночка была изумительной Психеей. Шел и второй такой же «самодеятельный» спектакль. На сцене под музыку старинного менуэта дремлет молодой маркиз. У задника, хорошо освещенная и похожая на картину в раме, стоит маркиза. Кто-то читает стихи. Маркиз удивленно замечает, что маркиза оживает. Он предлагает ей руку. Они танцуют менуэт. Затем маркиза опять входит в раму и превращается в картину. Маркиз садится в свое кресло и засыпает— то, что произошло, было лишь сном.
На такие «самодеятельные» миниатюры приглашались преподаватели, все учащиеся Филармонии, родные и знакомые учащихся. Всем заправлял Шура Никольский, а мы с Анночкой Галлинг были его первыми актрисами.
Занимались мы на курсах и сценическим движением. Преподаватель—его фамилия была Загаров—задавал нам этюды с падениями, быстрыми, ловкими поворотами тела, движениями по лестнице, красивыми прыжками на стол и стулья. Как я теперь понимаю, это было и некое подобие физкультуры и урок пластики, умения стать в нужную и выразительную позу.
Помню один из заданных мне этюдов. Я в комнате. В окна стреляют. Под пулями я должна через всю сцену добраться до стола—там мой револьвер. Пока я перебежками направляюсь к заветному столику, меня ранят. Дальше надо изобразить боль от раны и продолжать движение к цели. Второе ранение, я падаю, но все же ползу к столу. Больно, теряю силы. Но вот уже цель близка. Я карабкаюсь по ножке стола. Рука уже шарит по столу, ища спасительное оружие. Но силы иссякают, и я в последнем порыве выпрямляюсь и замертво падаю. Считалось, что я все это хорошо выполнила.
Очень любили мы лекции по истории театра. Читал их незабвенный Владимир Александрович Филиппов. Филиппов действительно был великолепный знаток театра и горячий поклонник Малого. Я почти стенографически записывала его лекции и очень гордилась, когда много лет спустя Владимир Александрович попросил у меня мои тетради для своей книги. Владимира Александровича высоко чтили все актеры, даже самые маститые. Он часто писал рецензии и считался после А. Р. Кугеля, которого я еще застала, лучшим критиком и историком театрального искусства, глубоко уважающим и любящим актера. Он бывал и суров в своих оценках, но они всегда оказывались объективными и приносили настоящую пользу актеру и театру.
Велись у нас занятия по дикции, постановке голоса, которым придавалось большое значение.
Были уроки грима, которые давал Николай Максимович Сорокин, лучший гример Малого театра. Красивый, умный человек, он много и остроумно рассказывал нам об актерах этого театра. И мы с большим вниманием слушали о Ермоловой, Лешковской, Южине и, конечно, о наших кумирах—Остужеве и Прове Садовском.
Теперь грим не в моде. Актеры чаще играют с так называемым «своим лицом». В те времена при существовавшей технике освещения и молодым актерам надо было накладывать грим. Особенно если актеру приходилось добиваться сходства, когда он играл историческое лицо, известное по портретам.
Обаятельный Николай Максимович был большим другом актеров. У меня остались о нем самые задушевные воспоминания. Нередко плакалась ему в жилетку, когда наступали трудные минуты в театре, да и помимо театральных невзгод часто делилась с ним своими заботами. Настоящий художник был Н. М. Сорокин, его преданность театру передалась и нам.
Так, очень дружно и интересно, проходили наши учебные годы в Филармонии. Закончился первый год, сданы экзамены, все разлетелись на лето кто куда. Мы с мамой и отцом не уехали из Москвы. От весны 1917 года остались в памяти манифестации, дамы с красными бантами, влюбленно прославлявшие Керенского, шум и сумятица. Меня все это мало трогало. Я думала лишь о предстоящем учебном годе и о новых сценических отрывках — на втором курсе нам предстояло готовить уже целые акты. Отречение царя, приход Временного правительства—все это как-то прошло мимо меня. Дома разговоры об этих событиях велись, но, как я теперь понимаю, чисто обывательские. Отец давно был в отставке; человек-больной, он мало интересовался происходящим. К тому времени мы с мамой жили уже на Кузнецком мосту. Мама получила место управляющей домами, и мы имели казенную квартиру. Папа жил отдельно, во Всехсвятском, в доме офицеров-ветеранов. Ему требовался постоянный уход. Теперь я считаю себя виноватой, что позволила отцу уехать от нас. Многое стало мне понятно слишком поздно. А тогда эгоистичная молодость не разбиралась во взаимоотношениях родителей. Что-то от меня скрывали; допытываться я не хотела из ложной стыдливости, да и не умела. И легкомыслия в то время было хоть отбавляй.
Осенью 1917 года занятия начались как обычно. Но настроения учащихся изменились. Особенно это чувствовалось на музыкальном отделении. Ученики там были по возрасту много старше драматических. Как-то сразу они отдалились от нас. Кое-кто и из вокальных классов перестал общаться с нами.
Предстояло готовиться к полугодовым зачетам. У меня были две, совершенно различные по характеру, чудесные роли: комедийный акт из пьесы «Ренессанс», написанной белыми стихами, где я играла юношу Витторино, и третий акт «Марии Стюарт». Как же билась я с моей Марией, плакала над ней! И темперамента как будто хватало и... ничего не выходило! Долго мучились мы, ученица и преподаватель, и наконец Иван Андреевич сказал мне просто: «Голуба моя, не умею я вам объяснить, в чем дело, но не выходит эта сцена королев у вас. Мария Николаевна Ермолова играла ее чуть-чуть над полом. У нее была и искренность и простота, был и пафос трагедии, а не обыденный разговор. А как она этого достигала — сам не знаю, как объяснить. Вижу, что не то у вас получается, а как помочь и что сделать—не придумаю. Давайте выберем другой отрывок, из другой\\\\\\\' пьесы. Может быть, Мария Стюарт вам пока еще трудна, не по силам».
Так, поплакав, я и отказалась от Марии Стюарт. И на всю жизнь эта роль осталась моей недостижимой творческой мечтой. Лишь к какой-то шиллеровской дате я вновь возвратилась к третьему акту—сцене королев—в концертном исполнении. Елизавету очень хорошо играла С. Н. Фадеева, а у меня Мария так и не получилась. Правда, мы с успехом играли эту сцену в Колонном зале в Москве во время шиллеровских торжеств, а также в военно-шефской поездке по ГДР—в Берлине, в Доме творчества немецких актеров. Позднее я с ужасом узнала, что в числе зрителей был сам Брехт.
Несколько раз я просила театр, чтобы поставили «Марию Стюарт», но... мало ли несбыточных мечтаний у актеров! А может, все это к лучшему, и что-то было для меня недоступное в этой Марии. Но я хотела бы сыграть и Елизавету. Мечтала, что к 100-летию со дня рождения Ермоловой Малый театр поставит эту пьесу, столь любимую Марией Николаевной. Мне было все равно, играть Марию или Елизавету, только бы пошла эта пьеса. Но — увы!..
Итак, значит, — прощай, Мария. Рыжов дал мне отрывок из пьесы Анри Батайля «Обнаженная», эпизод, когда героиня врывается к своей сопернице — какой-то высокопоставленной даме. Акт сильный, интересный и проникнутый большим драматизмом.
И вот два мои отрывка удачно сданы. Я отчиталась за первое полугодие.
А в это время в стране происходили бурные события. Захватили они и филармонию. Помню, на каком-то собрании меня выдвинули делегатом на совещание в университет. От музыкального отделения Филармонии был выдвинут Георгий Николаевич Дудкевич. В огромной аудитории с тусклым освещением стоял густой дым от курения. Шли бесконечные дебаты. Естественно, я держалась около Дудкевича. Он был много старше меня, побывал за границей (аккомпанировал в Германии знаменитому тенору Смирнову). Часто мы вместе возвращались домой. На несколько дней занятия были прерваны. В Москве стреляли. По телефону, еще работавшему на Арбате, где жил Дудкевич, сообщали, что там находятся юнкера и победили белые. А у нас на Кузнецком мосту было уже точно известно, что большевики взяли Кремль. Обыватели, движимые страхом перед этими неизвестными большевиками, попрятались и не выходили на улицу.
Мы с мамой все же на улицу выглядывали. Мне запомнился такой случай. Мимо нашего парадного пробегал солдат, молоденький, совсем мальчик. То ли он был ранен, то ли насмерть перепуган, но он явно искал» какого-либо убежища. Мы с мамой почти втащили его к нам, дали воды, стали расспрашивать, кто он: белый, красный? Солдатик ничего не отвечал. Мы решили оставить его в покое. Вдруг солдат пришел в себя, начал озираться, увидел приличную обстановку, рояль, быстро подхватил свою винтовку и бросился вон из квартиры. Только мы его и видели. Что его испугало? Что побудило стремглав покинуть двух совершенно безоружных женщин? Не знаю. Но вот затихла стрельба. Новая власть прочно взяла бразды правления в свои руки, власть рабочих, власть большевиков. Помню, что новое правительство разрешило хоронить всех павших офицеров и юнкеров. Я случайно оказалась на Тверской, когда большая похоронная процессия направлялась к Ходынскому полю. Мне кажется, это был честный акт по отношению к противнику. И жаль, что в те годы многие не поняли своих заблуждений и великих идей грядущего.
Мы возобновили наши занятия, театры открыли свои двери. Налаживалась новая жизнь. Я готовилась к переходным зачетам на третий курс. Сдавать надо было уже целые пьесы. Иван Андреевич решил поставить «Огни Ивановой ночи» Г. Зудермана. Я работала над Мариккой. И вдруг, в самый разгар работы, Иван Андреевич снова назначает репетиции «Обнаженной» и «Ренессанса», то есть уже сданных мною отрывков. Никто ничего не понимает. Иван Андреевич молчит. А по Филармонии ползут слухи, что кто-то будет смотреть Гоголеву. Кто? Почему? Все молчат. Назначается день просмотра. У меня складывается впечатление, что просмотр устраивается для директора училища Брандукова, перед которым я на первом курсе уже играла с второкурсниками в пьесе Шпажинского. Однако всеведущий Шура Никольский шепнул мне, что дело не только в Брандукове. Кажется, ждут представителей Малого и Художественного театров.
На генеральной, надевая мне парик, милый Николай Максимович Сорокин лукаво улыбается, что-то подправляет и... молчит.
И вот настал день показа. Не помню, как я пришла в Филармонию, как села гримироваться. Торжественное молчание моих однокурсников, участников спектакля, взволновало еще больше. Поцеловав меня в лоб, Иван Андреевич куда-то вышел. Посерьезнел и Николай Максимович. Вдруг влетает Шура Никольский: «В зале — Южин и Лешковская!» Исчезает, чтобы через минуту снова вбежать: «Приехал Станиславский с Немировичем!» А потом еще и еще: «В зале — Яблочкина, Остужев, Садовский, Книппер» и т. д. Наконец появляется Иван Андреевич. Он волнуется, но, как всегда, старается быть спокойным и ровным. Поймав мой отчаянный взгляд, внимательно и ободряюще оглядывает меня и, улыбаясь, замечает: «Да, голуба, играйте все так же, как и играли. В зале все друзья. Наше начальство вам известно, смотрят и Греков и Брандуков, ну и художественный совет Малого театра, и из Художественного пришли. Не волнуйтесь, все будет хорошо».
Да, хорошо! А у меня не знаю где душа, говорят, в пятках. Может быть, и там! Не помню, как я спустилась на сцену, как начала играть «Обнаженную». Показ происходил днем, и, несмотря на зашторенные окна, можно было разглядеть всех сидящих в зале. Я не видела никого — только свою ненавистную соперницу, ее дряхлого супруга и моего возлюбленного, которого я не хочу, не могу и не должна отдать этой высокомерной даме.
Кончился первый отрывок. Я переодевалась и перегримировывалась ко второму. Во время переодевания к нам никого не пускали. Хотя, я уверена, всем интереснее было смотреть на находящихся так близко в зале знаменитых и обожаемых артистов. Спокойный Иван Андреевич деловито осведомился, готова ли я. Очень взволнован был Николай Максимович. Ему изменило даже обычное шутливое настроение и обаятельное остроумие.
Но вот прошел и второй отрывок. Странно, но у меня было легко и ясно на душе. Может быть, я была спокойна потому, что считала, что смотрят не меня, а мою партнершу Наташу Гурбатову (ее, кстати сказать, действительно приняли в Малый театр, но через два-три года после окончания Филармонии). Пришел Иван Андреевич, всех нас перецеловал, похвалил и... ушел!
Вот и все. Никаких разговоров, никаких отзывов. Жизнь пошла своим обычным порядком. Опять стали репетировать «Огни Ивановой ночи».
Мне предстояло учиться в Филармонии еще два года, так как был прибавлен четвертый курс. Но вот однажды весной 1918 года после одной из репетиций «Огней» Рыжов отозвал меня в сторону и сказал: «Я должен передать вам, голуба моя, что вам предлагают вступить в труппу Художественного театра. Вас смотрели Станиславский и Немирович-Данченко, приглашение исходит от них». Я онемела. «Так что мне им ответить?»— продолжает Иван Андреевич. И вдруг я слышу внутри себя какой-то голос: «А Малый?!» Вижу, Иван Андреевич улыбается: «Ну, насчет Малого ничего не могу сказать, а вот Художественный вас приглашает».
Кажется, я действительно заплакала. Ведь все мысли, все мечты мои были о Малом. Я даже не осознала, какую великую честь мне оказывают—меня, восемнадцатилетнюю девчонку, еще не окончившую Филармонию, приглашают—и куда? В Художественный театр. И кто приглашает? Сам Станиславский. А я реву, реву, мотаю головой и бормочу: «Нет, нет, я—в Малый, в Малый». Едва успокоил меня мой незабвенный Иван Андреевич. «Ну как хотите, все же подумайте. Приглашения в Малый нет, а в Художественный уже зовут». Но при всем глубоком восхищении Художественным театром, его великолепными актерами, Станиславским, Леонидовым, Качаловым, Москвиным, моя душа и сердце были отданы .Малому театру и его корифеям. Им я поклонялась, у них хотела учиться и—что скрывать мою затаенную мечту! — .хотела быть принятой в их семью. И потому от приглашения в Художественный я отказалась. Мой отказ дипломатично согласился передать Иван Андреевич. Как он это .сделал—не знаю. Но и Станиславский и Немирович-Данченко всегда относились ко мне весьма доброжелательно. Я чувствовала их внимание и симпатию, хотя часто при встречах оба они шутя корили меня: «Не захотела к нам идти, не захотела». Тогда же, в тот памятный день, разговор был окончен.
Приближался переходный экзамен на третий курс. Никаких других показов больше не было. Экзамен прошел, все опять разъехались на лето, некоторые поступили на летний сезон играть маленькие рольки в Малаховке и Кускове. Шура Никольский играл в Кускове первые роли. И мы все гордились им и завидовали его успехам.
Я по-прежнему жила в Москве, вышла замуж за Дудкевича и бегала на теннисный корт в Пименовский переулок. Он и сейчас существует, этот двор, хотя переделан под детскую площадку. Часто для быстроты я прохожу этим двором на улицу Чехова, чтобы ехать в Малый театр. Мы с мужем жили тогда в Денежном переулке, носящем теперь имя Веснина, как раз напротив особняка, в котором был убит немецкий посол Мирбах.
Замужество мое привело к полному разрыву с матерью. Мне было семнадцать лет, Дудкевичу—много больше, и раннее замужество, по мнению мамы, могло помешать моей сценической карьере. Так до самого конца ее жизни эти отношения окончательно и не наладились.
Мама тогда опять вернулась на сцену, вступила в .труппу Калужского театра и увезла с собой отца. Папа и умер в Калуге в 1919 году. Когда, до Отечественной войны, мне случалось бывать на гастролях в этом чудесном городе;, Я всегда приходила на могилу отца. Однако, приехав в Калугу после войны, так и не нашла ее. Немцы зверски .бомбили город и кладбище—говорили, что гробы из земли взлетали в воздух. Да, было и такое.
Так вот, вернемся к лету 1918 года. Как уже говорилось, я часто бегала днем в Пименовский переулок играть в теннис, которым очень увлекалась, И вот с ракеткой под мышкой, с сеткой с мячами в руках и в теннисных, туфлях (это для скорости и удобства при ходьбе, транспортом я не пользовалась) я бегом спускаюсь с нашего четвертого этажа. Навстречу идет какой-то человек и спрашивает мою квартиру. Это был курьер из Малого театра с письмом для меня. Быстро расписавшись в книге о получении письма, я здесь же, на лестнице, прочла, что меня вызывают в Малый театр к Прову Михайловичу Садовскому. В то время Малый получил автономию в управлении. Была создана директория из пяти человек: председателем, вернее первым советским директором Малого театра назначили А. И. Южина, заведующим репертуаром (или, как теперь говорят, литературной частью) — И. С. Платона, художественной частью — П. М. Садовского, финансово-хозяйственной частью — С. А. Головина и кем-то тоже по хозяйству, по порядку в здании — А. А. Остужева. Правда, Остужев от этого вскоре отказался, передав все свои полномочия Головину.
Вот к Прову Михайловичу меня и вызывали. Не помня себя и не подумав, в каком я виде, так с ракеткой, мячами и в совсем неподобающем костюме (правда, тогда на теннис надевали обыкновенные юбки, время-то было— 1918 год!) я и помчалась в Малый театр. Пров Михайлович сам очень любил спорт. Увидев меня запыхавшуюся, красную, со спортивным инвентарем, он весело расхохотался и стал расспрашивать, где и с кем я играю. Оказалось, что именно в домах рядом с теннисным кортом была и его квартира и квартира его брата Михаила Михайловича. Пошутив и поговорив о лучших тогда теннисистах Тепляковой и Вербицком (артисте Художественного театра), Пров Михайлович приступил к серьезному разговору. Он сказал, что мне предлагается с осени вступить в труппу Малого театра. Лично он считает, что мне надо сначала поступить во вспомогательный состав, но А. И. Южин настаивает, чтобы я сразу же была принята в основной состав. Оба они надеются, что в театре я научусь большему, чем обучаясь еще два года в Филармонии. Сейчас мне следует пройти в канцелярию театра и подписать контракт (тогда были контракты). «Разумеется, если вы согласны поступить к нам в театр»,— добавил, лукаво улыбаясь, Пров Михайлович.
Согласна ли я!!! Боже мой, да я ног под собой не чуяла! Слова не могла вымолвить, то перекладывала мячи, то хваталась за ракетку, а Пров Михайлович, наш кумир Садовский, откровенно хохотал, глядя на меня, чем повергал в еще большее смущение. Я сидела немая и красная как рак. Не помню, как я оказалась в канцелярии у Василевского, тогда, очевидно, заведовавшего ею. Не помню, как подписывала свой первый контракт на самый первый оклад—четыреста рублей. Помню только, что Василевский говорил со мной с большим почтением, не как с восемнадцатилетней девчонкой, а как с молодой женщиной, актрисой, вступающей в труппу Малого театра. Тут же мне сообщили, когда назначается открытие сезона и что за две недели до этого следует явиться на сбор труппы. По торжественному тону Василевского я поняла, что сбор труппы — событие, к которому надо готовиться и внутренне и внешне. Как мне кажется, теннисные туфли и весь мой облик несколько смущала этого старого, бесконечно преданного Малому театру человека, имевшего дело с самим Южиным, Ермоловой, Садовской и их товарищами.
Так состоялось моё приглашение в Малый театр. Так исполнилась мечта моей жизни. На все годы, отпущенные мне судьбой, осталась я верна моему родному, любимому театру, где испытала и большие радости и горькие минуты, что неизбежно сопровождает жизнь артиста.
Дата публикации: 11.04.2005

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ (окончание)
Мы переехали в Москву, и начались хлопоты. Во-первых, следовало обзавестись жильем. Нашли маленькую квартирку на Зубовском бульваре, Дворцовый проезд. Далее, предстояло выбирать, где же мне учиться. О частной школе нечего было и думать—на это не хватало средств. Надо было ехать в Петроград — пытаться поступить в школу при Александрийском театре. Как дочь раненого офицера меня могли принять на казенный счет. Но ехать в далекий Питер, где нет никого знакомых... И страшно, и не хочется отрываться от родной Москвы.
Выяснилось, что на казенный счет меня могли бы. принять на драматическое отделение Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. И тут было решено обратиться за советом не более и не менее как к самому А. И. Южину, первому актеру Малого театра и кумиру нашей семьи. Мы не имели с ним никаких общих знакомых, никого, кто бы мог ввести нас к этому знаменитому человеку. И мама написала ему письмо. В нем она просила о визите и, разумеется, охарактеризовала свою единственную дочь как будущую Ермолову.
И вот Александр Иванович Южин, вероятно, посмеиваясь в душе, все же, несмотря на огромную занятость, назначил нам день и час визита. Помню обстановку квартиры Александра Ивановича, ибо потом часто бывала там, подружившись на всю жизнь с племянницей Южина — Мусей Богуславской. Александр Иванович занимал целый этаж дома. Вместе с ним жила его жена, живая и обаятельная Мария Николаевна, его сестра Екатерина Ивановна, вдова, с дочкой Мусей, в которой Южины души не чаяли, и брат Владимир Иванович с семьей, которых я не знала, так как обитали они совершенно обособленно.
Итак, мы в темной, большой передней. Из нее через гостиную, убранную чуть-чуть в восточном вкусе (мельком увидела в стеклянном шкафу массу венков, сувениров и подношений замечательному артисту), прошли в большой угловой кабинет, весь заставленный книжными шкафами. Книги были не только в шкафу, но и всюду на столах. За большим письменным столом сидел Александр Иванович. Как сейчас помню его сутуловатую, большую фигуру. Он любезно поднялся нам навстречу.
О чем говорила мама, что был за разговор, я не помню. Понимала, что решается моя судьба. И очнулась лишь тогда, когда все с той же приветливой любезной улыбкой Александр Иванович предложил мне что-нибудь прочесть. Я пришла в себя. О! Тут уже все ясно. Мама прожужжала мне все уши, что я будущая Ермолова. И, конечно же, я должна была читать монолог из «Орлеанской девы» Шиллера, который так гениально читала сама великая Ермолова. Я прочла монолог «Простите вы, холмы, поля родные», какую-то басню, потом некрасовскую «Катерину». Александр Иванович слушал внимательно, не перебивая, и, когда я исчерпала весь свой репертуар, серьезно, без улыбки, не глядя на меня и что-то обдумывая, молчал. Молчали и мы с мамой. Какие мысли витали в голове моей тщеславной матушки—не знаю. Я же твердо была уверена, что читала отвратительно и провалилась.
И вообще, какая невероятная дерзость—прийти сюда, отнимать время—и у кого?! У самого Южина! Вот он и молчит, не зная, вероятно, как бы деликатнее нас выпроводить. Тут до моего сознания долетели слова: «В филармонии сейчас преподают все актеры нашего Малого театра, отдайте вашу дочь в Филармонию — так она будет ближе к нам!» На всю жизнь запомнились мне эти слова Александра Ивановича. А тогда, если можно было бы упасть без чувств от счастья, наверное, упала бы. Во всяком случае, все дальнейшее происходило как в тумане. Не помню, как мы простились с Александром Ивановичем, как ушли.
Были посланы просьбы о зачислении меня на казенный счет в Филармонию. Конечно, если Выдержу экзамены. Начались мои приготовления к этому серьезному испытанию. Готовила я, разумеется, те же произведения, что читала Южину. Напутственные слова Александра Ивановича хоть и ободрили меня, все же не изгнали из души некоторых сомнений. «А что если это были только любезные слова, сказанные, чтобы вежливо отделаться от назойливой мамаши, которая считает свою незадачливую дочь чуть ли не гением?!» Я не делилась с мамой этими мыслями. Она торжествовала и ни минуты не сомневалась, что я с блеском выдержу экзамены.
Наконец настал решающий день. Как сейчас помню мою альма-матер (теперь в этом здании находится ГИТИС). Во дворе — большой двухэтажный особняк. Широкая лестница в глубине полутемного холла. Наверху площадка, где сидели, ходили и стояли взволнованные девушки и юноши. Слева—громадные двери, за которыми находился большой зал и сидели они, наши экзаменаторы, вершители наших судеб. До мельчайших подробностей помню даже платье, в которое была одета: самое лучшее, какое у меня имелось, скромное черненькое платье. Но зато мама дала мне янтарные серьги и брошь! Среди жаждущих и дрожащих новичков встречались и «опытные» уже второкурсники, критически нас оглядывавшие и дававшие свысока «полезные советы». Удивительно приятный юноша, тоже со второго курса, своей доброжелательностью, юмором и потрясающей способностью копировать всем нам знакомых актеров поддерживал в нас, умиравших от страха, бодрость и надежду. Юноша этот был, как он себя всем рекомендовал, Шура Никольский»
Впоследствии я узнала его как чудесного товарища, любимца Филармонии, а еще через несколько лет и талантливейшего актера Малого театра Сашина-Никольского. С ним до конца его жизни меня связывала сердечная дружба. Да и в театре он был общим любимцем.
Тогда же Шура искоса присматривался ко мне и наконец, явно почувствовав, несмотря на независимый вид, мое адское волнение, не выдержал и подошел. Спросил, что я намерена читать на экзамене. «Пролог «Орлеанской девы» — это значит «Простите вы, холмы, поля родные,..», да?—протянул он многозначительно. — Героиня, значит. Так-так... А раньше вы что-нибудь играли, в любительских спектаклях, я подразумеваю?» С апломбом и уверенностью я назвала ряд ролей, которые, как мне думалось, я с успехом воплощала в маленьком клубе в Новогирееве, а до этого в классах института. И еще раньше, в антрепризе Собольщикова-Самарина. «Да,— сурово произнес Шура Никольский,—стаж порядочный. Только знаете что я вам посоветую? Не вздумайте все это выложить экзаменаторам, они таких «опытных» актеров не очень-то жалуют!» Вот тебе и на! А я-то думала!.. Но думать было некогда—меня вызвали в зал.
За столом сидело много совсем незнакомых мне людей. Никого из актеров я со страху не узнала, хотя не раз видела их на сцене. Помню только, что самый главный, председатель, был очень крупный мужчина, с довольно красивым лицом. Как я впоследствии узнала, это был Н. Н. Греков, в прошлом актер Малого театра, из-за болезни ног вышедший на пенсию и в то время возглавлявший драматическое отделение Филармонического училища. Все преподаватели драматических курсов находились у него в подчинении, хотя сам Греков преподаванием не занимался. Директором всего училища являлся профессор А. А. Брандуков, один из лучших виолончелистов того времени.
В драматических классах преподавали многие представители Малого театра—режиссер И. С. Платон, прекрасный актер Н. К. Яковлев, великолепный исполнитель эпизодических ролей И. А. Рыжов, жена Платона М. П. Юдина, бывшая актриса Малого театра, тогда
ушедшая на пенсию.
В то время никаких помощников педагоги не имели. Каждый из них руководил своим курсом с самого начала до выпуска. И лишь на первом курсе было две группы, одну из которых вела М. П. Юдина. В дальнейшем она передавала наиболее способных следующему педагогу на второй курс, а слабые ученики отсеивались.
В 1916 году на первый курс набирали И. А. Рыжов: и М. П. Юдина.
Итак, экзамены. Я прочитала пролог к «Орлеанской деве» и какую-то басню. Меня не прервали. Затем\\\\\\\' посыпались вопросы: почему хочу идти на сцену, кто родители, что я читала, где получила среднее образование, играла ли вообще. Вопреки советам Шуры Никольского, я с гордостью сказала, что играла очень много в любительских спектаклях и в институте, и в Гирееве.
Когда я хвасталась участием в антрепризе Собольщикова-Самарина, перечисляя свои детские роли, все сидевшие за столом заулыбались. Как я вышла из зала, как ждала своей участи—не помню. Знаю только, что мне очень хотелось попасть к И. А. Рыжову. В том, что меня вообще примут в Филармонию, я почему-то совсем не сомневалась. Так и случилось. Меня приняли, и взял меня в свой класс И. А. Рыжов, у которого я училась в течение двух лет пребывания в Филармонии.
Чудесные это были годы. Мы очень дружили не только со своими сверстниками, однокурсниками, но и с учениками вокального отделения и музыкальных классов.
Постоянно ходили на зачеты вокалистов и вечера музыкантов, болели за своих любимцев. Так же и они интересовались нами, «драматическими». Возникали и неизбежные свадьбы. Но объединяло всех главным образом творчество.
Когда я была еще на первом курсе, второй курс И. К. Яковлева давал полугодовой экзаменационный вечер отрывков из пьес. И вдруг в программу включают мой отрывок из пьесы И. В. Шпажинского «В старые годы», который я готовила у Рыжова. Беспрецедентный случай в Филармонии. За меня волновались буквально все. Еще бы, подобные вечера на втором курсе проходили в присутствии не только Грекова, но и самого Брандукова. Зал был полон учащимися и их родственниками. Вечер прошел удачно. Особенно хороша была любимая ученица Яковлева Аннинка Галлинг; Когда она переходила на третий курс, Яковлев поставил для нее «Подростка» Вебера и\\\\\\\' Грессе, а на роль Нанси Валье взял меня, тогда студентку второго курса. Это тоже было для меня большой честью. На драматическом отделении Яковлева все боялись. Он был очень строг, требователен, и тишина и внимание на его уроках стояли совершенно удивительные.
Помню, я страшно волновалась на репетициях «Подростка». Роль, конечно, выучила назубок. И вдруг из зала раздается громкий голос Николая Капитоновича: «Что это вы, душечка, все руками машете, как ветряная мельница! Ну-ка успокойте руки, начинайте сначала и не трепыхайтесь так». Мне на всю жизнь запомнились эти слова. Часто, работая над ролью, я думаю о них и теперь.
Иван Андреевич Рыжов был требователен, но и очень мягок. Он, скорее, был нашим другом или необыкновенно терпеливым отцом. Однажды только видела я его разгневанным. Один из учеников, явно не приготовившись к уроку, позволил себе на сцене глупую отсебятину. И Иван Андреевич накричал на него.
Рыжов был большим другом и поклонником Марии Николаевны Ермоловой. Он часто говорил нам о ней, о ее отношении к театру, к работе, о ее трепетном волнении на репетициях и спектаклях. Мы благоговейно впитывали в себя эти рассказы. Они воспитывали в нас то подлинное уважение к театру, ту беспредельную любовь к искусству, примером которых была Ермолова.
Иван Андреевич Рыжов прежде всего будил в своих учениках чувство. «Почувствуйте правильно, тогда и роль пойдет»,— говорил он. Он шел от восприятия внутреннего мира человека. Но объяснить и раскрыть процесс подхода к роли он, как и все почти тогдашние актеры-педагоги, не умел.
Мне рассказывали как-то, что одна известная актриса обратилась к Ермоловой с просьбой пройти с ней роль из репертуара Марии Николаевны. Ермолова страшно смутилась и ответила, что не умеет рассказывать и объяснять, как надо делать. В результате Мария Николаевна предложила огорченной просительнице: «Знаете что, голубушка, давайте лучше я вам сыграю всю роль, а вы посмотрите». Объяснить, научить Ермолова не могла. Однако стоило понаблюдать, как она ведет себя перед выходом на сцену, и становились понятны слова Станиславского «войти в круг». Стоит вспомнить знаменитые слова Ольги Осиповны Садовской: «Я тебе, голубчик, крючочек, а ты мне — петельку». Именно о таком общении с партнером писал Станиславский в своей «системе».
Да, не умели великие «могикане» старого театра рассказать, как они творят, как создают свои гениальные роли. Они знали только какие-то общие, но весьма существенные принципы. Щепкин говорил: «Будь в обществе, Наблюдай жизнь». Ермолова часто посещала выставки живописцев и скульпторов, не пропускала наиболее интересные симфонические концерты. Бывая в обществе, обычно молчала, но внимательно слушала и наблюдала собравшихся. Много читала. Читала и искала специальные труды и художественные произведения, относящиеся к тем эпохам, в которых жили и действовали ее героини. Все это вбиралось, проникало в память и душу, а потом—в самую лабораторию ее гениального творчества.
В Филармонии преподавались разные дисциплины, например танцы. Следили за пластикой, много уделялось внимания старинным танцам—в них требовалось изящество и музыкальность. Занимались фехтованием, которым я очень увлекалась. Наш преподаватель Апушкин считал меня одной из лучших учениц. Танцы и фехтование были обязательны для всех учеников Филармонии. Но особенно рьяно посещали эти уроки вокалисты и мы.
Очень старались Шура Никольский и я. К тому же я просто терзалась ревностью, потому что Шура чаще и больше танцевал с Анночкой Галлинг. Она была очаровательна. Шведка по происхождению, Анночка училась на курс старше меня. После окончания Филармонии она вышла замуж за известного режиссера Эггерта. Я потеряла Анночку из вида. А когда мне дали ее адрес и я пошла к ней, увы, мы не нашли общего языка и оказались чужими. Мне остались только чудесные воспоминания о тоненькой, хрупкой, очаровательной Анночке Галлинг.
Помню, в Филармонии мы самостоятельно ставили что-то вроде спектакля-пантомимы. Назывался он «Нарцисс и Психея». Я изображала Нарцисса, Анночка была изумительной Психеей. Шел и второй такой же «самодеятельный» спектакль. На сцене под музыку старинного менуэта дремлет молодой маркиз. У задника, хорошо освещенная и похожая на картину в раме, стоит маркиза. Кто-то читает стихи. Маркиз удивленно замечает, что маркиза оживает. Он предлагает ей руку. Они танцуют менуэт. Затем маркиза опять входит в раму и превращается в картину. Маркиз садится в свое кресло и засыпает— то, что произошло, было лишь сном.
На такие «самодеятельные» миниатюры приглашались преподаватели, все учащиеся Филармонии, родные и знакомые учащихся. Всем заправлял Шура Никольский, а мы с Анночкой Галлинг были его первыми актрисами.
Занимались мы на курсах и сценическим движением. Преподаватель—его фамилия была Загаров—задавал нам этюды с падениями, быстрыми, ловкими поворотами тела, движениями по лестнице, красивыми прыжками на стол и стулья. Как я теперь понимаю, это было и некое подобие физкультуры и урок пластики, умения стать в нужную и выразительную позу.
Помню один из заданных мне этюдов. Я в комнате. В окна стреляют. Под пулями я должна через всю сцену добраться до стола—там мой револьвер. Пока я перебежками направляюсь к заветному столику, меня ранят. Дальше надо изобразить боль от раны и продолжать движение к цели. Второе ранение, я падаю, но все же ползу к столу. Больно, теряю силы. Но вот уже цель близка. Я карабкаюсь по ножке стола. Рука уже шарит по столу, ища спасительное оружие. Но силы иссякают, и я в последнем порыве выпрямляюсь и замертво падаю. Считалось, что я все это хорошо выполнила.
Очень любили мы лекции по истории театра. Читал их незабвенный Владимир Александрович Филиппов. Филиппов действительно был великолепный знаток театра и горячий поклонник Малого. Я почти стенографически записывала его лекции и очень гордилась, когда много лет спустя Владимир Александрович попросил у меня мои тетради для своей книги. Владимира Александровича высоко чтили все актеры, даже самые маститые. Он часто писал рецензии и считался после А. Р. Кугеля, которого я еще застала, лучшим критиком и историком театрального искусства, глубоко уважающим и любящим актера. Он бывал и суров в своих оценках, но они всегда оказывались объективными и приносили настоящую пользу актеру и театру.
Велись у нас занятия по дикции, постановке голоса, которым придавалось большое значение.
Были уроки грима, которые давал Николай Максимович Сорокин, лучший гример Малого театра. Красивый, умный человек, он много и остроумно рассказывал нам об актерах этого театра. И мы с большим вниманием слушали о Ермоловой, Лешковской, Южине и, конечно, о наших кумирах—Остужеве и Прове Садовском.
Теперь грим не в моде. Актеры чаще играют с так называемым «своим лицом». В те времена при существовавшей технике освещения и молодым актерам надо было накладывать грим. Особенно если актеру приходилось добиваться сходства, когда он играл историческое лицо, известное по портретам.
Обаятельный Николай Максимович был большим другом актеров. У меня остались о нем самые задушевные воспоминания. Нередко плакалась ему в жилетку, когда наступали трудные минуты в театре, да и помимо театральных невзгод часто делилась с ним своими заботами. Настоящий художник был Н. М. Сорокин, его преданность театру передалась и нам.
Так, очень дружно и интересно, проходили наши учебные годы в Филармонии. Закончился первый год, сданы экзамены, все разлетелись на лето кто куда. Мы с мамой и отцом не уехали из Москвы. От весны 1917 года остались в памяти манифестации, дамы с красными бантами, влюбленно прославлявшие Керенского, шум и сумятица. Меня все это мало трогало. Я думала лишь о предстоящем учебном годе и о новых сценических отрывках — на втором курсе нам предстояло готовить уже целые акты. Отречение царя, приход Временного правительства—все это как-то прошло мимо меня. Дома разговоры об этих событиях велись, но, как я теперь понимаю, чисто обывательские. Отец давно был в отставке; человек-больной, он мало интересовался происходящим. К тому времени мы с мамой жили уже на Кузнецком мосту. Мама получила место управляющей домами, и мы имели казенную квартиру. Папа жил отдельно, во Всехсвятском, в доме офицеров-ветеранов. Ему требовался постоянный уход. Теперь я считаю себя виноватой, что позволила отцу уехать от нас. Многое стало мне понятно слишком поздно. А тогда эгоистичная молодость не разбиралась во взаимоотношениях родителей. Что-то от меня скрывали; допытываться я не хотела из ложной стыдливости, да и не умела. И легкомыслия в то время было хоть отбавляй.
Осенью 1917 года занятия начались как обычно. Но настроения учащихся изменились. Особенно это чувствовалось на музыкальном отделении. Ученики там были по возрасту много старше драматических. Как-то сразу они отдалились от нас. Кое-кто и из вокальных классов перестал общаться с нами.
Предстояло готовиться к полугодовым зачетам. У меня были две, совершенно различные по характеру, чудесные роли: комедийный акт из пьесы «Ренессанс», написанной белыми стихами, где я играла юношу Витторино, и третий акт «Марии Стюарт». Как же билась я с моей Марией, плакала над ней! И темперамента как будто хватало и... ничего не выходило! Долго мучились мы, ученица и преподаватель, и наконец Иван Андреевич сказал мне просто: «Голуба моя, не умею я вам объяснить, в чем дело, но не выходит эта сцена королев у вас. Мария Николаевна Ермолова играла ее чуть-чуть над полом. У нее была и искренность и простота, был и пафос трагедии, а не обыденный разговор. А как она этого достигала — сам не знаю, как объяснить. Вижу, что не то у вас получается, а как помочь и что сделать—не придумаю. Давайте выберем другой отрывок, из другой\\\\\\\' пьесы. Может быть, Мария Стюарт вам пока еще трудна, не по силам».
Так, поплакав, я и отказалась от Марии Стюарт. И на всю жизнь эта роль осталась моей недостижимой творческой мечтой. Лишь к какой-то шиллеровской дате я вновь возвратилась к третьему акту—сцене королев—в концертном исполнении. Елизавету очень хорошо играла С. Н. Фадеева, а у меня Мария так и не получилась. Правда, мы с успехом играли эту сцену в Колонном зале в Москве во время шиллеровских торжеств, а также в военно-шефской поездке по ГДР—в Берлине, в Доме творчества немецких актеров. Позднее я с ужасом узнала, что в числе зрителей был сам Брехт.
Несколько раз я просила театр, чтобы поставили «Марию Стюарт», но... мало ли несбыточных мечтаний у актеров! А может, все это к лучшему, и что-то было для меня недоступное в этой Марии. Но я хотела бы сыграть и Елизавету. Мечтала, что к 100-летию со дня рождения Ермоловой Малый театр поставит эту пьесу, столь любимую Марией Николаевной. Мне было все равно, играть Марию или Елизавету, только бы пошла эта пьеса. Но — увы!..
Итак, значит, — прощай, Мария. Рыжов дал мне отрывок из пьесы Анри Батайля «Обнаженная», эпизод, когда героиня врывается к своей сопернице — какой-то высокопоставленной даме. Акт сильный, интересный и проникнутый большим драматизмом.
И вот два мои отрывка удачно сданы. Я отчиталась за первое полугодие.
А в это время в стране происходили бурные события. Захватили они и филармонию. Помню, на каком-то собрании меня выдвинули делегатом на совещание в университет. От музыкального отделения Филармонии был выдвинут Георгий Николаевич Дудкевич. В огромной аудитории с тусклым освещением стоял густой дым от курения. Шли бесконечные дебаты. Естественно, я держалась около Дудкевича. Он был много старше меня, побывал за границей (аккомпанировал в Германии знаменитому тенору Смирнову). Часто мы вместе возвращались домой. На несколько дней занятия были прерваны. В Москве стреляли. По телефону, еще работавшему на Арбате, где жил Дудкевич, сообщали, что там находятся юнкера и победили белые. А у нас на Кузнецком мосту было уже точно известно, что большевики взяли Кремль. Обыватели, движимые страхом перед этими неизвестными большевиками, попрятались и не выходили на улицу.
Мы с мамой все же на улицу выглядывали. Мне запомнился такой случай. Мимо нашего парадного пробегал солдат, молоденький, совсем мальчик. То ли он был ранен, то ли насмерть перепуган, но он явно искал» какого-либо убежища. Мы с мамой почти втащили его к нам, дали воды, стали расспрашивать, кто он: белый, красный? Солдатик ничего не отвечал. Мы решили оставить его в покое. Вдруг солдат пришел в себя, начал озираться, увидел приличную обстановку, рояль, быстро подхватил свою винтовку и бросился вон из квартиры. Только мы его и видели. Что его испугало? Что побудило стремглав покинуть двух совершенно безоружных женщин? Не знаю. Но вот затихла стрельба. Новая власть прочно взяла бразды правления в свои руки, власть рабочих, власть большевиков. Помню, что новое правительство разрешило хоронить всех павших офицеров и юнкеров. Я случайно оказалась на Тверской, когда большая похоронная процессия направлялась к Ходынскому полю. Мне кажется, это был честный акт по отношению к противнику. И жаль, что в те годы многие не поняли своих заблуждений и великих идей грядущего.
Мы возобновили наши занятия, театры открыли свои двери. Налаживалась новая жизнь. Я готовилась к переходным зачетам на третий курс. Сдавать надо было уже целые пьесы. Иван Андреевич решил поставить «Огни Ивановой ночи» Г. Зудермана. Я работала над Мариккой. И вдруг, в самый разгар работы, Иван Андреевич снова назначает репетиции «Обнаженной» и «Ренессанса», то есть уже сданных мною отрывков. Никто ничего не понимает. Иван Андреевич молчит. А по Филармонии ползут слухи, что кто-то будет смотреть Гоголеву. Кто? Почему? Все молчат. Назначается день просмотра. У меня складывается впечатление, что просмотр устраивается для директора училища Брандукова, перед которым я на первом курсе уже играла с второкурсниками в пьесе Шпажинского. Однако всеведущий Шура Никольский шепнул мне, что дело не только в Брандукове. Кажется, ждут представителей Малого и Художественного театров.
На генеральной, надевая мне парик, милый Николай Максимович Сорокин лукаво улыбается, что-то подправляет и... молчит.
И вот настал день показа. Не помню, как я пришла в Филармонию, как села гримироваться. Торжественное молчание моих однокурсников, участников спектакля, взволновало еще больше. Поцеловав меня в лоб, Иван Андреевич куда-то вышел. Посерьезнел и Николай Максимович. Вдруг влетает Шура Никольский: «В зале — Южин и Лешковская!» Исчезает, чтобы через минуту снова вбежать: «Приехал Станиславский с Немировичем!» А потом еще и еще: «В зале — Яблочкина, Остужев, Садовский, Книппер» и т. д. Наконец появляется Иван Андреевич. Он волнуется, но, как всегда, старается быть спокойным и ровным. Поймав мой отчаянный взгляд, внимательно и ободряюще оглядывает меня и, улыбаясь, замечает: «Да, голуба, играйте все так же, как и играли. В зале все друзья. Наше начальство вам известно, смотрят и Греков и Брандуков, ну и художественный совет Малого театра, и из Художественного пришли. Не волнуйтесь, все будет хорошо».
Да, хорошо! А у меня не знаю где душа, говорят, в пятках. Может быть, и там! Не помню, как я спустилась на сцену, как начала играть «Обнаженную». Показ происходил днем, и, несмотря на зашторенные окна, можно было разглядеть всех сидящих в зале. Я не видела никого — только свою ненавистную соперницу, ее дряхлого супруга и моего возлюбленного, которого я не хочу, не могу и не должна отдать этой высокомерной даме.
Кончился первый отрывок. Я переодевалась и перегримировывалась ко второму. Во время переодевания к нам никого не пускали. Хотя, я уверена, всем интереснее было смотреть на находящихся так близко в зале знаменитых и обожаемых артистов. Спокойный Иван Андреевич деловито осведомился, готова ли я. Очень взволнован был Николай Максимович. Ему изменило даже обычное шутливое настроение и обаятельное остроумие.
Но вот прошел и второй отрывок. Странно, но у меня было легко и ясно на душе. Может быть, я была спокойна потому, что считала, что смотрят не меня, а мою партнершу Наташу Гурбатову (ее, кстати сказать, действительно приняли в Малый театр, но через два-три года после окончания Филармонии). Пришел Иван Андреевич, всех нас перецеловал, похвалил и... ушел!
Вот и все. Никаких разговоров, никаких отзывов. Жизнь пошла своим обычным порядком. Опять стали репетировать «Огни Ивановой ночи».
Мне предстояло учиться в Филармонии еще два года, так как был прибавлен четвертый курс. Но вот однажды весной 1918 года после одной из репетиций «Огней» Рыжов отозвал меня в сторону и сказал: «Я должен передать вам, голуба моя, что вам предлагают вступить в труппу Художественного театра. Вас смотрели Станиславский и Немирович-Данченко, приглашение исходит от них». Я онемела. «Так что мне им ответить?»— продолжает Иван Андреевич. И вдруг я слышу внутри себя какой-то голос: «А Малый?!» Вижу, Иван Андреевич улыбается: «Ну, насчет Малого ничего не могу сказать, а вот Художественный вас приглашает».
Кажется, я действительно заплакала. Ведь все мысли, все мечты мои были о Малом. Я даже не осознала, какую великую честь мне оказывают—меня, восемнадцатилетнюю девчонку, еще не окончившую Филармонию, приглашают—и куда? В Художественный театр. И кто приглашает? Сам Станиславский. А я реву, реву, мотаю головой и бормочу: «Нет, нет, я—в Малый, в Малый». Едва успокоил меня мой незабвенный Иван Андреевич. «Ну как хотите, все же подумайте. Приглашения в Малый нет, а в Художественный уже зовут». Но при всем глубоком восхищении Художественным театром, его великолепными актерами, Станиславским, Леонидовым, Качаловым, Москвиным, моя душа и сердце были отданы .Малому театру и его корифеям. Им я поклонялась, у них хотела учиться и—что скрывать мою затаенную мечту! — .хотела быть принятой в их семью. И потому от приглашения в Художественный я отказалась. Мой отказ дипломатично согласился передать Иван Андреевич. Как он это .сделал—не знаю. Но и Станиславский и Немирович-Данченко всегда относились ко мне весьма доброжелательно. Я чувствовала их внимание и симпатию, хотя часто при встречах оба они шутя корили меня: «Не захотела к нам идти, не захотела». Тогда же, в тот памятный день, разговор был окончен.
Приближался переходный экзамен на третий курс. Никаких других показов больше не было. Экзамен прошел, все опять разъехались на лето, некоторые поступили на летний сезон играть маленькие рольки в Малаховке и Кускове. Шура Никольский играл в Кускове первые роли. И мы все гордились им и завидовали его успехам.
Я по-прежнему жила в Москве, вышла замуж за Дудкевича и бегала на теннисный корт в Пименовский переулок. Он и сейчас существует, этот двор, хотя переделан под детскую площадку. Часто для быстроты я прохожу этим двором на улицу Чехова, чтобы ехать в Малый театр. Мы с мужем жили тогда в Денежном переулке, носящем теперь имя Веснина, как раз напротив особняка, в котором был убит немецкий посол Мирбах.
Замужество мое привело к полному разрыву с матерью. Мне было семнадцать лет, Дудкевичу—много больше, и раннее замужество, по мнению мамы, могло помешать моей сценической карьере. Так до самого конца ее жизни эти отношения окончательно и не наладились.
Мама тогда опять вернулась на сцену, вступила в .труппу Калужского театра и увезла с собой отца. Папа и умер в Калуге в 1919 году. Когда, до Отечественной войны, мне случалось бывать на гастролях в этом чудесном городе;, Я всегда приходила на могилу отца. Однако, приехав в Калугу после войны, так и не нашла ее. Немцы зверски .бомбили город и кладбище—говорили, что гробы из земли взлетали в воздух. Да, было и такое.
Так вот, вернемся к лету 1918 года. Как уже говорилось, я часто бегала днем в Пименовский переулок играть в теннис, которым очень увлекалась, И вот с ракеткой под мышкой, с сеткой с мячами в руках и в теннисных, туфлях (это для скорости и удобства при ходьбе, транспортом я не пользовалась) я бегом спускаюсь с нашего четвертого этажа. Навстречу идет какой-то человек и спрашивает мою квартиру. Это был курьер из Малого театра с письмом для меня. Быстро расписавшись в книге о получении письма, я здесь же, на лестнице, прочла, что меня вызывают в Малый театр к Прову Михайловичу Садовскому. В то время Малый получил автономию в управлении. Была создана директория из пяти человек: председателем, вернее первым советским директором Малого театра назначили А. И. Южина, заведующим репертуаром (или, как теперь говорят, литературной частью) — И. С. Платона, художественной частью — П. М. Садовского, финансово-хозяйственной частью — С. А. Головина и кем-то тоже по хозяйству, по порядку в здании — А. А. Остужева. Правда, Остужев от этого вскоре отказался, передав все свои полномочия Головину.
Вот к Прову Михайловичу меня и вызывали. Не помня себя и не подумав, в каком я виде, так с ракеткой, мячами и в совсем неподобающем костюме (правда, тогда на теннис надевали обыкновенные юбки, время-то было— 1918 год!) я и помчалась в Малый театр. Пров Михайлович сам очень любил спорт. Увидев меня запыхавшуюся, красную, со спортивным инвентарем, он весело расхохотался и стал расспрашивать, где и с кем я играю. Оказалось, что именно в домах рядом с теннисным кортом была и его квартира и квартира его брата Михаила Михайловича. Пошутив и поговорив о лучших тогда теннисистах Тепляковой и Вербицком (артисте Художественного театра), Пров Михайлович приступил к серьезному разговору. Он сказал, что мне предлагается с осени вступить в труппу Малого театра. Лично он считает, что мне надо сначала поступить во вспомогательный состав, но А. И. Южин настаивает, чтобы я сразу же была принята в основной состав. Оба они надеются, что в театре я научусь большему, чем обучаясь еще два года в Филармонии. Сейчас мне следует пройти в канцелярию театра и подписать контракт (тогда были контракты). «Разумеется, если вы согласны поступить к нам в театр»,— добавил, лукаво улыбаясь, Пров Михайлович.
Согласна ли я!!! Боже мой, да я ног под собой не чуяла! Слова не могла вымолвить, то перекладывала мячи, то хваталась за ракетку, а Пров Михайлович, наш кумир Садовский, откровенно хохотал, глядя на меня, чем повергал в еще большее смущение. Я сидела немая и красная как рак. Не помню, как я оказалась в канцелярии у Василевского, тогда, очевидно, заведовавшего ею. Не помню, как подписывала свой первый контракт на самый первый оклад—четыреста рублей. Помню только, что Василевский говорил со мной с большим почтением, не как с восемнадцатилетней девчонкой, а как с молодой женщиной, актрисой, вступающей в труппу Малого театра. Тут же мне сообщили, когда назначается открытие сезона и что за две недели до этого следует явиться на сбор труппы. По торжественному тону Василевского я поняла, что сбор труппы — событие, к которому надо готовиться и внутренне и внешне. Как мне кажется, теннисные туфли и весь мой облик несколько смущала этого старого, бесконечно преданного Малому театру человека, имевшего дело с самим Южиным, Ермоловой, Садовской и их товарищами.
Так состоялось моё приглашение в Малый театр. Так исполнилась мечта моей жизни. На все годы, отпущенные мне судьбой, осталась я верна моему родному, любимому театру, где испытала и большие радости и горькие минуты, что неизбежно сопровождает жизнь артиста.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ (окончание)
Мы переехали в Москву, и начались хлопоты. Во-первых, следовало обзавестись жильем. Нашли маленькую квартирку на Зубовском бульваре, Дворцовый проезд. Далее, предстояло выбирать, где же мне учиться. О частной школе нечего было и думать—на это не хватало средств. Надо было ехать в Петроград — пытаться поступить в школу при Александрийском театре. Как дочь раненого офицера меня могли принять на казенный счет. Но ехать в далекий Питер, где нет никого знакомых... И страшно, и не хочется отрываться от родной Москвы.
Выяснилось, что на казенный счет меня могли бы. принять на драматическое отделение Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. И тут было решено обратиться за советом не более и не менее как к самому А. И. Южину, первому актеру Малого театра и кумиру нашей семьи. Мы не имели с ним никаких общих знакомых, никого, кто бы мог ввести нас к этому знаменитому человеку. И мама написала ему письмо. В нем она просила о визите и, разумеется, охарактеризовала свою единственную дочь как будущую Ермолову.
И вот Александр Иванович Южин, вероятно, посмеиваясь в душе, все же, несмотря на огромную занятость, назначил нам день и час визита. Помню обстановку квартиры Александра Ивановича, ибо потом часто бывала там, подружившись на всю жизнь с племянницей Южина — Мусей Богуславской. Александр Иванович занимал целый этаж дома. Вместе с ним жила его жена, живая и обаятельная Мария Николаевна, его сестра Екатерина Ивановна, вдова, с дочкой Мусей, в которой Южины души не чаяли, и брат Владимир Иванович с семьей, которых я не знала, так как обитали они совершенно обособленно.
Итак, мы в темной, большой передней. Из нее через гостиную, убранную чуть-чуть в восточном вкусе (мельком увидела в стеклянном шкафу массу венков, сувениров и подношений замечательному артисту), прошли в большой угловой кабинет, весь заставленный книжными шкафами. Книги были не только в шкафу, но и всюду на столах. За большим письменным столом сидел Александр Иванович. Как сейчас помню его сутуловатую, большую фигуру. Он любезно поднялся нам навстречу.
О чем говорила мама, что был за разговор, я не помню. Понимала, что решается моя судьба. И очнулась лишь тогда, когда все с той же приветливой любезной улыбкой Александр Иванович предложил мне что-нибудь прочесть. Я пришла в себя. О! Тут уже все ясно. Мама прожужжала мне все уши, что я будущая Ермолова. И, конечно же, я должна была читать монолог из «Орлеанской девы» Шиллера, который так гениально читала сама великая Ермолова. Я прочла монолог «Простите вы, холмы, поля родные», какую-то басню, потом некрасовскую «Катерину». Александр Иванович слушал внимательно, не перебивая, и, когда я исчерпала весь свой репертуар, серьезно, без улыбки, не глядя на меня и что-то обдумывая, молчал. Молчали и мы с мамой. Какие мысли витали в голове моей тщеславной матушки—не знаю. Я же твердо была уверена, что читала отвратительно и провалилась.
И вообще, какая невероятная дерзость—прийти сюда, отнимать время—и у кого?! У самого Южина! Вот он и молчит, не зная, вероятно, как бы деликатнее нас выпроводить. Тут до моего сознания долетели слова: «В филармонии сейчас преподают все актеры нашего Малого театра, отдайте вашу дочь в Филармонию — так она будет ближе к нам!» На всю жизнь запомнились мне эти слова Александра Ивановича. А тогда, если можно было бы упасть без чувств от счастья, наверное, упала бы. Во всяком случае, все дальнейшее происходило как в тумане. Не помню, как мы простились с Александром Ивановичем, как ушли.
Были посланы просьбы о зачислении меня на казенный счет в Филармонию. Конечно, если Выдержу экзамены. Начались мои приготовления к этому серьезному испытанию. Готовила я, разумеется, те же произведения, что читала Южину. Напутственные слова Александра Ивановича хоть и ободрили меня, все же не изгнали из души некоторых сомнений. «А что если это были только любезные слова, сказанные, чтобы вежливо отделаться от назойливой мамаши, которая считает свою незадачливую дочь чуть ли не гением?!» Я не делилась с мамой этими мыслями. Она торжествовала и ни минуты не сомневалась, что я с блеском выдержу экзамены.
Наконец настал решающий день. Как сейчас помню мою альма-матер (теперь в этом здании находится ГИТИС). Во дворе — большой двухэтажный особняк. Широкая лестница в глубине полутемного холла. Наверху площадка, где сидели, ходили и стояли взволнованные девушки и юноши. Слева—громадные двери, за которыми находился большой зал и сидели они, наши экзаменаторы, вершители наших судеб. До мельчайших подробностей помню даже платье, в которое была одета: самое лучшее, какое у меня имелось, скромное черненькое платье. Но зато мама дала мне янтарные серьги и брошь! Среди жаждущих и дрожащих новичков встречались и «опытные» уже второкурсники, критически нас оглядывавшие и дававшие свысока «полезные советы». Удивительно приятный юноша, тоже со второго курса, своей доброжелательностью, юмором и потрясающей способностью копировать всем нам знакомых актеров поддерживал в нас, умиравших от страха, бодрость и надежду. Юноша этот был, как он себя всем рекомендовал, Шура Никольский»
Впоследствии я узнала его как чудесного товарища, любимца Филармонии, а еще через несколько лет и талантливейшего актера Малого театра Сашина-Никольского. С ним до конца его жизни меня связывала сердечная дружба. Да и в театре он был общим любимцем.
Тогда же Шура искоса присматривался ко мне и наконец, явно почувствовав, несмотря на независимый вид, мое адское волнение, не выдержал и подошел. Спросил, что я намерена читать на экзамене. «Пролог «Орлеанской девы» — это значит «Простите вы, холмы, поля родные,..», да?—протянул он многозначительно. — Героиня, значит. Так-так... А раньше вы что-нибудь играли, в любительских спектаклях, я подразумеваю?» С апломбом и уверенностью я назвала ряд ролей, которые, как мне думалось, я с успехом воплощала в маленьком клубе в Новогирееве, а до этого в классах института. И еще раньше, в антрепризе Собольщикова-Самарина. «Да,— сурово произнес Шура Никольский,—стаж порядочный. Только знаете что я вам посоветую? Не вздумайте все это выложить экзаменаторам, они таких «опытных» актеров не очень-то жалуют!» Вот тебе и на! А я-то думала!.. Но думать было некогда—меня вызвали в зал.
За столом сидело много совсем незнакомых мне людей. Никого из актеров я со страху не узнала, хотя не раз видела их на сцене. Помню только, что самый главный, председатель, был очень крупный мужчина, с довольно красивым лицом. Как я впоследствии узнала, это был Н. Н. Греков, в прошлом актер Малого театра, из-за болезни ног вышедший на пенсию и в то время возглавлявший драматическое отделение Филармонического училища. Все преподаватели драматических курсов находились у него в подчинении, хотя сам Греков преподаванием не занимался. Директором всего училища являлся профессор А. А. Брандуков, один из лучших виолончелистов того времени.
В драматических классах преподавали многие представители Малого театра—режиссер И. С. Платон, прекрасный актер Н. К. Яковлев, великолепный исполнитель эпизодических ролей И. А. Рыжов, жена Платона М. П. Юдина, бывшая актриса Малого театра, тогда
ушедшая на пенсию.
В то время никаких помощников педагоги не имели. Каждый из них руководил своим курсом с самого начала до выпуска. И лишь на первом курсе было две группы, одну из которых вела М. П. Юдина. В дальнейшем она передавала наиболее способных следующему педагогу на второй курс, а слабые ученики отсеивались.
В 1916 году на первый курс набирали И. А. Рыжов: и М. П. Юдина.
Итак, экзамены. Я прочитала пролог к «Орлеанской деве» и какую-то басню. Меня не прервали. Затем\\\\\\\' посыпались вопросы: почему хочу идти на сцену, кто родители, что я читала, где получила среднее образование, играла ли вообще. Вопреки советам Шуры Никольского, я с гордостью сказала, что играла очень много в любительских спектаклях и в институте, и в Гирееве.
Когда я хвасталась участием в антрепризе Собольщикова-Самарина, перечисляя свои детские роли, все сидевшие за столом заулыбались. Как я вышла из зала, как ждала своей участи—не помню. Знаю только, что мне очень хотелось попасть к И. А. Рыжову. В том, что меня вообще примут в Филармонию, я почему-то совсем не сомневалась. Так и случилось. Меня приняли, и взял меня в свой класс И. А. Рыжов, у которого я училась в течение двух лет пребывания в Филармонии.
Чудесные это были годы. Мы очень дружили не только со своими сверстниками, однокурсниками, но и с учениками вокального отделения и музыкальных классов.
Постоянно ходили на зачеты вокалистов и вечера музыкантов, болели за своих любимцев. Так же и они интересовались нами, «драматическими». Возникали и неизбежные свадьбы. Но объединяло всех главным образом творчество.
Когда я была еще на первом курсе, второй курс И. К. Яковлева давал полугодовой экзаменационный вечер отрывков из пьес. И вдруг в программу включают мой отрывок из пьесы И. В. Шпажинского «В старые годы», который я готовила у Рыжова. Беспрецедентный случай в Филармонии. За меня волновались буквально все. Еще бы, подобные вечера на втором курсе проходили в присутствии не только Грекова, но и самого Брандукова. Зал был полон учащимися и их родственниками. Вечер прошел удачно. Особенно хороша была любимая ученица Яковлева Аннинка Галлинг; Когда она переходила на третий курс, Яковлев поставил для нее «Подростка» Вебера и\\\\\\\' Грессе, а на роль Нанси Валье взял меня, тогда студентку второго курса. Это тоже было для меня большой честью. На драматическом отделении Яковлева все боялись. Он был очень строг, требователен, и тишина и внимание на его уроках стояли совершенно удивительные.
Помню, я страшно волновалась на репетициях «Подростка». Роль, конечно, выучила назубок. И вдруг из зала раздается громкий голос Николая Капитоновича: «Что это вы, душечка, все руками машете, как ветряная мельница! Ну-ка успокойте руки, начинайте сначала и не трепыхайтесь так». Мне на всю жизнь запомнились эти слова. Часто, работая над ролью, я думаю о них и теперь.
Иван Андреевич Рыжов был требователен, но и очень мягок. Он, скорее, был нашим другом или необыкновенно терпеливым отцом. Однажды только видела я его разгневанным. Один из учеников, явно не приготовившись к уроку, позволил себе на сцене глупую отсебятину. И Иван Андреевич накричал на него.
Рыжов был большим другом и поклонником Марии Николаевны Ермоловой. Он часто говорил нам о ней, о ее отношении к театру, к работе, о ее трепетном волнении на репетициях и спектаклях. Мы благоговейно впитывали в себя эти рассказы. Они воспитывали в нас то подлинное уважение к театру, ту беспредельную любовь к искусству, примером которых была Ермолова.
Иван Андреевич Рыжов прежде всего будил в своих учениках чувство. «Почувствуйте правильно, тогда и роль пойдет»,— говорил он. Он шел от восприятия внутреннего мира человека. Но объяснить и раскрыть процесс подхода к роли он, как и все почти тогдашние актеры-педагоги, не умел.
Мне рассказывали как-то, что одна известная актриса обратилась к Ермоловой с просьбой пройти с ней роль из репертуара Марии Николаевны. Ермолова страшно смутилась и ответила, что не умеет рассказывать и объяснять, как надо делать. В результате Мария Николаевна предложила огорченной просительнице: «Знаете что, голубушка, давайте лучше я вам сыграю всю роль, а вы посмотрите». Объяснить, научить Ермолова не могла. Однако стоило понаблюдать, как она ведет себя перед выходом на сцену, и становились понятны слова Станиславского «войти в круг». Стоит вспомнить знаменитые слова Ольги Осиповны Садовской: «Я тебе, голубчик, крючочек, а ты мне — петельку». Именно о таком общении с партнером писал Станиславский в своей «системе».
Да, не умели великие «могикане» старого театра рассказать, как они творят, как создают свои гениальные роли. Они знали только какие-то общие, но весьма существенные принципы. Щепкин говорил: «Будь в обществе, Наблюдай жизнь». Ермолова часто посещала выставки живописцев и скульпторов, не пропускала наиболее интересные симфонические концерты. Бывая в обществе, обычно молчала, но внимательно слушала и наблюдала собравшихся. Много читала. Читала и искала специальные труды и художественные произведения, относящиеся к тем эпохам, в которых жили и действовали ее героини. Все это вбиралось, проникало в память и душу, а потом—в самую лабораторию ее гениального творчества.
В Филармонии преподавались разные дисциплины, например танцы. Следили за пластикой, много уделялось внимания старинным танцам—в них требовалось изящество и музыкальность. Занимались фехтованием, которым я очень увлекалась. Наш преподаватель Апушкин считал меня одной из лучших учениц. Танцы и фехтование были обязательны для всех учеников Филармонии. Но особенно рьяно посещали эти уроки вокалисты и мы.
Очень старались Шура Никольский и я. К тому же я просто терзалась ревностью, потому что Шура чаще и больше танцевал с Анночкой Галлинг. Она была очаровательна. Шведка по происхождению, Анночка училась на курс старше меня. После окончания Филармонии она вышла замуж за известного режиссера Эггерта. Я потеряла Анночку из вида. А когда мне дали ее адрес и я пошла к ней, увы, мы не нашли общего языка и оказались чужими. Мне остались только чудесные воспоминания о тоненькой, хрупкой, очаровательной Анночке Галлинг.
Помню, в Филармонии мы самостоятельно ставили что-то вроде спектакля-пантомимы. Назывался он «Нарцисс и Психея». Я изображала Нарцисса, Анночка была изумительной Психеей. Шел и второй такой же «самодеятельный» спектакль. На сцене под музыку старинного менуэта дремлет молодой маркиз. У задника, хорошо освещенная и похожая на картину в раме, стоит маркиза. Кто-то читает стихи. Маркиз удивленно замечает, что маркиза оживает. Он предлагает ей руку. Они танцуют менуэт. Затем маркиза опять входит в раму и превращается в картину. Маркиз садится в свое кресло и засыпает— то, что произошло, было лишь сном.
На такие «самодеятельные» миниатюры приглашались преподаватели, все учащиеся Филармонии, родные и знакомые учащихся. Всем заправлял Шура Никольский, а мы с Анночкой Галлинг были его первыми актрисами.
Занимались мы на курсах и сценическим движением. Преподаватель—его фамилия была Загаров—задавал нам этюды с падениями, быстрыми, ловкими поворотами тела, движениями по лестнице, красивыми прыжками на стол и стулья. Как я теперь понимаю, это было и некое подобие физкультуры и урок пластики, умения стать в нужную и выразительную позу.
Помню один из заданных мне этюдов. Я в комнате. В окна стреляют. Под пулями я должна через всю сцену добраться до стола—там мой револьвер. Пока я перебежками направляюсь к заветному столику, меня ранят. Дальше надо изобразить боль от раны и продолжать движение к цели. Второе ранение, я падаю, но все же ползу к столу. Больно, теряю силы. Но вот уже цель близка. Я карабкаюсь по ножке стола. Рука уже шарит по столу, ища спасительное оружие. Но силы иссякают, и я в последнем порыве выпрямляюсь и замертво падаю. Считалось, что я все это хорошо выполнила.
Очень любили мы лекции по истории театра. Читал их незабвенный Владимир Александрович Филиппов. Филиппов действительно был великолепный знаток театра и горячий поклонник Малого. Я почти стенографически записывала его лекции и очень гордилась, когда много лет спустя Владимир Александрович попросил у меня мои тетради для своей книги. Владимира Александровича высоко чтили все актеры, даже самые маститые. Он часто писал рецензии и считался после А. Р. Кугеля, которого я еще застала, лучшим критиком и историком театрального искусства, глубоко уважающим и любящим актера. Он бывал и суров в своих оценках, но они всегда оказывались объективными и приносили настоящую пользу актеру и театру.
Велись у нас занятия по дикции, постановке голоса, которым придавалось большое значение.
Были уроки грима, которые давал Николай Максимович Сорокин, лучший гример Малого театра. Красивый, умный человек, он много и остроумно рассказывал нам об актерах этого театра. И мы с большим вниманием слушали о Ермоловой, Лешковской, Южине и, конечно, о наших кумирах—Остужеве и Прове Садовском.
Теперь грим не в моде. Актеры чаще играют с так называемым «своим лицом». В те времена при существовавшей технике освещения и молодым актерам надо было накладывать грим. Особенно если актеру приходилось добиваться сходства, когда он играл историческое лицо, известное по портретам.
Обаятельный Николай Максимович был большим другом актеров. У меня остались о нем самые задушевные воспоминания. Нередко плакалась ему в жилетку, когда наступали трудные минуты в театре, да и помимо театральных невзгод часто делилась с ним своими заботами. Настоящий художник был Н. М. Сорокин, его преданность театру передалась и нам.
Так, очень дружно и интересно, проходили наши учебные годы в Филармонии. Закончился первый год, сданы экзамены, все разлетелись на лето кто куда. Мы с мамой и отцом не уехали из Москвы. От весны 1917 года остались в памяти манифестации, дамы с красными бантами, влюбленно прославлявшие Керенского, шум и сумятица. Меня все это мало трогало. Я думала лишь о предстоящем учебном годе и о новых сценических отрывках — на втором курсе нам предстояло готовить уже целые акты. Отречение царя, приход Временного правительства—все это как-то прошло мимо меня. Дома разговоры об этих событиях велись, но, как я теперь понимаю, чисто обывательские. Отец давно был в отставке; человек-больной, он мало интересовался происходящим. К тому времени мы с мамой жили уже на Кузнецком мосту. Мама получила место управляющей домами, и мы имели казенную квартиру. Папа жил отдельно, во Всехсвятском, в доме офицеров-ветеранов. Ему требовался постоянный уход. Теперь я считаю себя виноватой, что позволила отцу уехать от нас. Многое стало мне понятно слишком поздно. А тогда эгоистичная молодость не разбиралась во взаимоотношениях родителей. Что-то от меня скрывали; допытываться я не хотела из ложной стыдливости, да и не умела. И легкомыслия в то время было хоть отбавляй.
Осенью 1917 года занятия начались как обычно. Но настроения учащихся изменились. Особенно это чувствовалось на музыкальном отделении. Ученики там были по возрасту много старше драматических. Как-то сразу они отдалились от нас. Кое-кто и из вокальных классов перестал общаться с нами.
Предстояло готовиться к полугодовым зачетам. У меня были две, совершенно различные по характеру, чудесные роли: комедийный акт из пьесы «Ренессанс», написанной белыми стихами, где я играла юношу Витторино, и третий акт «Марии Стюарт». Как же билась я с моей Марией, плакала над ней! И темперамента как будто хватало и... ничего не выходило! Долго мучились мы, ученица и преподаватель, и наконец Иван Андреевич сказал мне просто: «Голуба моя, не умею я вам объяснить, в чем дело, но не выходит эта сцена королев у вас. Мария Николаевна Ермолова играла ее чуть-чуть над полом. У нее была и искренность и простота, был и пафос трагедии, а не обыденный разговор. А как она этого достигала — сам не знаю, как объяснить. Вижу, что не то у вас получается, а как помочь и что сделать—не придумаю. Давайте выберем другой отрывок, из другой\\\\\\\' пьесы. Может быть, Мария Стюарт вам пока еще трудна, не по силам».
Так, поплакав, я и отказалась от Марии Стюарт. И на всю жизнь эта роль осталась моей недостижимой творческой мечтой. Лишь к какой-то шиллеровской дате я вновь возвратилась к третьему акту—сцене королев—в концертном исполнении. Елизавету очень хорошо играла С. Н. Фадеева, а у меня Мария так и не получилась. Правда, мы с успехом играли эту сцену в Колонном зале в Москве во время шиллеровских торжеств, а также в военно-шефской поездке по ГДР—в Берлине, в Доме творчества немецких актеров. Позднее я с ужасом узнала, что в числе зрителей был сам Брехт.
Несколько раз я просила театр, чтобы поставили «Марию Стюарт», но... мало ли несбыточных мечтаний у актеров! А может, все это к лучшему, и что-то было для меня недоступное в этой Марии. Но я хотела бы сыграть и Елизавету. Мечтала, что к 100-летию со дня рождения Ермоловой Малый театр поставит эту пьесу, столь любимую Марией Николаевной. Мне было все равно, играть Марию или Елизавету, только бы пошла эта пьеса. Но — увы!..
Итак, значит, — прощай, Мария. Рыжов дал мне отрывок из пьесы Анри Батайля «Обнаженная», эпизод, когда героиня врывается к своей сопернице — какой-то высокопоставленной даме. Акт сильный, интересный и проникнутый большим драматизмом.
И вот два мои отрывка удачно сданы. Я отчиталась за первое полугодие.
А в это время в стране происходили бурные события. Захватили они и филармонию. Помню, на каком-то собрании меня выдвинули делегатом на совещание в университет. От музыкального отделения Филармонии был выдвинут Георгий Николаевич Дудкевич. В огромной аудитории с тусклым освещением стоял густой дым от курения. Шли бесконечные дебаты. Естественно, я держалась около Дудкевича. Он был много старше меня, побывал за границей (аккомпанировал в Германии знаменитому тенору Смирнову). Часто мы вместе возвращались домой. На несколько дней занятия были прерваны. В Москве стреляли. По телефону, еще работавшему на Арбате, где жил Дудкевич, сообщали, что там находятся юнкера и победили белые. А у нас на Кузнецком мосту было уже точно известно, что большевики взяли Кремль. Обыватели, движимые страхом перед этими неизвестными большевиками, попрятались и не выходили на улицу.
Мы с мамой все же на улицу выглядывали. Мне запомнился такой случай. Мимо нашего парадного пробегал солдат, молоденький, совсем мальчик. То ли он был ранен, то ли насмерть перепуган, но он явно искал» какого-либо убежища. Мы с мамой почти втащили его к нам, дали воды, стали расспрашивать, кто он: белый, красный? Солдатик ничего не отвечал. Мы решили оставить его в покое. Вдруг солдат пришел в себя, начал озираться, увидел приличную обстановку, рояль, быстро подхватил свою винтовку и бросился вон из квартиры. Только мы его и видели. Что его испугало? Что побудило стремглав покинуть двух совершенно безоружных женщин? Не знаю. Но вот затихла стрельба. Новая власть прочно взяла бразды правления в свои руки, власть рабочих, власть большевиков. Помню, что новое правительство разрешило хоронить всех павших офицеров и юнкеров. Я случайно оказалась на Тверской, когда большая похоронная процессия направлялась к Ходынскому полю. Мне кажется, это был честный акт по отношению к противнику. И жаль, что в те годы многие не поняли своих заблуждений и великих идей грядущего.
Мы возобновили наши занятия, театры открыли свои двери. Налаживалась новая жизнь. Я готовилась к переходным зачетам на третий курс. Сдавать надо было уже целые пьесы. Иван Андреевич решил поставить «Огни Ивановой ночи» Г. Зудермана. Я работала над Мариккой. И вдруг, в самый разгар работы, Иван Андреевич снова назначает репетиции «Обнаженной» и «Ренессанса», то есть уже сданных мною отрывков. Никто ничего не понимает. Иван Андреевич молчит. А по Филармонии ползут слухи, что кто-то будет смотреть Гоголеву. Кто? Почему? Все молчат. Назначается день просмотра. У меня складывается впечатление, что просмотр устраивается для директора училища Брандукова, перед которым я на первом курсе уже играла с второкурсниками в пьесе Шпажинского. Однако всеведущий Шура Никольский шепнул мне, что дело не только в Брандукове. Кажется, ждут представителей Малого и Художественного театров.
На генеральной, надевая мне парик, милый Николай Максимович Сорокин лукаво улыбается, что-то подправляет и... молчит.
И вот настал день показа. Не помню, как я пришла в Филармонию, как села гримироваться. Торжественное молчание моих однокурсников, участников спектакля, взволновало еще больше. Поцеловав меня в лоб, Иван Андреевич куда-то вышел. Посерьезнел и Николай Максимович. Вдруг влетает Шура Никольский: «В зале — Южин и Лешковская!» Исчезает, чтобы через минуту снова вбежать: «Приехал Станиславский с Немировичем!» А потом еще и еще: «В зале — Яблочкина, Остужев, Садовский, Книппер» и т. д. Наконец появляется Иван Андреевич. Он волнуется, но, как всегда, старается быть спокойным и ровным. Поймав мой отчаянный взгляд, внимательно и ободряюще оглядывает меня и, улыбаясь, замечает: «Да, голуба, играйте все так же, как и играли. В зале все друзья. Наше начальство вам известно, смотрят и Греков и Брандуков, ну и художественный совет Малого театра, и из Художественного пришли. Не волнуйтесь, все будет хорошо».
Да, хорошо! А у меня не знаю где душа, говорят, в пятках. Может быть, и там! Не помню, как я спустилась на сцену, как начала играть «Обнаженную». Показ происходил днем, и, несмотря на зашторенные окна, можно было разглядеть всех сидящих в зале. Я не видела никого — только свою ненавистную соперницу, ее дряхлого супруга и моего возлюбленного, которого я не хочу, не могу и не должна отдать этой высокомерной даме.
Кончился первый отрывок. Я переодевалась и перегримировывалась ко второму. Во время переодевания к нам никого не пускали. Хотя, я уверена, всем интереснее было смотреть на находящихся так близко в зале знаменитых и обожаемых артистов. Спокойный Иван Андреевич деловито осведомился, готова ли я. Очень взволнован был Николай Максимович. Ему изменило даже обычное шутливое настроение и обаятельное остроумие.
Но вот прошел и второй отрывок. Странно, но у меня было легко и ясно на душе. Может быть, я была спокойна потому, что считала, что смотрят не меня, а мою партнершу Наташу Гурбатову (ее, кстати сказать, действительно приняли в Малый театр, но через два-три года после окончания Филармонии). Пришел Иван Андреевич, всех нас перецеловал, похвалил и... ушел!
Вот и все. Никаких разговоров, никаких отзывов. Жизнь пошла своим обычным порядком. Опять стали репетировать «Огни Ивановой ночи».
Мне предстояло учиться в Филармонии еще два года, так как был прибавлен четвертый курс. Но вот однажды весной 1918 года после одной из репетиций «Огней» Рыжов отозвал меня в сторону и сказал: «Я должен передать вам, голуба моя, что вам предлагают вступить в труппу Художественного театра. Вас смотрели Станиславский и Немирович-Данченко, приглашение исходит от них». Я онемела. «Так что мне им ответить?»— продолжает Иван Андреевич. И вдруг я слышу внутри себя какой-то голос: «А Малый?!» Вижу, Иван Андреевич улыбается: «Ну, насчет Малого ничего не могу сказать, а вот Художественный вас приглашает».
Кажется, я действительно заплакала. Ведь все мысли, все мечты мои были о Малом. Я даже не осознала, какую великую честь мне оказывают—меня, восемнадцатилетнюю девчонку, еще не окончившую Филармонию, приглашают—и куда? В Художественный театр. И кто приглашает? Сам Станиславский. А я реву, реву, мотаю головой и бормочу: «Нет, нет, я—в Малый, в Малый». Едва успокоил меня мой незабвенный Иван Андреевич. «Ну как хотите, все же подумайте. Приглашения в Малый нет, а в Художественный уже зовут». Но при всем глубоком восхищении Художественным театром, его великолепными актерами, Станиславским, Леонидовым, Качаловым, Москвиным, моя душа и сердце были отданы .Малому театру и его корифеям. Им я поклонялась, у них хотела учиться и—что скрывать мою затаенную мечту! — .хотела быть принятой в их семью. И потому от приглашения в Художественный я отказалась. Мой отказ дипломатично согласился передать Иван Андреевич. Как он это .сделал—не знаю. Но и Станиславский и Немирович-Данченко всегда относились ко мне весьма доброжелательно. Я чувствовала их внимание и симпатию, хотя часто при встречах оба они шутя корили меня: «Не захотела к нам идти, не захотела». Тогда же, в тот памятный день, разговор был окончен.
Приближался переходный экзамен на третий курс. Никаких других показов больше не было. Экзамен прошел, все опять разъехались на лето, некоторые поступили на летний сезон играть маленькие рольки в Малаховке и Кускове. Шура Никольский играл в Кускове первые роли. И мы все гордились им и завидовали его успехам.
Я по-прежнему жила в Москве, вышла замуж за Дудкевича и бегала на теннисный корт в Пименовский переулок. Он и сейчас существует, этот двор, хотя переделан под детскую площадку. Часто для быстроты я прохожу этим двором на улицу Чехова, чтобы ехать в Малый театр. Мы с мужем жили тогда в Денежном переулке, носящем теперь имя Веснина, как раз напротив особняка, в котором был убит немецкий посол Мирбах.
Замужество мое привело к полному разрыву с матерью. Мне было семнадцать лет, Дудкевичу—много больше, и раннее замужество, по мнению мамы, могло помешать моей сценической карьере. Так до самого конца ее жизни эти отношения окончательно и не наладились.
Мама тогда опять вернулась на сцену, вступила в .труппу Калужского театра и увезла с собой отца. Папа и умер в Калуге в 1919 году. Когда, до Отечественной войны, мне случалось бывать на гастролях в этом чудесном городе;, Я всегда приходила на могилу отца. Однако, приехав в Калугу после войны, так и не нашла ее. Немцы зверски .бомбили город и кладбище—говорили, что гробы из земли взлетали в воздух. Да, было и такое.
Так вот, вернемся к лету 1918 года. Как уже говорилось, я часто бегала днем в Пименовский переулок играть в теннис, которым очень увлекалась, И вот с ракеткой под мышкой, с сеткой с мячами в руках и в теннисных, туфлях (это для скорости и удобства при ходьбе, транспортом я не пользовалась) я бегом спускаюсь с нашего четвертого этажа. Навстречу идет какой-то человек и спрашивает мою квартиру. Это был курьер из Малого театра с письмом для меня. Быстро расписавшись в книге о получении письма, я здесь же, на лестнице, прочла, что меня вызывают в Малый театр к Прову Михайловичу Садовскому. В то время Малый получил автономию в управлении. Была создана директория из пяти человек: председателем, вернее первым советским директором Малого театра назначили А. И. Южина, заведующим репертуаром (или, как теперь говорят, литературной частью) — И. С. Платона, художественной частью — П. М. Садовского, финансово-хозяйственной частью — С. А. Головина и кем-то тоже по хозяйству, по порядку в здании — А. А. Остужева. Правда, Остужев от этого вскоре отказался, передав все свои полномочия Головину.
Вот к Прову Михайловичу меня и вызывали. Не помня себя и не подумав, в каком я виде, так с ракеткой, мячами и в совсем неподобающем костюме (правда, тогда на теннис надевали обыкновенные юбки, время-то было— 1918 год!) я и помчалась в Малый театр. Пров Михайлович сам очень любил спорт. Увидев меня запыхавшуюся, красную, со спортивным инвентарем, он весело расхохотался и стал расспрашивать, где и с кем я играю. Оказалось, что именно в домах рядом с теннисным кортом была и его квартира и квартира его брата Михаила Михайловича. Пошутив и поговорив о лучших тогда теннисистах Тепляковой и Вербицком (артисте Художественного театра), Пров Михайлович приступил к серьезному разговору. Он сказал, что мне предлагается с осени вступить в труппу Малого театра. Лично он считает, что мне надо сначала поступить во вспомогательный состав, но А. И. Южин настаивает, чтобы я сразу же была принята в основной состав. Оба они надеются, что в театре я научусь большему, чем обучаясь еще два года в Филармонии. Сейчас мне следует пройти в канцелярию театра и подписать контракт (тогда были контракты). «Разумеется, если вы согласны поступить к нам в театр»,— добавил, лукаво улыбаясь, Пров Михайлович.
Согласна ли я!!! Боже мой, да я ног под собой не чуяла! Слова не могла вымолвить, то перекладывала мячи, то хваталась за ракетку, а Пров Михайлович, наш кумир Садовский, откровенно хохотал, глядя на меня, чем повергал в еще большее смущение. Я сидела немая и красная как рак. Не помню, как я оказалась в канцелярии у Василевского, тогда, очевидно, заведовавшего ею. Не помню, как подписывала свой первый контракт на самый первый оклад—четыреста рублей. Помню только, что Василевский говорил со мной с большим почтением, не как с восемнадцатилетней девчонкой, а как с молодой женщиной, актрисой, вступающей в труппу Малого театра. Тут же мне сообщили, когда назначается открытие сезона и что за две недели до этого следует явиться на сбор труппы. По торжественному тону Василевского я поняла, что сбор труппы — событие, к которому надо готовиться и внутренне и внешне. Как мне кажется, теннисные туфли и весь мой облик несколько смущала этого старого, бесконечно преданного Малому театру человека, имевшего дело с самим Южиным, Ермоловой, Садовской и их товарищами.
Так состоялось моё приглашение в Малый театр. Так исполнилась мечта моей жизни. На все годы, отпущенные мне судьбой, осталась я верна моему родному, любимому театру, где испытала и большие радости и горькие минуты, что неизбежно сопровождает жизнь артиста.
Дата публикации: 11.04.2005