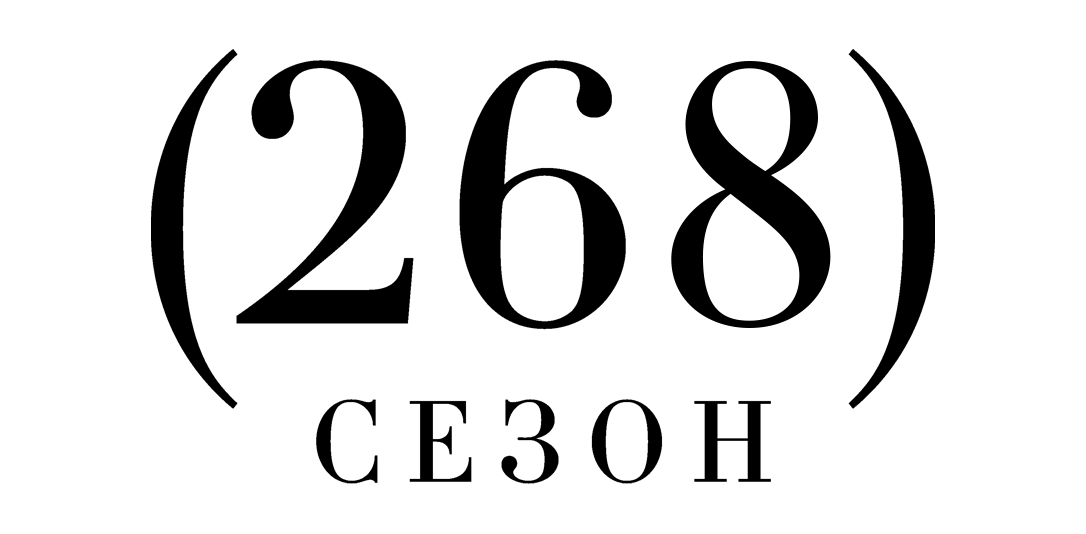Новости
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ». ОТ АВТОРА

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой» Е.Н. ГОГОЛЕВА «НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ». ОТ АВТОРА
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ОТ АВТОРА
Во многих письмах, которые я получаю от зрителей и просто от любителей театра, в беседах с моими друзьями все чаще и настойчивее звучат просьбы, чтобы я рассказала о себе, о своем творческом пути, о встречах с людьми, которые так или иначе оставили след в моей жизни, наконец, о моих товарищах по сцене и даже о методе работы над той или другой ролью.
Задача не из легких: многое уже изгладилось из памяти, многое и до сих пор больно вспоминать, ибо даже время не залечило ошибки и раны, которые так безжалостно иногда «дарит» нам судьба.
Но, перебирая в памяти то, что вылилось на страницах этой книги, мне хотелось с предельной искренностью рассказать о перипетиях своей жизни. И — как знать! — может быть, мое некоторое легкомыслие, особенно в начале творческого пути, недооценка труда над собой актера заставят чуть-чуть призадуматься моих молодых товарищей, избравших прекрасный, но далеко не легкий путь в искусстве. А зрителям, дарящим мне радость своим лестным вниманием, этот мой «литературный труд» пусть будет благодарностью актрисы.
ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ (начало)
Я родилась в семье армейского офицера Николая Семеновича Гоголева. Отец мой кончил кадетский корпус и стал кадровым военным. Помню его рассказ о том, что в корпусе он был близок с Анатолием Дуровым, знаменитым впоследствии клоуном, и часто наблюдал, как Дуров уже в юношеские годы занимался дрессировкой крыс, которых в их учебном заведении водилось превеликое множество.
Отец любил меня до самозабвения, но в деле моего воспитания всегда подчинялся моей энергичной матери. В жизни он был необычайно мягок, но служба, честь мундира и военная присяга являлись для него святыней.
Отец был уже совсем больным, когда произошла революция. События февраля 1917 года и отречение царя как бы прошли мимо него. Известен такой случай. В дни революции многие кадровые офицеры переодевались в штатское платье и торопливо спарывали погоны; а отец как носил форму полковника в отставке, так и продолжал ходить по бурлящей Москве. Однажды на Тверской к, нему подошли несколько революционно настроенных молодых людей и потребовали, чтобы он снял погоны. Отец спокойно ответил: «Я не могу этого сделать — снимите сами». Очевидно, что-то в нем вызвало уважение этих людей, и они осторожно сняли с отца полковничьи погоны, ничем не оскорбив его.
Мне кажется, что жизнь моих родителей не была счастливой. Моя мать, Елена Евгеньевна Гоголева, тоже дочь военного, капитана Каменского, воспитывалась в том же Институте благородных девиц, куда поступила потом и я. Училась она главным образом за счет богача Губонина, одного из тех, на чьи деньги строился московский храм Христа Спасителя. К Губонину часто обращались малообеспеченные люди с просьбой стать крестным отцом новорожденного младенца. Так поступил и мой дед, доходы которого были более чем скромны. Быть крестницей Губонина означало, что Губонин не только оплатит учение, но и даст по окончании института приданое.
Бабушка моя умерла рано, и дед женился вторично; а мачеха любила своих родных детей и не жаловала, падчерицу — мою мать. На первом же балу, когда блестящий адъютант Гоголев протанцевал с моей матерью вальс и мазурку, мачеха довольно бестактно обратилась к нему: «Вам, кажется, нравится моя падчерица? Можете просить ее руки, отказа не будет».
Молодой человек растерялся — у него и в мыслях не было ничего подобного. Но рядом, чуть не плача, стояла сконфуженная девушка, и честь не позволила офицеру скомпрометировать ее. Таким образом в скором времени состоялась свадьба.
В год моего рождения пехотный Моршанский полк, в котором служил отец, стоял в Егорьевске, не так далеко от Москвы. Так как мое появление на свет обещало быть очень трудным, матери посоветовали ехать в Москву, к лучшему тогда акушеру Добрынину, который практиковал в Воспитательном доме при Николаевском женском институте. В этот институт попадали девочки-сироты, при рождении потерявшие мать. Роды действительно были очень трудные, но обе мы остались живы, несмотря на пророчества нянюшек. Они с сомнением посматривали на большеглазую, уже тогда со сросшимися бровями, довольно молчаливую новорожденную, качали головами и приговаривали: «Не жилица, нет, не жилица!» Тем не Менее все обошлось благополучно. Поскольку появилась я на свет все-таки в Москве, на самом берегу Москвы-реки, то и считаю себя москвичкой.
Через положенное время мать вернулась со мной в Егорьевск, где мы и прожили до 1904 года. Еще и теперь мне часто пишут старожилы Егорьевска, упорно считающие его моей родиной.
...Хотя родились Вы в Москве, но я упорно продолжаю считать Вас своей землячкой, так как Ваши родители жили в Егорьевске, да и Вы первые пять лет своей жизни провели у нас. Вы не хотели бы взглянуть на город Вашего раннего детства? А. И. Могальков, г. Егорьевск Московской области.
Привет из Егорьевска и большая благодарность за письмо, дорогая Елена Николаевна! В нашей местной газетке как-то появилась заметка, что «в 139-м Моршанском полку был офицер Н. С. Гоголев, жена которого выступала в самодеятельных любительских спектаклях в доме «Офицерского собрания», и, очевидно, тяга к театру передалась дочке, которая стала знаменитой артисткой нашей страны». Если это не так. Вы меня поправьте...
С глубокой признательностью М.И. Стулова, г. Егорьевск Московской области.
Когда началась русско-японская война, полк моего: отца отправили в район военных действий на Восток. Многие жены офицеров решили последовать за своими мужьями. Поехали и мы с мамой. Переезд в Хабаровск я помню хорошо. Тогда это был долгий путь: железной дорогой до Иркутска, пароходом через Байкал и опять железной дорогой до Хабаровска. Дальше уже штатских не пускали. Денег у нас почти не было, ехали, конечно, третьим классом. С нами ехала жена одного офицера, очень практичная и предусмотрительно запасшаяся всем необходимым дама.
Запомнился переезд через Байкал. Мы — в каюте, парохода. Лампа раскачивается из стороны в сторону. На озере сильное волнение. Наша попутчица, опасаясь морской болезни, сосет лимон. Пересели в поезд, идущий до Хабаровска. Еды у нас уже не осталось вовсе, денег тоже. А попутчица между тем уплетала купленных на станции кур. Я, глотая голодную слюну, старалась смотреть в окно. Какой-то совершенно незнакомый господин, как видно, давно уже следивший за мной, вдруг протянул маме маленькую жестяную коробочку — там было несколько кубиков бульона Либиха. До сих пор помню этот чудесный, вкусный, разведенный кипятком бульон.
В Хабаровске мама устроилась работать заведующей хозяйством в загородной больнице. Как ей удалось это сделать — не знаю. Главным врачом больницы был великолепный, как говорили, хирург, доктор Сабо. Туда часто привозили раненых с фронта, и мама постоянно старалась что-либо узнать об отце.
Время было тревожное. Больница находилась далеко от города и обслуживалась преимущественно ссыльнокаторжными. Так, Главный повар больницы отбывал наказание как профессиональный грабитель и убийца. Думаю, не многие стремились получить работу в этой больнице, тем более что доктор Сабо славился своим суровым характером. Расскажу один случай, подтверждающий эту репутацию.
Несколько дам из светского общества Хабаровска решили стать медицинскими сестрами. Они облачились в белые шелковые халаты, очень красивые и элегантные. В таком виде и явились в госпиталь. Доктору Сабо было безразлично, кто эти дамы, пусть даже жены генералов. Он велел содрать с них модные шелковые халаты и одеть в будничные, обычные, стерилизованные. И предупредил, что, если кому-нибудь из новоявленных сестер во время операции станет дурно, он не обратит на это внимание.
И действительно, доктор сдержал слово. Во время операции одна из сестер—молодая барышня — побелела и упала в обморок: Мама бросилась к ней на помощь. Раздался голос Сабо: «Ни с места». Так до конца операции несчастная барышня и пролежала на полу. Сабо твердо заявил: «Работа в госпитале не шутка и не маскарад»—и больше не пускал дам в госпиталь.
Вместе с тем он был душевный человек. Однажды в день рождения Сабо мама купила конфеты и послала меня его поздравить. Я боялась грозного доктора, поэтому положила конфеты около двери его кабинета и убежала. Но мама втолкнула меня в кабинет, и я оказалась перед доктором. Никогда не забуду, как этот суровый и преданный своему врачебному долгу человек был ласков и нежен с маленькой девочкой.
Сначала нас поместили не в самой больнице, а в конце большого двора, в двухэтажном флигеле, совеем рядом с Амуром. На первом этаже была китайская прачечная, там жили китайцы-прачки. Вечером они давали несколько выстрелов для острастки хунхузам, которые шайками бродили вокруг, а потом наглухо запирались. Если привозили раненых, маму ночью вызывали в главное здание, и она бежала через весь двор, боясь главным образом маленького морга, который тогда просто называли «мертвецкой». Один из каторжан, сторож, перед жарко натопленной печкой без особых церемоний отогревал чей-нибудь труп для вскрытия. Наконец мама не вытерпела, набралась храбрости и попросила доктора Сабо перевести нас в главный корпус. Там нас поселили в одной из свободных палат в женском психиатрическом отделении.
Коридор между мужским отделением и женским был перегорожен воротами из чугунных прутьев. Рядом с нами с одной стороны находилась палата очень миловидной тихой женщины. Она прижимала к груди подушку и тихонько пела колыбельные песни. Потеряв ребенка, она потеряла рассудок. Мне было ее очень жаль. Я всегда старалась заглянуть в окошечко над дверью, чтобы посмотреть на нее. С другой стороны жила весьма шумная женщина. Эта сумасшедшая кричала: «Идите за мной, я вам путь укажу! Идите за мной, я вас к Христу приведу!» Ночью, когда на пациентку «находило», мама зажимала мне уши подушкой. Я эту громкую соседку не любила и не хотела видеть. А вот с мужчинами-сумасшедшими, отделенными чугунными воротами, я дружила. Многие из? них свободно ходили по своему коридору, и я через ворота играла с ними в мячик, к обоюдному удовольствию.
Были у меня и подружки-однолетки. С ними мы качались на качелях — кто выше. Цель была через забор посмотреть на пароходик, идущий по Амуру. Мама решила нас, девочек, сфотографировать и возила в Хабаровск к фотографу, который, как выяснилось впоследствии, был японский шпион, очень ловко снимавший все интересующие его объекты и спокойно удравший с этими снимками. А фото мои с подружками у меня сохранились.
Как-то зимой мама взяла меня в Хабаровск. Было холодно и снежно. Ехали на извозчике. Мама дала мне свою большую муфту из скунса. Откуда у нее была такая роскошь—не знаю. Правда, мех этот не считался особо дорогим, но все же ценился. И вот домой мы вернулись без муфты. На мамин вопрос, где она, я спокойно ответила: «А я ее выбросила дорогой, она мне надоела». Очевидно, в то время меха и драгоценности не имели для меня никакого значения, как, впрочем, не имеют и сейчас.
Внезапно пришло известие, что папа серьезно ранен и специальным поездом отправлен в Москву. Сразу стали собираться и мы.
В Москве мы обосновались в переулке на старом Арбате, сейчас он называется-—Плотников. Мезонин, который мы снимали (теперь этого дома уже нет), был, ) скорее, чердаком, полным мышей. Отца, так и не вылечив, скоро перевели на «нестроевую» должность. Ранение его было очень тяжелым—рана в живот навылет и контузия головы, задет позвонок. Как он выжил— никто не понимал. Но последствия остались — до конца жизни он путал слова и вообще был очень больным человеком.
Наступил 1905 год. Отец получил назначение в город Судогду.
Добирались мы туда в какой-то карете. Железнодорожники бастовали. Дорогой на нас напали жулики. Они пытались захватить привязанную сзади корзину со всем нашим имуществом. С помощью папы и кучера мы отбились и благополучно доехали до Судогды. Сначала предоставленная нам квартира не очень нас обрадовала, однако после московского чердака это было вполне сносное жилье, но... без признака какой-либо мебели. Вскоре нас переселили, и мы зажили просто по-царски. Чудесный дом с огромным садом на окраине города, птичий двор, где ходили индюки, которых я боялась, в саду — пруд. Материально мы жили неплохо. Моя неугомонная мама быстро сколотила драматический кружок, где наконец получила возможность осуществить свое давнишнее желание играть на сцене. Жители Судогды до сих пор помнят эти «любительские спектакли» — теперь» бы сказали «самодеятельный театр». Судогодцы иногда пишут мне, а недавно прислали даже сохранившиеся афиши!
Многоуважаемая Елена Николаевна! От лица судогдовцев поздравляю Вас с днем 8 Марта и выражаю наше общее пожелание Вам доброго здоровья! Присылаю листок владимирской молодежной газеты «Комсомольская искра» от 4 марта.
С уважением В. А. Антонов, г. Судогда Владимирской области.
Однако здоровье отца не позволяло ему нести и «нестроевую» службу. Он вышел в отставку. Кончились наши «царские» угодья, пенсия отца была ничтожно мала, но мама наконец-то получила желаемое: жена отставного офицера, она имела право играть на профессиональной сцене. Началась наша новая жизнь.
Под фамилией Волжина мама поступила в труппу Собольщикова-Самарина сначала в Саратове, потом в его же антрепризу Самара — Казань. Отец, оформляя пенсию, начал хлопотать и о том, чтобы меня приняли на казенный счет в какой-либо институт (это соответствовало современной средней школе). Ну а пока мама стала актрисой — актрисой стала и я.
Вместе со своими подружками в Хабаровске я уже научилась немного читать и писать. Но по-настоящему стала учиться в Саратове. Однажды, когда мне исполнилось шесть лет, мама сказала: «Завтра ты пойдешь в школу». Я безумно обрадовалась. Вскочив ни свет ни заря, тихонько оделась (а мне с вечера приготовили платье и фартучек) и, никому ничего не говоря, выскользнула из дому. Я знала, что рядом находится какая-то школа. На улице было еще темно, двери школы оказались заперты. Как потом выяснилось, было четыре часа утра! Я этого не знала. Идти домой не хотелось. Во-первых, там все спали, во-вторых, еще заставят завтракать и я опоздаю в школу. Я спряталась за крыльцом школы, ожидая ее открытия. Очевидно, я немного вздремнула. Послышались голоса. Я увидела много девочек, весело входящих в двери, и, разумеется, тоже прошла в эти заветные двери.
Было так весело бегать по широкой лестнице, что-то кричать, чему-то смеяться. Раздался звонок. И тут-то и произошел конфуз: я решительно не знала, в какую дверь надо идти. Лестница опустела, все девочки куда-то исчезли, а я все прыгала по этой лестнице, восторженно ощущая себя в школе. Какая-то милая и ласковая женщина, давно уже наблюдавшая за мной, решила наконец установить «мою личность». В это время влетели и мои взволнованные родители, обнаружившие исчезновение своего единственного чада. Выяснилось, что я должна была ехать с папой на конке в детский сад, где говорили по-немецки и учили немножко играть на рояле. Вот какая была мне уготована школа. В саратовском детском саду я пробыла недолго. У мамы кончился сезон, и она подписала контракт в Казань. Мы переехали туда.
В Казани у Собольщикова-Самарина я и начала в шестилетнем возрасте свою «сценическую деятельность», неизменно выступая во всех пьесах, в которых имелась детская роль. Помню первое выступление. Репетиций было не много. Я, конечно, назубок выучила свою маленькую рольку. И, нисколько не стесняясь, сразу, как вышла на сцену, обратилась к суфлеру, сидевшему в будке: «Вы мне, пожалуйста, не подсказывайте, я сама все знаю». Таков был мой первый выход. Что это была за пьеса, не помню, а вот в «Русской свадьбе» П.П. Сухотина я уже навлекла на себя гнев молодой актрисы Поль, которая играла невесту. Я — мальчонка должен был по обряду перед выходом к свадебному пиру отрезать у невесты маленький кусочек косы. Мизансцена была удобная: Поль — невеста сидела лицом к публике, а мне за ее спиной следовало делать вид, что я режу под фатой самый кончик косы. Но я никак не могла согласиться на «как будто». Спектакль имел успех, шел много раз, а я все резала и резала косу. Поль пришла в ужас, так как коса ее заметно укорачивалась. Наконец, не выдержав, она пожаловалась маме. Как меня ни уговаривали, как ни доказывали, что можно «как будто», «делать вид», «ведь публика не видит», я решительно не могла «обманывать» публику. Единственное, на что я согласилась, — отрезать совсем крохотный кусочек волос невесты, но по-настоящему.
Должна похвастаться, что труппа была сильная и хорошо подобранная. В ней играли известные провинциальные артисты — пожилой резонер Никита Фабианский, молодая инженю Поль, героиня Палей. Как-то я имела бенефис. Для детского утренника подготовили «Мальчик с пальчик». Его я и играла в свой бенефис. В самый трагический момент, когда я, сидя под столом, подслушивала коварный план — завести всех братиков в лес и там бросить, — на сцене появилась настоящая кошка и, мурлыча, стала ко мне ласкаться. Я не растерялась и, прижимая кошку к себе, продолжала быть мальчиком с пальчик.
Не то в Самаре, не то в Казани, точно теперь не помню, случился пожар. Обычно мама всегда брала меня с собой в театр. Я либо смотрела спектакль из-за кулис, либо спала где-нибудь на узлах с костюмами. Погода в тот злополучный зимний вечер стояла ужасная — мороз, метель. Мама побоялась взять меня с собой, так как ехать надо было на другой берег Волги, прямо по льду, вот я и осталась одна в номере гостиницы. Мама уложила меня спать. Не знаю, что произошло, но я проснулась в, тот момент, когда вся комната наполнилась дымом. На мое счастье, в соседнем номере находился молодой артист Арди. Он меня и вытащил. Когда мама вернулась после спектакля, я была уже в безопасности.
Папа в это время уехал в Москву хлопотать о моем поступлении в институт. Как дочь раненого офицера, меня должны были принять на казенный счет. На то, чтобы отдать меня в хорошую частную гимназию, у нас не хватало средств. Чтобы не расставаться со мной, мама решила бросить провинциальную сцену. Устроиться в театр в Москве было не так легко. У нас в семье бредили Малым театром, но мама попасть туда не могла — ни специального образования, ни «протекции», как тогда говорили, у нее не имелось.
После возвращения папы мы неожиданно быстро получили извещение о том, что я зачислена на казенный счет в Институт благородных девиц в восьмой класс с предварительным экзаменом (классы считались в обратном порядке, восьмой был младшим). Институт находился в Москве на Пречистенке (теперь улица Кропоткина, в этом здании расположен один из факультетов Военной академии имени Фрунзе). Назывался он — Институт кавалерственной дамы Чертовой. Начальницей его была бывшая фрейлина императорского двора баронесса М.А. Богданова, а попечительницей—сестра жены императора Николая II великая княгиня Елизавета Федоровна. После смерти своего мужа Сергея Александровича Романова, погибшего от бомбы Каляева, она всегда ходила в сером платье, с повязанным по-монашески платком (постриг ей был запрещен). В институте она бывала ежегодно: 1 октября лично раздавала награды за хорошие успехи. Для нее и ее свиты готовили специальные обеды. Это был своеобразный экзамен по кулинарии, которой обучали в двух старших классах.
В институте воспитывались дочери офицеров до генеральского чина. Генеральские дочки учились в Екатерининском институте (теперь Центральный Дом Советской Армии на площади Коммуны).
Экзамен я выдержала, за что получила от родителей огромную и очень дорогую куклу. Мы переехали в Москву. Так как институт был закрытый, я приезжала домой только с субботы на воскресенье. Господи, сколько квартир переменили мы во всех прилегающих к Пречистенке переулках! Папиной пенсии не хватало. Устроиться на сцену маме не удалось, и она подрабатывала уроками русского и немецкого языков, а я — единственное балованное дитя — ни с чем не хотела считаться. По праздникам желала непременно ходить в театр. Часто, одетая как кукла, выезжала с мамой на детские балы. Ни в чем мне не было отказа. Мама мною безмерно восхищалась. Это портило меня, развивало самомнение и, в ущерб серьезным знаниям, верхоглядство. Больших трудов стоило мне впоследствии перевоспитывать себя. Это произошло тогда, когда я поняла, и больно поняла, весь вред, который, любя, принесла мне мама таким воспитанием.
Но вернемся к институту. Насколько я понимаю, учили нас довольно хорошо. Мы изучали все общеобразовательные предметы, немецкий и французский языки. Желающие могли брать уроки музыки (я училась играть на фортепьяно). Можно было учить английский язык. Балерина Станиславская преподавала танцы. Педагоги, как правило, были очень хорошие. Так, например, я запомнила учителя истории Николая Альбертовича Куна. Среди преподавателей выделялся известный историк литературы и исследователь творчества Гоголя Владимир Владимирович Каллаш. Он вел свой предмет, может быть, на чересчур высоком уровне, не вполне доступном его юным слушательницам, но серьезно, глубоко и увлекательно. Ко мне он относился очень хорошо и впоследствии даже дал рекомендацию в Филармонию.
По вечерам два раза в неделю воспитанницы старших классов изучали кулинарию, кройку и шитье. Последний предмет мне никогда не давался, и я не умела даже пришить пуговицу.
Порой мы не уезжали на воскресенье домой и пели в церковном хоре.
Иногда лучших учениц возили в театр или на симфонические концерты в Дворянское собрание. В театр мы ехали в открытом ландо, куда нас сажали кучей, как цыплят. Что касается театральных представлений, то преимущественно нам показывали балет и оперу.
На летние каникулы наша семья обычно ездила на юг. У папы, раненого офицера, был бесплатный билет. Мне брали детский билет и при этом очень боялись, как бы рост не выдал мой совсем уже не детский возраст.
Я очень любила Евпаторию. Тогда уже обнаружилось у меня стремление играть, лицедействовать. Я окружила себя девочками, сверстницами, и была среди них заводилой. В Евпатории продавали в то время хорошенькие, вышитые золотыми нитками шапочки. Такие шапочки были и у меня и у моих подруг. И вот я решила устроить вечером на приморском бульваре представление живых картин. Почему живые картины, а не пьесы? Во-первых, я была не сильна в драматургии; во-вторых, не верила, что подружки могут выучить слова. К нам присоединились и мальчики. Мы составили садовые скамейки, и я стада группировать участников, естественно, ставя себя в центр.
Собирались мы, когда темнело. У мальчиков были бенгальские огни, которые эффектно освещали нас. Мы становились в позы и показывали сказки.
Что произошло дальше, с точностью сказать не могу. Но на бульваре появились полицейские и разогнали нас. Вернее всего, какая-то мать оскорбилась тем, что ее дитяти досталась невыигрышная роль, и вызвала полицию.
В 1914 году мы на юг не поехали и сняли дачу в Новогирееве. В моей жизни Новогиреево сыграло важную роль, и я хочу рассказать о нем подробнее. В настоящее время Новогиреево—часть Москвы. В 1915—1916 годах это было полудачное место. До 1914 года в нем обитало много состоятельных немцев. Дома были фундаментальной постройки, существовали даже торцовые мостовые, а по двум главным проспектам ходила от железнодорожной станции маленькая конка. Мы сняли небольшую дачку на конечной остановке этой конки. В городе она носила название Баронского проспекта. Дачка стояла почти на отлете и граничила с прекрасным футбольным полем и двумя великолепно оборудованными теннисными кортами. Был там маленький домик с раздевалкой для футболистов и крошечной сценой. Вот здесь-то, в непосредственной близости от нашего дома, и собиралась летом молодежь Гиреева. Днем играли в футбол и теннис, по вечерам устраивали собственными силами концерты и даже разыгрывали маленькие водевили. Находившееся в довольно приличном состоянии пианино переезжало тогда со сцены в зрительный зал. До сих пор помню, как дружно и легко жилось тогда нам, молодым, в Гирееве. О войне не думалось, она не чувствовалась так остро, как в институте, где то и дело на какой-либо девочке появлялся траурный воротник. На кортах шли веселые состязания. Были даже классные игроки, к которым принадлежала и я. Ну а уж в концертах и спектаклях я, разумеется, играла первую роль.
Многие молодые жители Гиреева увлекались театром. Среди них были ставшие через несколько лет работниками Малого театра Шура Момма и его будущая жена Аня Бедрут. Шура—беззаветно преданный театру и безусловно талантливый человек—из-за своей ужасной дикции многие годы занимал в Малом театре скромную должность бутафора. Аня работала главным бухгалтером нашего театра. Коля Лукьяновский, крестник моей матери, декламировал под мой аккомпанемент какие-то «волшебные» стихи, а впоследствии под фамилией Яновский поступил в Вахтанговский театр—Валя Станюлис—в будущем актер Малого театра—был тогда еще очень молод и мог только издали следить за нашими драматическими успехами.
Удивительным человеком был Валентин Антонович Станюлис. Он не играл главных ролей, но его страстная любовь к театру, преклонение перед великими «стариками» Малого чувствовались в каждой маленькой роли, в каждом общественном мероприятии театра. Высокообразованный, по-настоящему знающий поэзию, он помнил наизусть и сам читал многих авторов, прекрасно разбирался в литературе и до последней минуты жизни горячо и преданно служил искусству. Он был женат на правнучке М. С. Щепкина —Александре Александровне Щепкиной, прекрасно воспитал двух своих дочерей, а потом и внука. Мы много лет прожили бок о бок в родном театре, вместе много играли, работали в местном комитете. Энергия Вали Станюлиса, его искреннее стремление служить коллективу, быть ему полезным всеми своими знаниями и силами были неистощимы. Он ведал культсектором месткома—и с какими замечательными людьми старался устраивать нам встречи! С его легкой руки за мной на долгие годы установилось прозвище Мадонна. Ох как не нравилось это некоторым! Но жили мы все дружно, и если и было что-то, что, к сожалению, всегда бывает в театре, то теперь на многое смотришь иначе. И когда я пишу эти строки, я—увы!—уже давно не «мадонна» и ношу прозвище, данное одним из любимых моих партнеров, Никитой Подгорным, — «Матант» (из «Волков и овец»).
Нет теперь рядом со мной уже многих гиреевцев— Ани и Шуры Момма, Коли Яновского, нет и Вали Станюлиса... А тогда, в 1915—1916 годах, мы были почти неразлучны. И, не думая, как тяжко будет маме жить в Гирееве и ездить каждый день на работу в Москву, я эгоистично упросила родителей остаться там до осени 1916 года. Я приезжала туда каждое воскресенье, проводила там рождество и пасху.
В Гирееве я уже серьезно готовилась к поступлению на сцену. Весной 1916 года я кончила институт и летом окончательно решила идти на драматические курсы. Но куда? Мои мечты устремились к Малому театру, но школы при Малом театре тогда не было.
(продолжение следует)
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ОТ АВТОРА
Во многих письмах, которые я получаю от зрителей и просто от любителей театра, в беседах с моими друзьями все чаще и настойчивее звучат просьбы, чтобы я рассказала о себе, о своем творческом пути, о встречах с людьми, которые так или иначе оставили след в моей жизни, наконец, о моих товарищах по сцене и даже о методе работы над той или другой ролью.
Задача не из легких: многое уже изгладилось из памяти, многое и до сих пор больно вспоминать, ибо даже время не залечило ошибки и раны, которые так безжалостно иногда «дарит» нам судьба.
Но, перебирая в памяти то, что вылилось на страницах этой книги, мне хотелось с предельной искренностью рассказать о перипетиях своей жизни. И — как знать! — может быть, мое некоторое легкомыслие, особенно в начале творческого пути, недооценка труда над собой актера заставят чуть-чуть призадуматься моих молодых товарищей, избравших прекрасный, но далеко не легкий путь в искусстве. А зрителям, дарящим мне радость своим лестным вниманием, этот мой «литературный труд» пусть будет благодарностью актрисы.
ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ (начало)
Я родилась в семье армейского офицера Николая Семеновича Гоголева. Отец мой кончил кадетский корпус и стал кадровым военным. Помню его рассказ о том, что в корпусе он был близок с Анатолием Дуровым, знаменитым впоследствии клоуном, и часто наблюдал, как Дуров уже в юношеские годы занимался дрессировкой крыс, которых в их учебном заведении водилось превеликое множество.
Отец любил меня до самозабвения, но в деле моего воспитания всегда подчинялся моей энергичной матери. В жизни он был необычайно мягок, но служба, честь мундира и военная присяга являлись для него святыней.
Отец был уже совсем больным, когда произошла революция. События февраля 1917 года и отречение царя как бы прошли мимо него. Известен такой случай. В дни революции многие кадровые офицеры переодевались в штатское платье и торопливо спарывали погоны; а отец как носил форму полковника в отставке, так и продолжал ходить по бурлящей Москве. Однажды на Тверской к, нему подошли несколько революционно настроенных молодых людей и потребовали, чтобы он снял погоны. Отец спокойно ответил: «Я не могу этого сделать — снимите сами». Очевидно, что-то в нем вызвало уважение этих людей, и они осторожно сняли с отца полковничьи погоны, ничем не оскорбив его.
Мне кажется, что жизнь моих родителей не была счастливой. Моя мать, Елена Евгеньевна Гоголева, тоже дочь военного, капитана Каменского, воспитывалась в том же Институте благородных девиц, куда поступила потом и я. Училась она главным образом за счет богача Губонина, одного из тех, на чьи деньги строился московский храм Христа Спасителя. К Губонину часто обращались малообеспеченные люди с просьбой стать крестным отцом новорожденного младенца. Так поступил и мой дед, доходы которого были более чем скромны. Быть крестницей Губонина означало, что Губонин не только оплатит учение, но и даст по окончании института приданое.
Бабушка моя умерла рано, и дед женился вторично; а мачеха любила своих родных детей и не жаловала, падчерицу — мою мать. На первом же балу, когда блестящий адъютант Гоголев протанцевал с моей матерью вальс и мазурку, мачеха довольно бестактно обратилась к нему: «Вам, кажется, нравится моя падчерица? Можете просить ее руки, отказа не будет».
Молодой человек растерялся — у него и в мыслях не было ничего подобного. Но рядом, чуть не плача, стояла сконфуженная девушка, и честь не позволила офицеру скомпрометировать ее. Таким образом в скором времени состоялась свадьба.
В год моего рождения пехотный Моршанский полк, в котором служил отец, стоял в Егорьевске, не так далеко от Москвы. Так как мое появление на свет обещало быть очень трудным, матери посоветовали ехать в Москву, к лучшему тогда акушеру Добрынину, который практиковал в Воспитательном доме при Николаевском женском институте. В этот институт попадали девочки-сироты, при рождении потерявшие мать. Роды действительно были очень трудные, но обе мы остались живы, несмотря на пророчества нянюшек. Они с сомнением посматривали на большеглазую, уже тогда со сросшимися бровями, довольно молчаливую новорожденную, качали головами и приговаривали: «Не жилица, нет, не жилица!» Тем не Менее все обошлось благополучно. Поскольку появилась я на свет все-таки в Москве, на самом берегу Москвы-реки, то и считаю себя москвичкой.
Через положенное время мать вернулась со мной в Егорьевск, где мы и прожили до 1904 года. Еще и теперь мне часто пишут старожилы Егорьевска, упорно считающие его моей родиной.
...Хотя родились Вы в Москве, но я упорно продолжаю считать Вас своей землячкой, так как Ваши родители жили в Егорьевске, да и Вы первые пять лет своей жизни провели у нас. Вы не хотели бы взглянуть на город Вашего раннего детства? А. И. Могальков, г. Егорьевск Московской области.
Привет из Егорьевска и большая благодарность за письмо, дорогая Елена Николаевна! В нашей местной газетке как-то появилась заметка, что «в 139-м Моршанском полку был офицер Н. С. Гоголев, жена которого выступала в самодеятельных любительских спектаклях в доме «Офицерского собрания», и, очевидно, тяга к театру передалась дочке, которая стала знаменитой артисткой нашей страны». Если это не так. Вы меня поправьте...
С глубокой признательностью М.И. Стулова, г. Егорьевск Московской области.
Когда началась русско-японская война, полк моего: отца отправили в район военных действий на Восток. Многие жены офицеров решили последовать за своими мужьями. Поехали и мы с мамой. Переезд в Хабаровск я помню хорошо. Тогда это был долгий путь: железной дорогой до Иркутска, пароходом через Байкал и опять железной дорогой до Хабаровска. Дальше уже штатских не пускали. Денег у нас почти не было, ехали, конечно, третьим классом. С нами ехала жена одного офицера, очень практичная и предусмотрительно запасшаяся всем необходимым дама.
Запомнился переезд через Байкал. Мы — в каюте, парохода. Лампа раскачивается из стороны в сторону. На озере сильное волнение. Наша попутчица, опасаясь морской болезни, сосет лимон. Пересели в поезд, идущий до Хабаровска. Еды у нас уже не осталось вовсе, денег тоже. А попутчица между тем уплетала купленных на станции кур. Я, глотая голодную слюну, старалась смотреть в окно. Какой-то совершенно незнакомый господин, как видно, давно уже следивший за мной, вдруг протянул маме маленькую жестяную коробочку — там было несколько кубиков бульона Либиха. До сих пор помню этот чудесный, вкусный, разведенный кипятком бульон.
В Хабаровске мама устроилась работать заведующей хозяйством в загородной больнице. Как ей удалось это сделать — не знаю. Главным врачом больницы был великолепный, как говорили, хирург, доктор Сабо. Туда часто привозили раненых с фронта, и мама постоянно старалась что-либо узнать об отце.
Время было тревожное. Больница находилась далеко от города и обслуживалась преимущественно ссыльнокаторжными. Так, Главный повар больницы отбывал наказание как профессиональный грабитель и убийца. Думаю, не многие стремились получить работу в этой больнице, тем более что доктор Сабо славился своим суровым характером. Расскажу один случай, подтверждающий эту репутацию.
Несколько дам из светского общества Хабаровска решили стать медицинскими сестрами. Они облачились в белые шелковые халаты, очень красивые и элегантные. В таком виде и явились в госпиталь. Доктору Сабо было безразлично, кто эти дамы, пусть даже жены генералов. Он велел содрать с них модные шелковые халаты и одеть в будничные, обычные, стерилизованные. И предупредил, что, если кому-нибудь из новоявленных сестер во время операции станет дурно, он не обратит на это внимание.
И действительно, доктор сдержал слово. Во время операции одна из сестер—молодая барышня — побелела и упала в обморок: Мама бросилась к ней на помощь. Раздался голос Сабо: «Ни с места». Так до конца операции несчастная барышня и пролежала на полу. Сабо твердо заявил: «Работа в госпитале не шутка и не маскарад»—и больше не пускал дам в госпиталь.
Вместе с тем он был душевный человек. Однажды в день рождения Сабо мама купила конфеты и послала меня его поздравить. Я боялась грозного доктора, поэтому положила конфеты около двери его кабинета и убежала. Но мама втолкнула меня в кабинет, и я оказалась перед доктором. Никогда не забуду, как этот суровый и преданный своему врачебному долгу человек был ласков и нежен с маленькой девочкой.
Сначала нас поместили не в самой больнице, а в конце большого двора, в двухэтажном флигеле, совеем рядом с Амуром. На первом этаже была китайская прачечная, там жили китайцы-прачки. Вечером они давали несколько выстрелов для острастки хунхузам, которые шайками бродили вокруг, а потом наглухо запирались. Если привозили раненых, маму ночью вызывали в главное здание, и она бежала через весь двор, боясь главным образом маленького морга, который тогда просто называли «мертвецкой». Один из каторжан, сторож, перед жарко натопленной печкой без особых церемоний отогревал чей-нибудь труп для вскрытия. Наконец мама не вытерпела, набралась храбрости и попросила доктора Сабо перевести нас в главный корпус. Там нас поселили в одной из свободных палат в женском психиатрическом отделении.
Коридор между мужским отделением и женским был перегорожен воротами из чугунных прутьев. Рядом с нами с одной стороны находилась палата очень миловидной тихой женщины. Она прижимала к груди подушку и тихонько пела колыбельные песни. Потеряв ребенка, она потеряла рассудок. Мне было ее очень жаль. Я всегда старалась заглянуть в окошечко над дверью, чтобы посмотреть на нее. С другой стороны жила весьма шумная женщина. Эта сумасшедшая кричала: «Идите за мной, я вам путь укажу! Идите за мной, я вас к Христу приведу!» Ночью, когда на пациентку «находило», мама зажимала мне уши подушкой. Я эту громкую соседку не любила и не хотела видеть. А вот с мужчинами-сумасшедшими, отделенными чугунными воротами, я дружила. Многие из? них свободно ходили по своему коридору, и я через ворота играла с ними в мячик, к обоюдному удовольствию.
Были у меня и подружки-однолетки. С ними мы качались на качелях — кто выше. Цель была через забор посмотреть на пароходик, идущий по Амуру. Мама решила нас, девочек, сфотографировать и возила в Хабаровск к фотографу, который, как выяснилось впоследствии, был японский шпион, очень ловко снимавший все интересующие его объекты и спокойно удравший с этими снимками. А фото мои с подружками у меня сохранились.
Как-то зимой мама взяла меня в Хабаровск. Было холодно и снежно. Ехали на извозчике. Мама дала мне свою большую муфту из скунса. Откуда у нее была такая роскошь—не знаю. Правда, мех этот не считался особо дорогим, но все же ценился. И вот домой мы вернулись без муфты. На мамин вопрос, где она, я спокойно ответила: «А я ее выбросила дорогой, она мне надоела». Очевидно, в то время меха и драгоценности не имели для меня никакого значения, как, впрочем, не имеют и сейчас.
Внезапно пришло известие, что папа серьезно ранен и специальным поездом отправлен в Москву. Сразу стали собираться и мы.
В Москве мы обосновались в переулке на старом Арбате, сейчас он называется-—Плотников. Мезонин, который мы снимали (теперь этого дома уже нет), был, ) скорее, чердаком, полным мышей. Отца, так и не вылечив, скоро перевели на «нестроевую» должность. Ранение его было очень тяжелым—рана в живот навылет и контузия головы, задет позвонок. Как он выжил— никто не понимал. Но последствия остались — до конца жизни он путал слова и вообще был очень больным человеком.
Наступил 1905 год. Отец получил назначение в город Судогду.
Добирались мы туда в какой-то карете. Железнодорожники бастовали. Дорогой на нас напали жулики. Они пытались захватить привязанную сзади корзину со всем нашим имуществом. С помощью папы и кучера мы отбились и благополучно доехали до Судогды. Сначала предоставленная нам квартира не очень нас обрадовала, однако после московского чердака это было вполне сносное жилье, но... без признака какой-либо мебели. Вскоре нас переселили, и мы зажили просто по-царски. Чудесный дом с огромным садом на окраине города, птичий двор, где ходили индюки, которых я боялась, в саду — пруд. Материально мы жили неплохо. Моя неугомонная мама быстро сколотила драматический кружок, где наконец получила возможность осуществить свое давнишнее желание играть на сцене. Жители Судогды до сих пор помнят эти «любительские спектакли» — теперь» бы сказали «самодеятельный театр». Судогодцы иногда пишут мне, а недавно прислали даже сохранившиеся афиши!
Многоуважаемая Елена Николаевна! От лица судогдовцев поздравляю Вас с днем 8 Марта и выражаю наше общее пожелание Вам доброго здоровья! Присылаю листок владимирской молодежной газеты «Комсомольская искра» от 4 марта.
С уважением В. А. Антонов, г. Судогда Владимирской области.
Однако здоровье отца не позволяло ему нести и «нестроевую» службу. Он вышел в отставку. Кончились наши «царские» угодья, пенсия отца была ничтожно мала, но мама наконец-то получила желаемое: жена отставного офицера, она имела право играть на профессиональной сцене. Началась наша новая жизнь.
Под фамилией Волжина мама поступила в труппу Собольщикова-Самарина сначала в Саратове, потом в его же антрепризу Самара — Казань. Отец, оформляя пенсию, начал хлопотать и о том, чтобы меня приняли на казенный счет в какой-либо институт (это соответствовало современной средней школе). Ну а пока мама стала актрисой — актрисой стала и я.
Вместе со своими подружками в Хабаровске я уже научилась немного читать и писать. Но по-настоящему стала учиться в Саратове. Однажды, когда мне исполнилось шесть лет, мама сказала: «Завтра ты пойдешь в школу». Я безумно обрадовалась. Вскочив ни свет ни заря, тихонько оделась (а мне с вечера приготовили платье и фартучек) и, никому ничего не говоря, выскользнула из дому. Я знала, что рядом находится какая-то школа. На улице было еще темно, двери школы оказались заперты. Как потом выяснилось, было четыре часа утра! Я этого не знала. Идти домой не хотелось. Во-первых, там все спали, во-вторых, еще заставят завтракать и я опоздаю в школу. Я спряталась за крыльцом школы, ожидая ее открытия. Очевидно, я немного вздремнула. Послышались голоса. Я увидела много девочек, весело входящих в двери, и, разумеется, тоже прошла в эти заветные двери.
Было так весело бегать по широкой лестнице, что-то кричать, чему-то смеяться. Раздался звонок. И тут-то и произошел конфуз: я решительно не знала, в какую дверь надо идти. Лестница опустела, все девочки куда-то исчезли, а я все прыгала по этой лестнице, восторженно ощущая себя в школе. Какая-то милая и ласковая женщина, давно уже наблюдавшая за мной, решила наконец установить «мою личность». В это время влетели и мои взволнованные родители, обнаружившие исчезновение своего единственного чада. Выяснилось, что я должна была ехать с папой на конке в детский сад, где говорили по-немецки и учили немножко играть на рояле. Вот какая была мне уготована школа. В саратовском детском саду я пробыла недолго. У мамы кончился сезон, и она подписала контракт в Казань. Мы переехали туда.
В Казани у Собольщикова-Самарина я и начала в шестилетнем возрасте свою «сценическую деятельность», неизменно выступая во всех пьесах, в которых имелась детская роль. Помню первое выступление. Репетиций было не много. Я, конечно, назубок выучила свою маленькую рольку. И, нисколько не стесняясь, сразу, как вышла на сцену, обратилась к суфлеру, сидевшему в будке: «Вы мне, пожалуйста, не подсказывайте, я сама все знаю». Таков был мой первый выход. Что это была за пьеса, не помню, а вот в «Русской свадьбе» П.П. Сухотина я уже навлекла на себя гнев молодой актрисы Поль, которая играла невесту. Я — мальчонка должен был по обряду перед выходом к свадебному пиру отрезать у невесты маленький кусочек косы. Мизансцена была удобная: Поль — невеста сидела лицом к публике, а мне за ее спиной следовало делать вид, что я режу под фатой самый кончик косы. Но я никак не могла согласиться на «как будто». Спектакль имел успех, шел много раз, а я все резала и резала косу. Поль пришла в ужас, так как коса ее заметно укорачивалась. Наконец, не выдержав, она пожаловалась маме. Как меня ни уговаривали, как ни доказывали, что можно «как будто», «делать вид», «ведь публика не видит», я решительно не могла «обманывать» публику. Единственное, на что я согласилась, — отрезать совсем крохотный кусочек волос невесты, но по-настоящему.
Должна похвастаться, что труппа была сильная и хорошо подобранная. В ней играли известные провинциальные артисты — пожилой резонер Никита Фабианский, молодая инженю Поль, героиня Палей. Как-то я имела бенефис. Для детского утренника подготовили «Мальчик с пальчик». Его я и играла в свой бенефис. В самый трагический момент, когда я, сидя под столом, подслушивала коварный план — завести всех братиков в лес и там бросить, — на сцене появилась настоящая кошка и, мурлыча, стала ко мне ласкаться. Я не растерялась и, прижимая кошку к себе, продолжала быть мальчиком с пальчик.
Не то в Самаре, не то в Казани, точно теперь не помню, случился пожар. Обычно мама всегда брала меня с собой в театр. Я либо смотрела спектакль из-за кулис, либо спала где-нибудь на узлах с костюмами. Погода в тот злополучный зимний вечер стояла ужасная — мороз, метель. Мама побоялась взять меня с собой, так как ехать надо было на другой берег Волги, прямо по льду, вот я и осталась одна в номере гостиницы. Мама уложила меня спать. Не знаю, что произошло, но я проснулась в, тот момент, когда вся комната наполнилась дымом. На мое счастье, в соседнем номере находился молодой артист Арди. Он меня и вытащил. Когда мама вернулась после спектакля, я была уже в безопасности.
Папа в это время уехал в Москву хлопотать о моем поступлении в институт. Как дочь раненого офицера, меня должны были принять на казенный счет. На то, чтобы отдать меня в хорошую частную гимназию, у нас не хватало средств. Чтобы не расставаться со мной, мама решила бросить провинциальную сцену. Устроиться в театр в Москве было не так легко. У нас в семье бредили Малым театром, но мама попасть туда не могла — ни специального образования, ни «протекции», как тогда говорили, у нее не имелось.
После возвращения папы мы неожиданно быстро получили извещение о том, что я зачислена на казенный счет в Институт благородных девиц в восьмой класс с предварительным экзаменом (классы считались в обратном порядке, восьмой был младшим). Институт находился в Москве на Пречистенке (теперь улица Кропоткина, в этом здании расположен один из факультетов Военной академии имени Фрунзе). Назывался он — Институт кавалерственной дамы Чертовой. Начальницей его была бывшая фрейлина императорского двора баронесса М.А. Богданова, а попечительницей—сестра жены императора Николая II великая княгиня Елизавета Федоровна. После смерти своего мужа Сергея Александровича Романова, погибшего от бомбы Каляева, она всегда ходила в сером платье, с повязанным по-монашески платком (постриг ей был запрещен). В институте она бывала ежегодно: 1 октября лично раздавала награды за хорошие успехи. Для нее и ее свиты готовили специальные обеды. Это был своеобразный экзамен по кулинарии, которой обучали в двух старших классах.
В институте воспитывались дочери офицеров до генеральского чина. Генеральские дочки учились в Екатерининском институте (теперь Центральный Дом Советской Армии на площади Коммуны).
Экзамен я выдержала, за что получила от родителей огромную и очень дорогую куклу. Мы переехали в Москву. Так как институт был закрытый, я приезжала домой только с субботы на воскресенье. Господи, сколько квартир переменили мы во всех прилегающих к Пречистенке переулках! Папиной пенсии не хватало. Устроиться на сцену маме не удалось, и она подрабатывала уроками русского и немецкого языков, а я — единственное балованное дитя — ни с чем не хотела считаться. По праздникам желала непременно ходить в театр. Часто, одетая как кукла, выезжала с мамой на детские балы. Ни в чем мне не было отказа. Мама мною безмерно восхищалась. Это портило меня, развивало самомнение и, в ущерб серьезным знаниям, верхоглядство. Больших трудов стоило мне впоследствии перевоспитывать себя. Это произошло тогда, когда я поняла, и больно поняла, весь вред, который, любя, принесла мне мама таким воспитанием.
Но вернемся к институту. Насколько я понимаю, учили нас довольно хорошо. Мы изучали все общеобразовательные предметы, немецкий и французский языки. Желающие могли брать уроки музыки (я училась играть на фортепьяно). Можно было учить английский язык. Балерина Станиславская преподавала танцы. Педагоги, как правило, были очень хорошие. Так, например, я запомнила учителя истории Николая Альбертовича Куна. Среди преподавателей выделялся известный историк литературы и исследователь творчества Гоголя Владимир Владимирович Каллаш. Он вел свой предмет, может быть, на чересчур высоком уровне, не вполне доступном его юным слушательницам, но серьезно, глубоко и увлекательно. Ко мне он относился очень хорошо и впоследствии даже дал рекомендацию в Филармонию.
По вечерам два раза в неделю воспитанницы старших классов изучали кулинарию, кройку и шитье. Последний предмет мне никогда не давался, и я не умела даже пришить пуговицу.
Порой мы не уезжали на воскресенье домой и пели в церковном хоре.
Иногда лучших учениц возили в театр или на симфонические концерты в Дворянское собрание. В театр мы ехали в открытом ландо, куда нас сажали кучей, как цыплят. Что касается театральных представлений, то преимущественно нам показывали балет и оперу.
На летние каникулы наша семья обычно ездила на юг. У папы, раненого офицера, был бесплатный билет. Мне брали детский билет и при этом очень боялись, как бы рост не выдал мой совсем уже не детский возраст.
Я очень любила Евпаторию. Тогда уже обнаружилось у меня стремление играть, лицедействовать. Я окружила себя девочками, сверстницами, и была среди них заводилой. В Евпатории продавали в то время хорошенькие, вышитые золотыми нитками шапочки. Такие шапочки были и у меня и у моих подруг. И вот я решила устроить вечером на приморском бульваре представление живых картин. Почему живые картины, а не пьесы? Во-первых, я была не сильна в драматургии; во-вторых, не верила, что подружки могут выучить слова. К нам присоединились и мальчики. Мы составили садовые скамейки, и я стада группировать участников, естественно, ставя себя в центр.
Собирались мы, когда темнело. У мальчиков были бенгальские огни, которые эффектно освещали нас. Мы становились в позы и показывали сказки.
Что произошло дальше, с точностью сказать не могу. Но на бульваре появились полицейские и разогнали нас. Вернее всего, какая-то мать оскорбилась тем, что ее дитяти досталась невыигрышная роль, и вызвала полицию.
В 1914 году мы на юг не поехали и сняли дачу в Новогирееве. В моей жизни Новогиреево сыграло важную роль, и я хочу рассказать о нем подробнее. В настоящее время Новогиреево—часть Москвы. В 1915—1916 годах это было полудачное место. До 1914 года в нем обитало много состоятельных немцев. Дома были фундаментальной постройки, существовали даже торцовые мостовые, а по двум главным проспектам ходила от железнодорожной станции маленькая конка. Мы сняли небольшую дачку на конечной остановке этой конки. В городе она носила название Баронского проспекта. Дачка стояла почти на отлете и граничила с прекрасным футбольным полем и двумя великолепно оборудованными теннисными кортами. Был там маленький домик с раздевалкой для футболистов и крошечной сценой. Вот здесь-то, в непосредственной близости от нашего дома, и собиралась летом молодежь Гиреева. Днем играли в футбол и теннис, по вечерам устраивали собственными силами концерты и даже разыгрывали маленькие водевили. Находившееся в довольно приличном состоянии пианино переезжало тогда со сцены в зрительный зал. До сих пор помню, как дружно и легко жилось тогда нам, молодым, в Гирееве. О войне не думалось, она не чувствовалась так остро, как в институте, где то и дело на какой-либо девочке появлялся траурный воротник. На кортах шли веселые состязания. Были даже классные игроки, к которым принадлежала и я. Ну а уж в концертах и спектаклях я, разумеется, играла первую роль.
Многие молодые жители Гиреева увлекались театром. Среди них были ставшие через несколько лет работниками Малого театра Шура Момма и его будущая жена Аня Бедрут. Шура—беззаветно преданный театру и безусловно талантливый человек—из-за своей ужасной дикции многие годы занимал в Малом театре скромную должность бутафора. Аня работала главным бухгалтером нашего театра. Коля Лукьяновский, крестник моей матери, декламировал под мой аккомпанемент какие-то «волшебные» стихи, а впоследствии под фамилией Яновский поступил в Вахтанговский театр—Валя Станюлис—в будущем актер Малого театра—был тогда еще очень молод и мог только издали следить за нашими драматическими успехами.
Удивительным человеком был Валентин Антонович Станюлис. Он не играл главных ролей, но его страстная любовь к театру, преклонение перед великими «стариками» Малого чувствовались в каждой маленькой роли, в каждом общественном мероприятии театра. Высокообразованный, по-настоящему знающий поэзию, он помнил наизусть и сам читал многих авторов, прекрасно разбирался в литературе и до последней минуты жизни горячо и преданно служил искусству. Он был женат на правнучке М. С. Щепкина —Александре Александровне Щепкиной, прекрасно воспитал двух своих дочерей, а потом и внука. Мы много лет прожили бок о бок в родном театре, вместе много играли, работали в местном комитете. Энергия Вали Станюлиса, его искреннее стремление служить коллективу, быть ему полезным всеми своими знаниями и силами были неистощимы. Он ведал культсектором месткома—и с какими замечательными людьми старался устраивать нам встречи! С его легкой руки за мной на долгие годы установилось прозвище Мадонна. Ох как не нравилось это некоторым! Но жили мы все дружно, и если и было что-то, что, к сожалению, всегда бывает в театре, то теперь на многое смотришь иначе. И когда я пишу эти строки, я—увы!—уже давно не «мадонна» и ношу прозвище, данное одним из любимых моих партнеров, Никитой Подгорным, — «Матант» (из «Волков и овец»).
Нет теперь рядом со мной уже многих гиреевцев— Ани и Шуры Момма, Коли Яновского, нет и Вали Станюлиса... А тогда, в 1915—1916 годах, мы были почти неразлучны. И, не думая, как тяжко будет маме жить в Гирееве и ездить каждый день на работу в Москву, я эгоистично упросила родителей остаться там до осени 1916 года. Я приезжала туда каждое воскресенье, проводила там рождество и пасху.
В Гирееве я уже серьезно готовилась к поступлению на сцену. Весной 1916 года я кончила институт и летом окончательно решила идти на драматические курсы. Но куда? Мои мечты устремились к Малому театру, но школы при Малом театре тогда не было.
(продолжение следует)
Дата публикации: 08.04.2005

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ОТ АВТОРА
Во многих письмах, которые я получаю от зрителей и просто от любителей театра, в беседах с моими друзьями все чаще и настойчивее звучат просьбы, чтобы я рассказала о себе, о своем творческом пути, о встречах с людьми, которые так или иначе оставили след в моей жизни, наконец, о моих товарищах по сцене и даже о методе работы над той или другой ролью.
Задача не из легких: многое уже изгладилось из памяти, многое и до сих пор больно вспоминать, ибо даже время не залечило ошибки и раны, которые так безжалостно иногда «дарит» нам судьба.
Но, перебирая в памяти то, что вылилось на страницах этой книги, мне хотелось с предельной искренностью рассказать о перипетиях своей жизни. И — как знать! — может быть, мое некоторое легкомыслие, особенно в начале творческого пути, недооценка труда над собой актера заставят чуть-чуть призадуматься моих молодых товарищей, избравших прекрасный, но далеко не легкий путь в искусстве. А зрителям, дарящим мне радость своим лестным вниманием, этот мой «литературный труд» пусть будет благодарностью актрисы.
ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ (начало)
Я родилась в семье армейского офицера Николая Семеновича Гоголева. Отец мой кончил кадетский корпус и стал кадровым военным. Помню его рассказ о том, что в корпусе он был близок с Анатолием Дуровым, знаменитым впоследствии клоуном, и часто наблюдал, как Дуров уже в юношеские годы занимался дрессировкой крыс, которых в их учебном заведении водилось превеликое множество.
Отец любил меня до самозабвения, но в деле моего воспитания всегда подчинялся моей энергичной матери. В жизни он был необычайно мягок, но служба, честь мундира и военная присяга являлись для него святыней.
Отец был уже совсем больным, когда произошла революция. События февраля 1917 года и отречение царя как бы прошли мимо него. Известен такой случай. В дни революции многие кадровые офицеры переодевались в штатское платье и торопливо спарывали погоны; а отец как носил форму полковника в отставке, так и продолжал ходить по бурлящей Москве. Однажды на Тверской к, нему подошли несколько революционно настроенных молодых людей и потребовали, чтобы он снял погоны. Отец спокойно ответил: «Я не могу этого сделать — снимите сами». Очевидно, что-то в нем вызвало уважение этих людей, и они осторожно сняли с отца полковничьи погоны, ничем не оскорбив его.
Мне кажется, что жизнь моих родителей не была счастливой. Моя мать, Елена Евгеньевна Гоголева, тоже дочь военного, капитана Каменского, воспитывалась в том же Институте благородных девиц, куда поступила потом и я. Училась она главным образом за счет богача Губонина, одного из тех, на чьи деньги строился московский храм Христа Спасителя. К Губонину часто обращались малообеспеченные люди с просьбой стать крестным отцом новорожденного младенца. Так поступил и мой дед, доходы которого были более чем скромны. Быть крестницей Губонина означало, что Губонин не только оплатит учение, но и даст по окончании института приданое.
Бабушка моя умерла рано, и дед женился вторично; а мачеха любила своих родных детей и не жаловала, падчерицу — мою мать. На первом же балу, когда блестящий адъютант Гоголев протанцевал с моей матерью вальс и мазурку, мачеха довольно бестактно обратилась к нему: «Вам, кажется, нравится моя падчерица? Можете просить ее руки, отказа не будет».
Молодой человек растерялся — у него и в мыслях не было ничего подобного. Но рядом, чуть не плача, стояла сконфуженная девушка, и честь не позволила офицеру скомпрометировать ее. Таким образом в скором времени состоялась свадьба.
В год моего рождения пехотный Моршанский полк, в котором служил отец, стоял в Егорьевске, не так далеко от Москвы. Так как мое появление на свет обещало быть очень трудным, матери посоветовали ехать в Москву, к лучшему тогда акушеру Добрынину, который практиковал в Воспитательном доме при Николаевском женском институте. В этот институт попадали девочки-сироты, при рождении потерявшие мать. Роды действительно были очень трудные, но обе мы остались живы, несмотря на пророчества нянюшек. Они с сомнением посматривали на большеглазую, уже тогда со сросшимися бровями, довольно молчаливую новорожденную, качали головами и приговаривали: «Не жилица, нет, не жилица!» Тем не Менее все обошлось благополучно. Поскольку появилась я на свет все-таки в Москве, на самом берегу Москвы-реки, то и считаю себя москвичкой.
Через положенное время мать вернулась со мной в Егорьевск, где мы и прожили до 1904 года. Еще и теперь мне часто пишут старожилы Егорьевска, упорно считающие его моей родиной.
...Хотя родились Вы в Москве, но я упорно продолжаю считать Вас своей землячкой, так как Ваши родители жили в Егорьевске, да и Вы первые пять лет своей жизни провели у нас. Вы не хотели бы взглянуть на город Вашего раннего детства? А. И. Могальков, г. Егорьевск Московской области.
Привет из Егорьевска и большая благодарность за письмо, дорогая Елена Николаевна! В нашей местной газетке как-то появилась заметка, что «в 139-м Моршанском полку был офицер Н. С. Гоголев, жена которого выступала в самодеятельных любительских спектаклях в доме «Офицерского собрания», и, очевидно, тяга к театру передалась дочке, которая стала знаменитой артисткой нашей страны». Если это не так. Вы меня поправьте...
С глубокой признательностью М.И. Стулова, г. Егорьевск Московской области.
Когда началась русско-японская война, полк моего: отца отправили в район военных действий на Восток. Многие жены офицеров решили последовать за своими мужьями. Поехали и мы с мамой. Переезд в Хабаровск я помню хорошо. Тогда это был долгий путь: железной дорогой до Иркутска, пароходом через Байкал и опять железной дорогой до Хабаровска. Дальше уже штатских не пускали. Денег у нас почти не было, ехали, конечно, третьим классом. С нами ехала жена одного офицера, очень практичная и предусмотрительно запасшаяся всем необходимым дама.
Запомнился переезд через Байкал. Мы — в каюте, парохода. Лампа раскачивается из стороны в сторону. На озере сильное волнение. Наша попутчица, опасаясь морской болезни, сосет лимон. Пересели в поезд, идущий до Хабаровска. Еды у нас уже не осталось вовсе, денег тоже. А попутчица между тем уплетала купленных на станции кур. Я, глотая голодную слюну, старалась смотреть в окно. Какой-то совершенно незнакомый господин, как видно, давно уже следивший за мной, вдруг протянул маме маленькую жестяную коробочку — там было несколько кубиков бульона Либиха. До сих пор помню этот чудесный, вкусный, разведенный кипятком бульон.
В Хабаровске мама устроилась работать заведующей хозяйством в загородной больнице. Как ей удалось это сделать — не знаю. Главным врачом больницы был великолепный, как говорили, хирург, доктор Сабо. Туда часто привозили раненых с фронта, и мама постоянно старалась что-либо узнать об отце.
Время было тревожное. Больница находилась далеко от города и обслуживалась преимущественно ссыльнокаторжными. Так, Главный повар больницы отбывал наказание как профессиональный грабитель и убийца. Думаю, не многие стремились получить работу в этой больнице, тем более что доктор Сабо славился своим суровым характером. Расскажу один случай, подтверждающий эту репутацию.
Несколько дам из светского общества Хабаровска решили стать медицинскими сестрами. Они облачились в белые шелковые халаты, очень красивые и элегантные. В таком виде и явились в госпиталь. Доктору Сабо было безразлично, кто эти дамы, пусть даже жены генералов. Он велел содрать с них модные шелковые халаты и одеть в будничные, обычные, стерилизованные. И предупредил, что, если кому-нибудь из новоявленных сестер во время операции станет дурно, он не обратит на это внимание.
И действительно, доктор сдержал слово. Во время операции одна из сестер—молодая барышня — побелела и упала в обморок: Мама бросилась к ней на помощь. Раздался голос Сабо: «Ни с места». Так до конца операции несчастная барышня и пролежала на полу. Сабо твердо заявил: «Работа в госпитале не шутка и не маскарад»—и больше не пускал дам в госпиталь.
Вместе с тем он был душевный человек. Однажды в день рождения Сабо мама купила конфеты и послала меня его поздравить. Я боялась грозного доктора, поэтому положила конфеты около двери его кабинета и убежала. Но мама втолкнула меня в кабинет, и я оказалась перед доктором. Никогда не забуду, как этот суровый и преданный своему врачебному долгу человек был ласков и нежен с маленькой девочкой.
Сначала нас поместили не в самой больнице, а в конце большого двора, в двухэтажном флигеле, совеем рядом с Амуром. На первом этаже была китайская прачечная, там жили китайцы-прачки. Вечером они давали несколько выстрелов для острастки хунхузам, которые шайками бродили вокруг, а потом наглухо запирались. Если привозили раненых, маму ночью вызывали в главное здание, и она бежала через весь двор, боясь главным образом маленького морга, который тогда просто называли «мертвецкой». Один из каторжан, сторож, перед жарко натопленной печкой без особых церемоний отогревал чей-нибудь труп для вскрытия. Наконец мама не вытерпела, набралась храбрости и попросила доктора Сабо перевести нас в главный корпус. Там нас поселили в одной из свободных палат в женском психиатрическом отделении.
Коридор между мужским отделением и женским был перегорожен воротами из чугунных прутьев. Рядом с нами с одной стороны находилась палата очень миловидной тихой женщины. Она прижимала к груди подушку и тихонько пела колыбельные песни. Потеряв ребенка, она потеряла рассудок. Мне было ее очень жаль. Я всегда старалась заглянуть в окошечко над дверью, чтобы посмотреть на нее. С другой стороны жила весьма шумная женщина. Эта сумасшедшая кричала: «Идите за мной, я вам путь укажу! Идите за мной, я вас к Христу приведу!» Ночью, когда на пациентку «находило», мама зажимала мне уши подушкой. Я эту громкую соседку не любила и не хотела видеть. А вот с мужчинами-сумасшедшими, отделенными чугунными воротами, я дружила. Многие из? них свободно ходили по своему коридору, и я через ворота играла с ними в мячик, к обоюдному удовольствию.
Были у меня и подружки-однолетки. С ними мы качались на качелях — кто выше. Цель была через забор посмотреть на пароходик, идущий по Амуру. Мама решила нас, девочек, сфотографировать и возила в Хабаровск к фотографу, который, как выяснилось впоследствии, был японский шпион, очень ловко снимавший все интересующие его объекты и спокойно удравший с этими снимками. А фото мои с подружками у меня сохранились.
Как-то зимой мама взяла меня в Хабаровск. Было холодно и снежно. Ехали на извозчике. Мама дала мне свою большую муфту из скунса. Откуда у нее была такая роскошь—не знаю. Правда, мех этот не считался особо дорогим, но все же ценился. И вот домой мы вернулись без муфты. На мамин вопрос, где она, я спокойно ответила: «А я ее выбросила дорогой, она мне надоела». Очевидно, в то время меха и драгоценности не имели для меня никакого значения, как, впрочем, не имеют и сейчас.
Внезапно пришло известие, что папа серьезно ранен и специальным поездом отправлен в Москву. Сразу стали собираться и мы.
В Москве мы обосновались в переулке на старом Арбате, сейчас он называется-—Плотников. Мезонин, который мы снимали (теперь этого дома уже нет), был, ) скорее, чердаком, полным мышей. Отца, так и не вылечив, скоро перевели на «нестроевую» должность. Ранение его было очень тяжелым—рана в живот навылет и контузия головы, задет позвонок. Как он выжил— никто не понимал. Но последствия остались — до конца жизни он путал слова и вообще был очень больным человеком.
Наступил 1905 год. Отец получил назначение в город Судогду.
Добирались мы туда в какой-то карете. Железнодорожники бастовали. Дорогой на нас напали жулики. Они пытались захватить привязанную сзади корзину со всем нашим имуществом. С помощью папы и кучера мы отбились и благополучно доехали до Судогды. Сначала предоставленная нам квартира не очень нас обрадовала, однако после московского чердака это было вполне сносное жилье, но... без признака какой-либо мебели. Вскоре нас переселили, и мы зажили просто по-царски. Чудесный дом с огромным садом на окраине города, птичий двор, где ходили индюки, которых я боялась, в саду — пруд. Материально мы жили неплохо. Моя неугомонная мама быстро сколотила драматический кружок, где наконец получила возможность осуществить свое давнишнее желание играть на сцене. Жители Судогды до сих пор помнят эти «любительские спектакли» — теперь» бы сказали «самодеятельный театр». Судогодцы иногда пишут мне, а недавно прислали даже сохранившиеся афиши!
Многоуважаемая Елена Николаевна! От лица судогдовцев поздравляю Вас с днем 8 Марта и выражаю наше общее пожелание Вам доброго здоровья! Присылаю листок владимирской молодежной газеты «Комсомольская искра» от 4 марта.
С уважением В. А. Антонов, г. Судогда Владимирской области.
Однако здоровье отца не позволяло ему нести и «нестроевую» службу. Он вышел в отставку. Кончились наши «царские» угодья, пенсия отца была ничтожно мала, но мама наконец-то получила желаемое: жена отставного офицера, она имела право играть на профессиональной сцене. Началась наша новая жизнь.
Под фамилией Волжина мама поступила в труппу Собольщикова-Самарина сначала в Саратове, потом в его же антрепризу Самара — Казань. Отец, оформляя пенсию, начал хлопотать и о том, чтобы меня приняли на казенный счет в какой-либо институт (это соответствовало современной средней школе). Ну а пока мама стала актрисой — актрисой стала и я.
Вместе со своими подружками в Хабаровске я уже научилась немного читать и писать. Но по-настоящему стала учиться в Саратове. Однажды, когда мне исполнилось шесть лет, мама сказала: «Завтра ты пойдешь в школу». Я безумно обрадовалась. Вскочив ни свет ни заря, тихонько оделась (а мне с вечера приготовили платье и фартучек) и, никому ничего не говоря, выскользнула из дому. Я знала, что рядом находится какая-то школа. На улице было еще темно, двери школы оказались заперты. Как потом выяснилось, было четыре часа утра! Я этого не знала. Идти домой не хотелось. Во-первых, там все спали, во-вторых, еще заставят завтракать и я опоздаю в школу. Я спряталась за крыльцом школы, ожидая ее открытия. Очевидно, я немного вздремнула. Послышались голоса. Я увидела много девочек, весело входящих в двери, и, разумеется, тоже прошла в эти заветные двери.
Было так весело бегать по широкой лестнице, что-то кричать, чему-то смеяться. Раздался звонок. И тут-то и произошел конфуз: я решительно не знала, в какую дверь надо идти. Лестница опустела, все девочки куда-то исчезли, а я все прыгала по этой лестнице, восторженно ощущая себя в школе. Какая-то милая и ласковая женщина, давно уже наблюдавшая за мной, решила наконец установить «мою личность». В это время влетели и мои взволнованные родители, обнаружившие исчезновение своего единственного чада. Выяснилось, что я должна была ехать с папой на конке в детский сад, где говорили по-немецки и учили немножко играть на рояле. Вот какая была мне уготована школа. В саратовском детском саду я пробыла недолго. У мамы кончился сезон, и она подписала контракт в Казань. Мы переехали туда.
В Казани у Собольщикова-Самарина я и начала в шестилетнем возрасте свою «сценическую деятельность», неизменно выступая во всех пьесах, в которых имелась детская роль. Помню первое выступление. Репетиций было не много. Я, конечно, назубок выучила свою маленькую рольку. И, нисколько не стесняясь, сразу, как вышла на сцену, обратилась к суфлеру, сидевшему в будке: «Вы мне, пожалуйста, не подсказывайте, я сама все знаю». Таков был мой первый выход. Что это была за пьеса, не помню, а вот в «Русской свадьбе» П.П. Сухотина я уже навлекла на себя гнев молодой актрисы Поль, которая играла невесту. Я — мальчонка должен был по обряду перед выходом к свадебному пиру отрезать у невесты маленький кусочек косы. Мизансцена была удобная: Поль — невеста сидела лицом к публике, а мне за ее спиной следовало делать вид, что я режу под фатой самый кончик косы. Но я никак не могла согласиться на «как будто». Спектакль имел успех, шел много раз, а я все резала и резала косу. Поль пришла в ужас, так как коса ее заметно укорачивалась. Наконец, не выдержав, она пожаловалась маме. Как меня ни уговаривали, как ни доказывали, что можно «как будто», «делать вид», «ведь публика не видит», я решительно не могла «обманывать» публику. Единственное, на что я согласилась, — отрезать совсем крохотный кусочек волос невесты, но по-настоящему.
Должна похвастаться, что труппа была сильная и хорошо подобранная. В ней играли известные провинциальные артисты — пожилой резонер Никита Фабианский, молодая инженю Поль, героиня Палей. Как-то я имела бенефис. Для детского утренника подготовили «Мальчик с пальчик». Его я и играла в свой бенефис. В самый трагический момент, когда я, сидя под столом, подслушивала коварный план — завести всех братиков в лес и там бросить, — на сцене появилась настоящая кошка и, мурлыча, стала ко мне ласкаться. Я не растерялась и, прижимая кошку к себе, продолжала быть мальчиком с пальчик.
Не то в Самаре, не то в Казани, точно теперь не помню, случился пожар. Обычно мама всегда брала меня с собой в театр. Я либо смотрела спектакль из-за кулис, либо спала где-нибудь на узлах с костюмами. Погода в тот злополучный зимний вечер стояла ужасная — мороз, метель. Мама побоялась взять меня с собой, так как ехать надо было на другой берег Волги, прямо по льду, вот я и осталась одна в номере гостиницы. Мама уложила меня спать. Не знаю, что произошло, но я проснулась в, тот момент, когда вся комната наполнилась дымом. На мое счастье, в соседнем номере находился молодой артист Арди. Он меня и вытащил. Когда мама вернулась после спектакля, я была уже в безопасности.
Папа в это время уехал в Москву хлопотать о моем поступлении в институт. Как дочь раненого офицера, меня должны были принять на казенный счет. На то, чтобы отдать меня в хорошую частную гимназию, у нас не хватало средств. Чтобы не расставаться со мной, мама решила бросить провинциальную сцену. Устроиться в театр в Москве было не так легко. У нас в семье бредили Малым театром, но мама попасть туда не могла — ни специального образования, ни «протекции», как тогда говорили, у нее не имелось.
После возвращения папы мы неожиданно быстро получили извещение о том, что я зачислена на казенный счет в Институт благородных девиц в восьмой класс с предварительным экзаменом (классы считались в обратном порядке, восьмой был младшим). Институт находился в Москве на Пречистенке (теперь улица Кропоткина, в этом здании расположен один из факультетов Военной академии имени Фрунзе). Назывался он — Институт кавалерственной дамы Чертовой. Начальницей его была бывшая фрейлина императорского двора баронесса М.А. Богданова, а попечительницей—сестра жены императора Николая II великая княгиня Елизавета Федоровна. После смерти своего мужа Сергея Александровича Романова, погибшего от бомбы Каляева, она всегда ходила в сером платье, с повязанным по-монашески платком (постриг ей был запрещен). В институте она бывала ежегодно: 1 октября лично раздавала награды за хорошие успехи. Для нее и ее свиты готовили специальные обеды. Это был своеобразный экзамен по кулинарии, которой обучали в двух старших классах.
В институте воспитывались дочери офицеров до генеральского чина. Генеральские дочки учились в Екатерининском институте (теперь Центральный Дом Советской Армии на площади Коммуны).
Экзамен я выдержала, за что получила от родителей огромную и очень дорогую куклу. Мы переехали в Москву. Так как институт был закрытый, я приезжала домой только с субботы на воскресенье. Господи, сколько квартир переменили мы во всех прилегающих к Пречистенке переулках! Папиной пенсии не хватало. Устроиться на сцену маме не удалось, и она подрабатывала уроками русского и немецкого языков, а я — единственное балованное дитя — ни с чем не хотела считаться. По праздникам желала непременно ходить в театр. Часто, одетая как кукла, выезжала с мамой на детские балы. Ни в чем мне не было отказа. Мама мною безмерно восхищалась. Это портило меня, развивало самомнение и, в ущерб серьезным знаниям, верхоглядство. Больших трудов стоило мне впоследствии перевоспитывать себя. Это произошло тогда, когда я поняла, и больно поняла, весь вред, который, любя, принесла мне мама таким воспитанием.
Но вернемся к институту. Насколько я понимаю, учили нас довольно хорошо. Мы изучали все общеобразовательные предметы, немецкий и французский языки. Желающие могли брать уроки музыки (я училась играть на фортепьяно). Можно было учить английский язык. Балерина Станиславская преподавала танцы. Педагоги, как правило, были очень хорошие. Так, например, я запомнила учителя истории Николая Альбертовича Куна. Среди преподавателей выделялся известный историк литературы и исследователь творчества Гоголя Владимир Владимирович Каллаш. Он вел свой предмет, может быть, на чересчур высоком уровне, не вполне доступном его юным слушательницам, но серьезно, глубоко и увлекательно. Ко мне он относился очень хорошо и впоследствии даже дал рекомендацию в Филармонию.
По вечерам два раза в неделю воспитанницы старших классов изучали кулинарию, кройку и шитье. Последний предмет мне никогда не давался, и я не умела даже пришить пуговицу.
Порой мы не уезжали на воскресенье домой и пели в церковном хоре.
Иногда лучших учениц возили в театр или на симфонические концерты в Дворянское собрание. В театр мы ехали в открытом ландо, куда нас сажали кучей, как цыплят. Что касается театральных представлений, то преимущественно нам показывали балет и оперу.
На летние каникулы наша семья обычно ездила на юг. У папы, раненого офицера, был бесплатный билет. Мне брали детский билет и при этом очень боялись, как бы рост не выдал мой совсем уже не детский возраст.
Я очень любила Евпаторию. Тогда уже обнаружилось у меня стремление играть, лицедействовать. Я окружила себя девочками, сверстницами, и была среди них заводилой. В Евпатории продавали в то время хорошенькие, вышитые золотыми нитками шапочки. Такие шапочки были и у меня и у моих подруг. И вот я решила устроить вечером на приморском бульваре представление живых картин. Почему живые картины, а не пьесы? Во-первых, я была не сильна в драматургии; во-вторых, не верила, что подружки могут выучить слова. К нам присоединились и мальчики. Мы составили садовые скамейки, и я стада группировать участников, естественно, ставя себя в центр.
Собирались мы, когда темнело. У мальчиков были бенгальские огни, которые эффектно освещали нас. Мы становились в позы и показывали сказки.
Что произошло дальше, с точностью сказать не могу. Но на бульваре появились полицейские и разогнали нас. Вернее всего, какая-то мать оскорбилась тем, что ее дитяти досталась невыигрышная роль, и вызвала полицию.
В 1914 году мы на юг не поехали и сняли дачу в Новогирееве. В моей жизни Новогиреево сыграло важную роль, и я хочу рассказать о нем подробнее. В настоящее время Новогиреево—часть Москвы. В 1915—1916 годах это было полудачное место. До 1914 года в нем обитало много состоятельных немцев. Дома были фундаментальной постройки, существовали даже торцовые мостовые, а по двум главным проспектам ходила от железнодорожной станции маленькая конка. Мы сняли небольшую дачку на конечной остановке этой конки. В городе она носила название Баронского проспекта. Дачка стояла почти на отлете и граничила с прекрасным футбольным полем и двумя великолепно оборудованными теннисными кортами. Был там маленький домик с раздевалкой для футболистов и крошечной сценой. Вот здесь-то, в непосредственной близости от нашего дома, и собиралась летом молодежь Гиреева. Днем играли в футбол и теннис, по вечерам устраивали собственными силами концерты и даже разыгрывали маленькие водевили. Находившееся в довольно приличном состоянии пианино переезжало тогда со сцены в зрительный зал. До сих пор помню, как дружно и легко жилось тогда нам, молодым, в Гирееве. О войне не думалось, она не чувствовалась так остро, как в институте, где то и дело на какой-либо девочке появлялся траурный воротник. На кортах шли веселые состязания. Были даже классные игроки, к которым принадлежала и я. Ну а уж в концертах и спектаклях я, разумеется, играла первую роль.
Многие молодые жители Гиреева увлекались театром. Среди них были ставшие через несколько лет работниками Малого театра Шура Момма и его будущая жена Аня Бедрут. Шура—беззаветно преданный театру и безусловно талантливый человек—из-за своей ужасной дикции многие годы занимал в Малом театре скромную должность бутафора. Аня работала главным бухгалтером нашего театра. Коля Лукьяновский, крестник моей матери, декламировал под мой аккомпанемент какие-то «волшебные» стихи, а впоследствии под фамилией Яновский поступил в Вахтанговский театр—Валя Станюлис—в будущем актер Малого театра—был тогда еще очень молод и мог только издали следить за нашими драматическими успехами.
Удивительным человеком был Валентин Антонович Станюлис. Он не играл главных ролей, но его страстная любовь к театру, преклонение перед великими «стариками» Малого чувствовались в каждой маленькой роли, в каждом общественном мероприятии театра. Высокообразованный, по-настоящему знающий поэзию, он помнил наизусть и сам читал многих авторов, прекрасно разбирался в литературе и до последней минуты жизни горячо и преданно служил искусству. Он был женат на правнучке М. С. Щепкина —Александре Александровне Щепкиной, прекрасно воспитал двух своих дочерей, а потом и внука. Мы много лет прожили бок о бок в родном театре, вместе много играли, работали в местном комитете. Энергия Вали Станюлиса, его искреннее стремление служить коллективу, быть ему полезным всеми своими знаниями и силами были неистощимы. Он ведал культсектором месткома—и с какими замечательными людьми старался устраивать нам встречи! С его легкой руки за мной на долгие годы установилось прозвище Мадонна. Ох как не нравилось это некоторым! Но жили мы все дружно, и если и было что-то, что, к сожалению, всегда бывает в театре, то теперь на многое смотришь иначе. И когда я пишу эти строки, я—увы!—уже давно не «мадонна» и ношу прозвище, данное одним из любимых моих партнеров, Никитой Подгорным, — «Матант» (из «Волков и овец»).
Нет теперь рядом со мной уже многих гиреевцев— Ани и Шуры Момма, Коли Яновского, нет и Вали Станюлиса... А тогда, в 1915—1916 годах, мы были почти неразлучны. И, не думая, как тяжко будет маме жить в Гирееве и ездить каждый день на работу в Москву, я эгоистично упросила родителей остаться там до осени 1916 года. Я приезжала туда каждое воскресенье, проводила там рождество и пасху.
В Гирееве я уже серьезно готовилась к поступлению на сцену. Весной 1916 года я кончила институт и летом окончательно решила идти на драматические курсы. Но куда? Мои мечты устремились к Малому театру, но школы при Малом театре тогда не было.
(продолжение следует)
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ОТ АВТОРА
Во многих письмах, которые я получаю от зрителей и просто от любителей театра, в беседах с моими друзьями все чаще и настойчивее звучат просьбы, чтобы я рассказала о себе, о своем творческом пути, о встречах с людьми, которые так или иначе оставили след в моей жизни, наконец, о моих товарищах по сцене и даже о методе работы над той или другой ролью.
Задача не из легких: многое уже изгладилось из памяти, многое и до сих пор больно вспоминать, ибо даже время не залечило ошибки и раны, которые так безжалостно иногда «дарит» нам судьба.
Но, перебирая в памяти то, что вылилось на страницах этой книги, мне хотелось с предельной искренностью рассказать о перипетиях своей жизни. И — как знать! — может быть, мое некоторое легкомыслие, особенно в начале творческого пути, недооценка труда над собой актера заставят чуть-чуть призадуматься моих молодых товарищей, избравших прекрасный, но далеко не легкий путь в искусстве. А зрителям, дарящим мне радость своим лестным вниманием, этот мой «литературный труд» пусть будет благодарностью актрисы.
ДЕТСТВО. ИНСТИТУТ. ФИЛАРМОНИЯ (начало)
Я родилась в семье армейского офицера Николая Семеновича Гоголева. Отец мой кончил кадетский корпус и стал кадровым военным. Помню его рассказ о том, что в корпусе он был близок с Анатолием Дуровым, знаменитым впоследствии клоуном, и часто наблюдал, как Дуров уже в юношеские годы занимался дрессировкой крыс, которых в их учебном заведении водилось превеликое множество.
Отец любил меня до самозабвения, но в деле моего воспитания всегда подчинялся моей энергичной матери. В жизни он был необычайно мягок, но служба, честь мундира и военная присяга являлись для него святыней.
Отец был уже совсем больным, когда произошла революция. События февраля 1917 года и отречение царя как бы прошли мимо него. Известен такой случай. В дни революции многие кадровые офицеры переодевались в штатское платье и торопливо спарывали погоны; а отец как носил форму полковника в отставке, так и продолжал ходить по бурлящей Москве. Однажды на Тверской к, нему подошли несколько революционно настроенных молодых людей и потребовали, чтобы он снял погоны. Отец спокойно ответил: «Я не могу этого сделать — снимите сами». Очевидно, что-то в нем вызвало уважение этих людей, и они осторожно сняли с отца полковничьи погоны, ничем не оскорбив его.
Мне кажется, что жизнь моих родителей не была счастливой. Моя мать, Елена Евгеньевна Гоголева, тоже дочь военного, капитана Каменского, воспитывалась в том же Институте благородных девиц, куда поступила потом и я. Училась она главным образом за счет богача Губонина, одного из тех, на чьи деньги строился московский храм Христа Спасителя. К Губонину часто обращались малообеспеченные люди с просьбой стать крестным отцом новорожденного младенца. Так поступил и мой дед, доходы которого были более чем скромны. Быть крестницей Губонина означало, что Губонин не только оплатит учение, но и даст по окончании института приданое.
Бабушка моя умерла рано, и дед женился вторично; а мачеха любила своих родных детей и не жаловала, падчерицу — мою мать. На первом же балу, когда блестящий адъютант Гоголев протанцевал с моей матерью вальс и мазурку, мачеха довольно бестактно обратилась к нему: «Вам, кажется, нравится моя падчерица? Можете просить ее руки, отказа не будет».
Молодой человек растерялся — у него и в мыслях не было ничего подобного. Но рядом, чуть не плача, стояла сконфуженная девушка, и честь не позволила офицеру скомпрометировать ее. Таким образом в скором времени состоялась свадьба.
В год моего рождения пехотный Моршанский полк, в котором служил отец, стоял в Егорьевске, не так далеко от Москвы. Так как мое появление на свет обещало быть очень трудным, матери посоветовали ехать в Москву, к лучшему тогда акушеру Добрынину, который практиковал в Воспитательном доме при Николаевском женском институте. В этот институт попадали девочки-сироты, при рождении потерявшие мать. Роды действительно были очень трудные, но обе мы остались живы, несмотря на пророчества нянюшек. Они с сомнением посматривали на большеглазую, уже тогда со сросшимися бровями, довольно молчаливую новорожденную, качали головами и приговаривали: «Не жилица, нет, не жилица!» Тем не Менее все обошлось благополучно. Поскольку появилась я на свет все-таки в Москве, на самом берегу Москвы-реки, то и считаю себя москвичкой.
Через положенное время мать вернулась со мной в Егорьевск, где мы и прожили до 1904 года. Еще и теперь мне часто пишут старожилы Егорьевска, упорно считающие его моей родиной.
...Хотя родились Вы в Москве, но я упорно продолжаю считать Вас своей землячкой, так как Ваши родители жили в Егорьевске, да и Вы первые пять лет своей жизни провели у нас. Вы не хотели бы взглянуть на город Вашего раннего детства? А. И. Могальков, г. Егорьевск Московской области.
Привет из Егорьевска и большая благодарность за письмо, дорогая Елена Николаевна! В нашей местной газетке как-то появилась заметка, что «в 139-м Моршанском полку был офицер Н. С. Гоголев, жена которого выступала в самодеятельных любительских спектаклях в доме «Офицерского собрания», и, очевидно, тяга к театру передалась дочке, которая стала знаменитой артисткой нашей страны». Если это не так. Вы меня поправьте...
С глубокой признательностью М.И. Стулова, г. Егорьевск Московской области.
Когда началась русско-японская война, полк моего: отца отправили в район военных действий на Восток. Многие жены офицеров решили последовать за своими мужьями. Поехали и мы с мамой. Переезд в Хабаровск я помню хорошо. Тогда это был долгий путь: железной дорогой до Иркутска, пароходом через Байкал и опять железной дорогой до Хабаровска. Дальше уже штатских не пускали. Денег у нас почти не было, ехали, конечно, третьим классом. С нами ехала жена одного офицера, очень практичная и предусмотрительно запасшаяся всем необходимым дама.
Запомнился переезд через Байкал. Мы — в каюте, парохода. Лампа раскачивается из стороны в сторону. На озере сильное волнение. Наша попутчица, опасаясь морской болезни, сосет лимон. Пересели в поезд, идущий до Хабаровска. Еды у нас уже не осталось вовсе, денег тоже. А попутчица между тем уплетала купленных на станции кур. Я, глотая голодную слюну, старалась смотреть в окно. Какой-то совершенно незнакомый господин, как видно, давно уже следивший за мной, вдруг протянул маме маленькую жестяную коробочку — там было несколько кубиков бульона Либиха. До сих пор помню этот чудесный, вкусный, разведенный кипятком бульон.
В Хабаровске мама устроилась работать заведующей хозяйством в загородной больнице. Как ей удалось это сделать — не знаю. Главным врачом больницы был великолепный, как говорили, хирург, доктор Сабо. Туда часто привозили раненых с фронта, и мама постоянно старалась что-либо узнать об отце.
Время было тревожное. Больница находилась далеко от города и обслуживалась преимущественно ссыльнокаторжными. Так, Главный повар больницы отбывал наказание как профессиональный грабитель и убийца. Думаю, не многие стремились получить работу в этой больнице, тем более что доктор Сабо славился своим суровым характером. Расскажу один случай, подтверждающий эту репутацию.
Несколько дам из светского общества Хабаровска решили стать медицинскими сестрами. Они облачились в белые шелковые халаты, очень красивые и элегантные. В таком виде и явились в госпиталь. Доктору Сабо было безразлично, кто эти дамы, пусть даже жены генералов. Он велел содрать с них модные шелковые халаты и одеть в будничные, обычные, стерилизованные. И предупредил, что, если кому-нибудь из новоявленных сестер во время операции станет дурно, он не обратит на это внимание.
И действительно, доктор сдержал слово. Во время операции одна из сестер—молодая барышня — побелела и упала в обморок: Мама бросилась к ней на помощь. Раздался голос Сабо: «Ни с места». Так до конца операции несчастная барышня и пролежала на полу. Сабо твердо заявил: «Работа в госпитале не шутка и не маскарад»—и больше не пускал дам в госпиталь.
Вместе с тем он был душевный человек. Однажды в день рождения Сабо мама купила конфеты и послала меня его поздравить. Я боялась грозного доктора, поэтому положила конфеты около двери его кабинета и убежала. Но мама втолкнула меня в кабинет, и я оказалась перед доктором. Никогда не забуду, как этот суровый и преданный своему врачебному долгу человек был ласков и нежен с маленькой девочкой.
Сначала нас поместили не в самой больнице, а в конце большого двора, в двухэтажном флигеле, совеем рядом с Амуром. На первом этаже была китайская прачечная, там жили китайцы-прачки. Вечером они давали несколько выстрелов для острастки хунхузам, которые шайками бродили вокруг, а потом наглухо запирались. Если привозили раненых, маму ночью вызывали в главное здание, и она бежала через весь двор, боясь главным образом маленького морга, который тогда просто называли «мертвецкой». Один из каторжан, сторож, перед жарко натопленной печкой без особых церемоний отогревал чей-нибудь труп для вскрытия. Наконец мама не вытерпела, набралась храбрости и попросила доктора Сабо перевести нас в главный корпус. Там нас поселили в одной из свободных палат в женском психиатрическом отделении.
Коридор между мужским отделением и женским был перегорожен воротами из чугунных прутьев. Рядом с нами с одной стороны находилась палата очень миловидной тихой женщины. Она прижимала к груди подушку и тихонько пела колыбельные песни. Потеряв ребенка, она потеряла рассудок. Мне было ее очень жаль. Я всегда старалась заглянуть в окошечко над дверью, чтобы посмотреть на нее. С другой стороны жила весьма шумная женщина. Эта сумасшедшая кричала: «Идите за мной, я вам путь укажу! Идите за мной, я вас к Христу приведу!» Ночью, когда на пациентку «находило», мама зажимала мне уши подушкой. Я эту громкую соседку не любила и не хотела видеть. А вот с мужчинами-сумасшедшими, отделенными чугунными воротами, я дружила. Многие из? них свободно ходили по своему коридору, и я через ворота играла с ними в мячик, к обоюдному удовольствию.
Были у меня и подружки-однолетки. С ними мы качались на качелях — кто выше. Цель была через забор посмотреть на пароходик, идущий по Амуру. Мама решила нас, девочек, сфотографировать и возила в Хабаровск к фотографу, который, как выяснилось впоследствии, был японский шпион, очень ловко снимавший все интересующие его объекты и спокойно удравший с этими снимками. А фото мои с подружками у меня сохранились.
Как-то зимой мама взяла меня в Хабаровск. Было холодно и снежно. Ехали на извозчике. Мама дала мне свою большую муфту из скунса. Откуда у нее была такая роскошь—не знаю. Правда, мех этот не считался особо дорогим, но все же ценился. И вот домой мы вернулись без муфты. На мамин вопрос, где она, я спокойно ответила: «А я ее выбросила дорогой, она мне надоела». Очевидно, в то время меха и драгоценности не имели для меня никакого значения, как, впрочем, не имеют и сейчас.
Внезапно пришло известие, что папа серьезно ранен и специальным поездом отправлен в Москву. Сразу стали собираться и мы.
В Москве мы обосновались в переулке на старом Арбате, сейчас он называется-—Плотников. Мезонин, который мы снимали (теперь этого дома уже нет), был, ) скорее, чердаком, полным мышей. Отца, так и не вылечив, скоро перевели на «нестроевую» должность. Ранение его было очень тяжелым—рана в живот навылет и контузия головы, задет позвонок. Как он выжил— никто не понимал. Но последствия остались — до конца жизни он путал слова и вообще был очень больным человеком.
Наступил 1905 год. Отец получил назначение в город Судогду.
Добирались мы туда в какой-то карете. Железнодорожники бастовали. Дорогой на нас напали жулики. Они пытались захватить привязанную сзади корзину со всем нашим имуществом. С помощью папы и кучера мы отбились и благополучно доехали до Судогды. Сначала предоставленная нам квартира не очень нас обрадовала, однако после московского чердака это было вполне сносное жилье, но... без признака какой-либо мебели. Вскоре нас переселили, и мы зажили просто по-царски. Чудесный дом с огромным садом на окраине города, птичий двор, где ходили индюки, которых я боялась, в саду — пруд. Материально мы жили неплохо. Моя неугомонная мама быстро сколотила драматический кружок, где наконец получила возможность осуществить свое давнишнее желание играть на сцене. Жители Судогды до сих пор помнят эти «любительские спектакли» — теперь» бы сказали «самодеятельный театр». Судогодцы иногда пишут мне, а недавно прислали даже сохранившиеся афиши!
Многоуважаемая Елена Николаевна! От лица судогдовцев поздравляю Вас с днем 8 Марта и выражаю наше общее пожелание Вам доброго здоровья! Присылаю листок владимирской молодежной газеты «Комсомольская искра» от 4 марта.
С уважением В. А. Антонов, г. Судогда Владимирской области.
Однако здоровье отца не позволяло ему нести и «нестроевую» службу. Он вышел в отставку. Кончились наши «царские» угодья, пенсия отца была ничтожно мала, но мама наконец-то получила желаемое: жена отставного офицера, она имела право играть на профессиональной сцене. Началась наша новая жизнь.
Под фамилией Волжина мама поступила в труппу Собольщикова-Самарина сначала в Саратове, потом в его же антрепризу Самара — Казань. Отец, оформляя пенсию, начал хлопотать и о том, чтобы меня приняли на казенный счет в какой-либо институт (это соответствовало современной средней школе). Ну а пока мама стала актрисой — актрисой стала и я.
Вместе со своими подружками в Хабаровске я уже научилась немного читать и писать. Но по-настоящему стала учиться в Саратове. Однажды, когда мне исполнилось шесть лет, мама сказала: «Завтра ты пойдешь в школу». Я безумно обрадовалась. Вскочив ни свет ни заря, тихонько оделась (а мне с вечера приготовили платье и фартучек) и, никому ничего не говоря, выскользнула из дому. Я знала, что рядом находится какая-то школа. На улице было еще темно, двери школы оказались заперты. Как потом выяснилось, было четыре часа утра! Я этого не знала. Идти домой не хотелось. Во-первых, там все спали, во-вторых, еще заставят завтракать и я опоздаю в школу. Я спряталась за крыльцом школы, ожидая ее открытия. Очевидно, я немного вздремнула. Послышались голоса. Я увидела много девочек, весело входящих в двери, и, разумеется, тоже прошла в эти заветные двери.
Было так весело бегать по широкой лестнице, что-то кричать, чему-то смеяться. Раздался звонок. И тут-то и произошел конфуз: я решительно не знала, в какую дверь надо идти. Лестница опустела, все девочки куда-то исчезли, а я все прыгала по этой лестнице, восторженно ощущая себя в школе. Какая-то милая и ласковая женщина, давно уже наблюдавшая за мной, решила наконец установить «мою личность». В это время влетели и мои взволнованные родители, обнаружившие исчезновение своего единственного чада. Выяснилось, что я должна была ехать с папой на конке в детский сад, где говорили по-немецки и учили немножко играть на рояле. Вот какая была мне уготована школа. В саратовском детском саду я пробыла недолго. У мамы кончился сезон, и она подписала контракт в Казань. Мы переехали туда.
В Казани у Собольщикова-Самарина я и начала в шестилетнем возрасте свою «сценическую деятельность», неизменно выступая во всех пьесах, в которых имелась детская роль. Помню первое выступление. Репетиций было не много. Я, конечно, назубок выучила свою маленькую рольку. И, нисколько не стесняясь, сразу, как вышла на сцену, обратилась к суфлеру, сидевшему в будке: «Вы мне, пожалуйста, не подсказывайте, я сама все знаю». Таков был мой первый выход. Что это была за пьеса, не помню, а вот в «Русской свадьбе» П.П. Сухотина я уже навлекла на себя гнев молодой актрисы Поль, которая играла невесту. Я — мальчонка должен был по обряду перед выходом к свадебному пиру отрезать у невесты маленький кусочек косы. Мизансцена была удобная: Поль — невеста сидела лицом к публике, а мне за ее спиной следовало делать вид, что я режу под фатой самый кончик косы. Но я никак не могла согласиться на «как будто». Спектакль имел успех, шел много раз, а я все резала и резала косу. Поль пришла в ужас, так как коса ее заметно укорачивалась. Наконец, не выдержав, она пожаловалась маме. Как меня ни уговаривали, как ни доказывали, что можно «как будто», «делать вид», «ведь публика не видит», я решительно не могла «обманывать» публику. Единственное, на что я согласилась, — отрезать совсем крохотный кусочек волос невесты, но по-настоящему.
Должна похвастаться, что труппа была сильная и хорошо подобранная. В ней играли известные провинциальные артисты — пожилой резонер Никита Фабианский, молодая инженю Поль, героиня Палей. Как-то я имела бенефис. Для детского утренника подготовили «Мальчик с пальчик». Его я и играла в свой бенефис. В самый трагический момент, когда я, сидя под столом, подслушивала коварный план — завести всех братиков в лес и там бросить, — на сцене появилась настоящая кошка и, мурлыча, стала ко мне ласкаться. Я не растерялась и, прижимая кошку к себе, продолжала быть мальчиком с пальчик.
Не то в Самаре, не то в Казани, точно теперь не помню, случился пожар. Обычно мама всегда брала меня с собой в театр. Я либо смотрела спектакль из-за кулис, либо спала где-нибудь на узлах с костюмами. Погода в тот злополучный зимний вечер стояла ужасная — мороз, метель. Мама побоялась взять меня с собой, так как ехать надо было на другой берег Волги, прямо по льду, вот я и осталась одна в номере гостиницы. Мама уложила меня спать. Не знаю, что произошло, но я проснулась в, тот момент, когда вся комната наполнилась дымом. На мое счастье, в соседнем номере находился молодой артист Арди. Он меня и вытащил. Когда мама вернулась после спектакля, я была уже в безопасности.
Папа в это время уехал в Москву хлопотать о моем поступлении в институт. Как дочь раненого офицера, меня должны были принять на казенный счет. На то, чтобы отдать меня в хорошую частную гимназию, у нас не хватало средств. Чтобы не расставаться со мной, мама решила бросить провинциальную сцену. Устроиться в театр в Москве было не так легко. У нас в семье бредили Малым театром, но мама попасть туда не могла — ни специального образования, ни «протекции», как тогда говорили, у нее не имелось.
После возвращения папы мы неожиданно быстро получили извещение о том, что я зачислена на казенный счет в Институт благородных девиц в восьмой класс с предварительным экзаменом (классы считались в обратном порядке, восьмой был младшим). Институт находился в Москве на Пречистенке (теперь улица Кропоткина, в этом здании расположен один из факультетов Военной академии имени Фрунзе). Назывался он — Институт кавалерственной дамы Чертовой. Начальницей его была бывшая фрейлина императорского двора баронесса М.А. Богданова, а попечительницей—сестра жены императора Николая II великая княгиня Елизавета Федоровна. После смерти своего мужа Сергея Александровича Романова, погибшего от бомбы Каляева, она всегда ходила в сером платье, с повязанным по-монашески платком (постриг ей был запрещен). В институте она бывала ежегодно: 1 октября лично раздавала награды за хорошие успехи. Для нее и ее свиты готовили специальные обеды. Это был своеобразный экзамен по кулинарии, которой обучали в двух старших классах.
В институте воспитывались дочери офицеров до генеральского чина. Генеральские дочки учились в Екатерининском институте (теперь Центральный Дом Советской Армии на площади Коммуны).
Экзамен я выдержала, за что получила от родителей огромную и очень дорогую куклу. Мы переехали в Москву. Так как институт был закрытый, я приезжала домой только с субботы на воскресенье. Господи, сколько квартир переменили мы во всех прилегающих к Пречистенке переулках! Папиной пенсии не хватало. Устроиться на сцену маме не удалось, и она подрабатывала уроками русского и немецкого языков, а я — единственное балованное дитя — ни с чем не хотела считаться. По праздникам желала непременно ходить в театр. Часто, одетая как кукла, выезжала с мамой на детские балы. Ни в чем мне не было отказа. Мама мною безмерно восхищалась. Это портило меня, развивало самомнение и, в ущерб серьезным знаниям, верхоглядство. Больших трудов стоило мне впоследствии перевоспитывать себя. Это произошло тогда, когда я поняла, и больно поняла, весь вред, который, любя, принесла мне мама таким воспитанием.
Но вернемся к институту. Насколько я понимаю, учили нас довольно хорошо. Мы изучали все общеобразовательные предметы, немецкий и французский языки. Желающие могли брать уроки музыки (я училась играть на фортепьяно). Можно было учить английский язык. Балерина Станиславская преподавала танцы. Педагоги, как правило, были очень хорошие. Так, например, я запомнила учителя истории Николая Альбертовича Куна. Среди преподавателей выделялся известный историк литературы и исследователь творчества Гоголя Владимир Владимирович Каллаш. Он вел свой предмет, может быть, на чересчур высоком уровне, не вполне доступном его юным слушательницам, но серьезно, глубоко и увлекательно. Ко мне он относился очень хорошо и впоследствии даже дал рекомендацию в Филармонию.
По вечерам два раза в неделю воспитанницы старших классов изучали кулинарию, кройку и шитье. Последний предмет мне никогда не давался, и я не умела даже пришить пуговицу.
Порой мы не уезжали на воскресенье домой и пели в церковном хоре.
Иногда лучших учениц возили в театр или на симфонические концерты в Дворянское собрание. В театр мы ехали в открытом ландо, куда нас сажали кучей, как цыплят. Что касается театральных представлений, то преимущественно нам показывали балет и оперу.
На летние каникулы наша семья обычно ездила на юг. У папы, раненого офицера, был бесплатный билет. Мне брали детский билет и при этом очень боялись, как бы рост не выдал мой совсем уже не детский возраст.
Я очень любила Евпаторию. Тогда уже обнаружилось у меня стремление играть, лицедействовать. Я окружила себя девочками, сверстницами, и была среди них заводилой. В Евпатории продавали в то время хорошенькие, вышитые золотыми нитками шапочки. Такие шапочки были и у меня и у моих подруг. И вот я решила устроить вечером на приморском бульваре представление живых картин. Почему живые картины, а не пьесы? Во-первых, я была не сильна в драматургии; во-вторых, не верила, что подружки могут выучить слова. К нам присоединились и мальчики. Мы составили садовые скамейки, и я стада группировать участников, естественно, ставя себя в центр.
Собирались мы, когда темнело. У мальчиков были бенгальские огни, которые эффектно освещали нас. Мы становились в позы и показывали сказки.
Что произошло дальше, с точностью сказать не могу. Но на бульваре появились полицейские и разогнали нас. Вернее всего, какая-то мать оскорбилась тем, что ее дитяти досталась невыигрышная роль, и вызвала полицию.
В 1914 году мы на юг не поехали и сняли дачу в Новогирееве. В моей жизни Новогиреево сыграло важную роль, и я хочу рассказать о нем подробнее. В настоящее время Новогиреево—часть Москвы. В 1915—1916 годах это было полудачное место. До 1914 года в нем обитало много состоятельных немцев. Дома были фундаментальной постройки, существовали даже торцовые мостовые, а по двум главным проспектам ходила от железнодорожной станции маленькая конка. Мы сняли небольшую дачку на конечной остановке этой конки. В городе она носила название Баронского проспекта. Дачка стояла почти на отлете и граничила с прекрасным футбольным полем и двумя великолепно оборудованными теннисными кортами. Был там маленький домик с раздевалкой для футболистов и крошечной сценой. Вот здесь-то, в непосредственной близости от нашего дома, и собиралась летом молодежь Гиреева. Днем играли в футбол и теннис, по вечерам устраивали собственными силами концерты и даже разыгрывали маленькие водевили. Находившееся в довольно приличном состоянии пианино переезжало тогда со сцены в зрительный зал. До сих пор помню, как дружно и легко жилось тогда нам, молодым, в Гирееве. О войне не думалось, она не чувствовалась так остро, как в институте, где то и дело на какой-либо девочке появлялся траурный воротник. На кортах шли веселые состязания. Были даже классные игроки, к которым принадлежала и я. Ну а уж в концертах и спектаклях я, разумеется, играла первую роль.
Многие молодые жители Гиреева увлекались театром. Среди них были ставшие через несколько лет работниками Малого театра Шура Момма и его будущая жена Аня Бедрут. Шура—беззаветно преданный театру и безусловно талантливый человек—из-за своей ужасной дикции многие годы занимал в Малом театре скромную должность бутафора. Аня работала главным бухгалтером нашего театра. Коля Лукьяновский, крестник моей матери, декламировал под мой аккомпанемент какие-то «волшебные» стихи, а впоследствии под фамилией Яновский поступил в Вахтанговский театр—Валя Станюлис—в будущем актер Малого театра—был тогда еще очень молод и мог только издали следить за нашими драматическими успехами.
Удивительным человеком был Валентин Антонович Станюлис. Он не играл главных ролей, но его страстная любовь к театру, преклонение перед великими «стариками» Малого чувствовались в каждой маленькой роли, в каждом общественном мероприятии театра. Высокообразованный, по-настоящему знающий поэзию, он помнил наизусть и сам читал многих авторов, прекрасно разбирался в литературе и до последней минуты жизни горячо и преданно служил искусству. Он был женат на правнучке М. С. Щепкина —Александре Александровне Щепкиной, прекрасно воспитал двух своих дочерей, а потом и внука. Мы много лет прожили бок о бок в родном театре, вместе много играли, работали в местном комитете. Энергия Вали Станюлиса, его искреннее стремление служить коллективу, быть ему полезным всеми своими знаниями и силами были неистощимы. Он ведал культсектором месткома—и с какими замечательными людьми старался устраивать нам встречи! С его легкой руки за мной на долгие годы установилось прозвище Мадонна. Ох как не нравилось это некоторым! Но жили мы все дружно, и если и было что-то, что, к сожалению, всегда бывает в театре, то теперь на многое смотришь иначе. И когда я пишу эти строки, я—увы!—уже давно не «мадонна» и ношу прозвище, данное одним из любимых моих партнеров, Никитой Подгорным, — «Матант» (из «Волков и овец»).
Нет теперь рядом со мной уже многих гиреевцев— Ани и Шуры Момма, Коли Яновского, нет и Вали Станюлиса... А тогда, в 1915—1916 годах, мы были почти неразлучны. И, не думая, как тяжко будет маме жить в Гирееве и ездить каждый день на работу в Москву, я эгоистично упросила родителей остаться там до осени 1916 года. Я приезжала туда каждое воскресенье, проводила там рождество и пасху.
В Гирееве я уже серьезно готовилась к поступлению на сцену. Весной 1916 года я кончила институт и летом окончательно решила идти на драматические курсы. Но куда? Мои мечты устремились к Малому театру, но школы при Малом театре тогда не было.
(продолжение следует)
Дата публикации: 08.04.2005