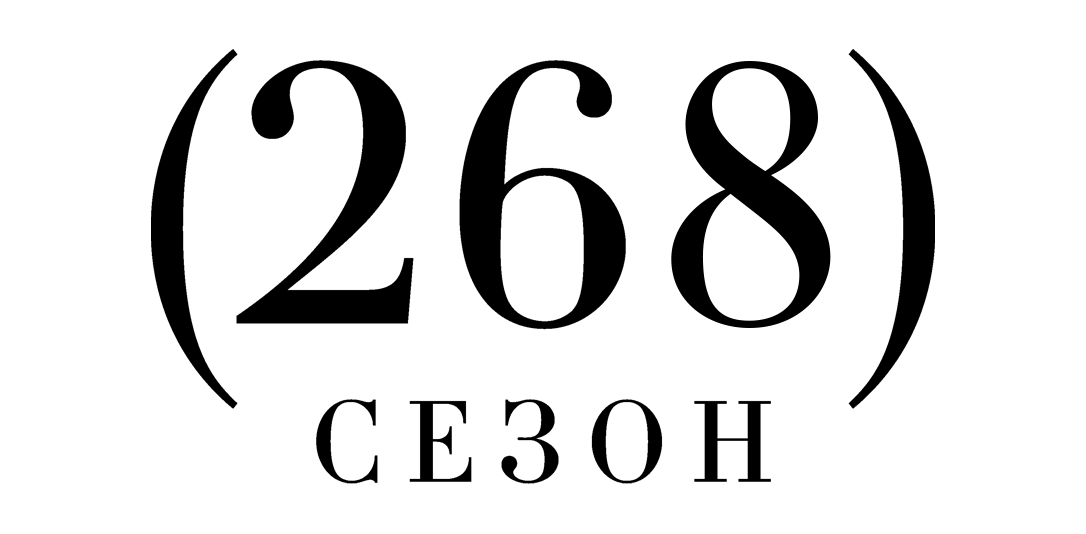Новости
МОИ ПОРТРЕТЫ. ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДАВЫДОВ

МОИ ПОРТРЕТЫ. ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДАВЫДОВ
МОИ ПОРТРЕТЫ. ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДАВЫДОВ
Сергей Ауслендер
1.
Меня провели по широкому, светлому, застланному мягким ковром коридору, напоминающему коридор какой-нибудь старинной спокойной и приличной гостиницы. В небольшом актерском фойе, уставленном старинной старомодной мебелью, я поджидал Сергея Аркадьевича Головина, любезно обещавшего оставить мне билет на сегодняшнее представление «Ревизора».
Да, сегодня буду смотреть «Ревизора» в Малом театре. Который уже раз он идет сегодня, вероятно и счет потерян.
А со стен фойе, из полумрака, спокойно и сурово смотрят те, тени которых кажется, вот-вот сейчас мелькнут за поворотом коридора: Ермолова, Федотова, Южин и еще дальше великие тени, которых не разглядишь в этом сумраке.
Ничто не напоминает суетной тревожной жизни кулис перед началом спектакля. Все так размеренно, тихо, такие плотные, красного дерева двери в уборных, ковры заглушают неторопливые шаги, не раздается громкого голоса, легкомысленной шутки, только заглушенные шорохи, люди или тени скользят – не разберешь.
И так странно, что из окон фойе видны мигающие соблазнительные огни кинематографа, вечерним оживлением кипящая площадь, беспокойные трамваи и ревущие автомобили. Так странно после всех прихотливых скитаний, после всех бурных волнений, познавши всю пряную остроту быстротекущей нашей жизни и искусства, лихорадочно отражающего эту жизнь, так странно попасть в это тихое, будто заколдованное царство спящей царевны, где в очарованном сне сохранилось неизменным то, что было когда-то давно, давно, еще раньше детства твоего, о чем знал из рассказов бабушки.
Странно и сладко вернуться сюда. Пусть не надолго, пусть только на миг, долго ведь нельзя отдыхать, дремать в ласковом забытом и снова возникшем полусне. Но сегодня я позволил себе эту роскошь. Сегодня я смотрю «Ревизора» в Малом театре.
2.
Когда быстрой суетливой походкой он вышел из внутренних дверей, подтянутый мундиром, в ботфортах, когда он почти пробежал по сцене, легкий и ловкий, я шепнул моему спутнику: «Это не он».
«Я пригласил вас, господа…» Знакомый голос, знакомая добродушная лукавость в глазах и в складках рта. Конечно, это он, Владимир Николаевич Давыдов.
Какие чары, какое волшебство сохранили эту неувядающую бодрость, заразительную неутомленность каждого жеста, каждой интонации.
Конечно, в начале он мудро бережет свои силы, не дает себе разыграться, ведь впереди еще пять длинных актов и финальный монолог пятого действия.
Он, познавший все тайны актерского мастерства, скупо рассчитывает каждое движение, каждый звук голоса. И притом мы так хорошо знаем и «Ревизора», и его, Давыдова, что иногда достаточно одного намека, только легкого движения пальцев, искусно неожиданной интонации и мы все уже угадываем, все знаем до конца. Иногда намек выразительнее и полнее самой последней откровенности, и все его намеки изумительны и многозначительны. По самому свойству своего таланта Давыдов не может дать городничего в традиционно грубых чертах. Не может, да и не хочет. Его городничий не просто грубый бурбон, застывшая маска, он тоньше, лукавее, иногда неожиданно смешной и столь же неожиданно жуткий. Многими красками, кистью тонкой и изящной рисует Давыдов этот такой с детства знакомый портрет. Но вот чем дальше играет Давыдов, тем больше увлекается и увлекает зрителей. Все громче звучит голос, щедрее движения, будто уже не может рассчитывать, будто не может жалеть своих сил и не жалеет. Так мудрый полководец в начале битвы сдерживает свои полки и только к концу пускает грозную лавину, которая сметает все до конца и дает ему прекрасную победу. Так и Давыдов. Если в начале чувствовалась какая-то осторожность и скупость, то к концу он отдается весь потоку своего вдохновения. Как властен он над своим телом, над каждым звуком своего голоса. Как силен он, как прекрасен в отблесках горящего в нем, ни на минуту не потухающего пламени высокого искусства. Нет, это не тень с нежностью воспоминаемого прошлого, это образ живой, яркий и трепетный.
Почти невозможно верить неумолимым датам энциклопедического словаря – Владимир Николаевич Давыдов родился в 1849 году.
Одно из первых детских впечатлений – «Свадьба Кречинского» в Александринке. Играют Горев, Варламов и Давыдов. Конечно, многого не понял, совершенно не запомнил, многое показалось скучным. Но одного не забуду никогда, да этого и никто не забудет: Расплюева – Давыдова.
Не раз потом видел «Свадьбу Кречинского» и всегда переживал это острое колющее чувство жалости, нестерпимую боль за этого толстого смешного такого беспомощного и жалкого Расплюева. Как забыть это мгновение, когда, надвинув помятый цилиндр, с трусливой самоуверенностью пытается он сломить упрямство заграждающего ему дверь лакея, а потом, избитый униженный, плачет бессильными старческими слезами. Это пронзило душу, это запомнилось навсегда.
А потом длинная бесконечная встает вереница образов, всегда таких ярких, обжигающих душу то смехом, то страданием, всегда разнообразных и четких, и не только разнообразие грима всегда искусного, умело подобранной одежды, но какая-то бесконечная многогранность души, всегда готовой трепетно впитывать все новые и новые чувства.
Давыдов – комик. Он владеет прекрасной тайной – смеяться и заставлять смеяться других. Но нет в его смехе полной безоблачности, как не было ее во всей русской жизни. Смех и слезы, издевка и сострадание, все это так близко, все это так сплелось в русской душе. И все это так полно умел выразить Давыдов, исчерпать эту двойственность до конца. Смешное и жуткое, великое и жалкое, водевили с переодеванием и бессильные старческие слезы униженного и оскорбленного Расплюева.
И может быть ни один трагик с громовым голосом и широкими жестами не сумел бы так сильно «чувства добрые в них лирой пробуждать», как это умел толстый смешной, неуклюжий, в зашамканном фраке жалкий и трогательный Расплюев – Давыдов.
3.
Приемные экзамены в драматическое училище. На маленькую сценку выходят взволнованные молодые люди и девицы без конца, без конца.
«Басню… отрывок… довольно…»
За экзаменаторским столом на председательском месте «дед», так зовут его уже давно. Он устал, пожевывает губами, дремлет как толстовский Кутузов на военном совете в Филях. А быть может это только привычная лукавая маска, а на самом деле все видит, все слышит, все замечает.
Стоит только среди сотни этих штампованно-заученных голосов зазвучать какому-нибудь голосу робко, но по-иному, сейчас же приосанится, встряхнется, дремоты как не было. Два-три дополнительных вопроса, мелькнет улыбка на опустившихся брезгливо губах и все поймут сразу, что это не даром, что что-то случилось огромное, важное.
Ведь он-то умеет угадать и скольких уже угадал.
Так и на уроках. Сядет в кресло, дремлет, брюзжит, потом вдруг будто ярче загорелось электричество в темноватом репетиционном зале. Он уже сам на сцене, его движения гибки и молоды, он может в одну секунду то стать молоденькой белокурой Бертой, то пылким влюбленным, то старухой-нянькой. Ведь он все знает, все понимает, все умеет.
А потом опять в кресле, дремлет, глядит равнодушными глазами, ведь он уже столько видел, столько познал, чем его можно удивить, поразить, взволновать?
4.
В огромном неуютном Панаевском театре «Утро воспоминаний о Вере Федоровне Комиссаржевской в годовщину ее смерти».
Много слов, нежных, трогательных, искренних.
Говорит и он. С трудом поднимается со своего места. Не помню содержания его речи. Да и кто запомнит речь отца над могилой дочери, разве важны тут слова, разве словами можно выразить то, что выражают согнувшая спина, медленно текущие по щекам слезы, хрипота рыданий в голосе. Он вспоминал свою ученицу, он плакал над могилой дочери, великой дочери. Он стоял перед переполненной затихшей залой и все чувствовали без слов его боль, его тяжесть, которая придавила его, сделала его в ту минуту таким сгорбленным, маленьким. Сколько через его руки прошло учеников и учениц, многие своей славой прибавили новые лавровые ветки к его гигантскому венку. Многих ему пришлось пережить. Это было тяжело, но так мудр приговор судьбы. Ведь он так многим нужен, одним для того, чтобы научиться у него, перенять хоть тысячную частицу той прекрасной тайны, которою он владеет, а остальным нам всем он нужен потому, что глядя на него мы можем узнать и отдых, и очищающий трепет искусства.
5.
Крещенский сочельник у Николая Васильевича Дризена, на квартире которого собирались каждую среду все петербургские театральные сливки.
Сегодня вместо серьезного доклада или чтения новой пьесы вечер традиционных шуток, домашних маскарадов, импровизаций. Степенный хозяин в белом фартуке и поварском колпаке разносит сладкий крещенский пирог. Не обошлось без маленького плутовства со стороны распорядителей, чтоб кусок пирога с крещенским бобом достался никому иному, как Владимиру Николаевичу. Да и кому же быть королем боба, повелителем сегодняшнего вечера. При общих веселых рукоплесканиях венчают его седины разноцветной бумажной короной и облекают в мантию сделанную из какой-то затейливой шелковой занавески. И вот весь вечер он сидит на своем шуточном троне с важностью подлинного повелителя, как неистощимы его выдумки, как детски заразителен его смех как глаза смотрят ласково и лукаво.
В конце вечера все подданные на коленях умоляют его спеть.
Он противится, но наконец соглашается. Он стоит у рояля в яркой мантии, в бумажной короне, он поет слегка дребезжащим голосом такие знакомые песенки и романсы. И уже не хочется смеяться, какая-то теплая грусть наполняет душу, когда глядишь на это знакомое с детства лицо, такое дорогое и близкое, и слышишь голос тоже такой знакомый, проникающий до самого сердца.
Об авторе
Сергей Абрамович Ауслендер (1886 - 1937) — русский писатель, драматург, театральный и литературный критик.
Сергей Ауслендер
1.
Меня провели по широкому, светлому, застланному мягким ковром коридору, напоминающему коридор какой-нибудь старинной спокойной и приличной гостиницы. В небольшом актерском фойе, уставленном старинной старомодной мебелью, я поджидал Сергея Аркадьевича Головина, любезно обещавшего оставить мне билет на сегодняшнее представление «Ревизора».
Да, сегодня буду смотреть «Ревизора» в Малом театре. Который уже раз он идет сегодня, вероятно и счет потерян.
А со стен фойе, из полумрака, спокойно и сурово смотрят те, тени которых кажется, вот-вот сейчас мелькнут за поворотом коридора: Ермолова, Федотова, Южин и еще дальше великие тени, которых не разглядишь в этом сумраке.
Ничто не напоминает суетной тревожной жизни кулис перед началом спектакля. Все так размеренно, тихо, такие плотные, красного дерева двери в уборных, ковры заглушают неторопливые шаги, не раздается громкого голоса, легкомысленной шутки, только заглушенные шорохи, люди или тени скользят – не разберешь.
И так странно, что из окон фойе видны мигающие соблазнительные огни кинематографа, вечерним оживлением кипящая площадь, беспокойные трамваи и ревущие автомобили. Так странно после всех прихотливых скитаний, после всех бурных волнений, познавши всю пряную остроту быстротекущей нашей жизни и искусства, лихорадочно отражающего эту жизнь, так странно попасть в это тихое, будто заколдованное царство спящей царевны, где в очарованном сне сохранилось неизменным то, что было когда-то давно, давно, еще раньше детства твоего, о чем знал из рассказов бабушки.
Странно и сладко вернуться сюда. Пусть не надолго, пусть только на миг, долго ведь нельзя отдыхать, дремать в ласковом забытом и снова возникшем полусне. Но сегодня я позволил себе эту роскошь. Сегодня я смотрю «Ревизора» в Малом театре.
2.
Когда быстрой суетливой походкой он вышел из внутренних дверей, подтянутый мундиром, в ботфортах, когда он почти пробежал по сцене, легкий и ловкий, я шепнул моему спутнику: «Это не он».
«Я пригласил вас, господа…» Знакомый голос, знакомая добродушная лукавость в глазах и в складках рта. Конечно, это он, Владимир Николаевич Давыдов.
Какие чары, какое волшебство сохранили эту неувядающую бодрость, заразительную неутомленность каждого жеста, каждой интонации.
Конечно, в начале он мудро бережет свои силы, не дает себе разыграться, ведь впереди еще пять длинных актов и финальный монолог пятого действия.
Он, познавший все тайны актерского мастерства, скупо рассчитывает каждое движение, каждый звук голоса. И притом мы так хорошо знаем и «Ревизора», и его, Давыдова, что иногда достаточно одного намека, только легкого движения пальцев, искусно неожиданной интонации и мы все уже угадываем, все знаем до конца. Иногда намек выразительнее и полнее самой последней откровенности, и все его намеки изумительны и многозначительны. По самому свойству своего таланта Давыдов не может дать городничего в традиционно грубых чертах. Не может, да и не хочет. Его городничий не просто грубый бурбон, застывшая маска, он тоньше, лукавее, иногда неожиданно смешной и столь же неожиданно жуткий. Многими красками, кистью тонкой и изящной рисует Давыдов этот такой с детства знакомый портрет. Но вот чем дальше играет Давыдов, тем больше увлекается и увлекает зрителей. Все громче звучит голос, щедрее движения, будто уже не может рассчитывать, будто не может жалеть своих сил и не жалеет. Так мудрый полководец в начале битвы сдерживает свои полки и только к концу пускает грозную лавину, которая сметает все до конца и дает ему прекрасную победу. Так и Давыдов. Если в начале чувствовалась какая-то осторожность и скупость, то к концу он отдается весь потоку своего вдохновения. Как властен он над своим телом, над каждым звуком своего голоса. Как силен он, как прекрасен в отблесках горящего в нем, ни на минуту не потухающего пламени высокого искусства. Нет, это не тень с нежностью воспоминаемого прошлого, это образ живой, яркий и трепетный.
Почти невозможно верить неумолимым датам энциклопедического словаря – Владимир Николаевич Давыдов родился в 1849 году.
Одно из первых детских впечатлений – «Свадьба Кречинского» в Александринке. Играют Горев, Варламов и Давыдов. Конечно, многого не понял, совершенно не запомнил, многое показалось скучным. Но одного не забуду никогда, да этого и никто не забудет: Расплюева – Давыдова.
Не раз потом видел «Свадьбу Кречинского» и всегда переживал это острое колющее чувство жалости, нестерпимую боль за этого толстого смешного такого беспомощного и жалкого Расплюева. Как забыть это мгновение, когда, надвинув помятый цилиндр, с трусливой самоуверенностью пытается он сломить упрямство заграждающего ему дверь лакея, а потом, избитый униженный, плачет бессильными старческими слезами. Это пронзило душу, это запомнилось навсегда.
А потом длинная бесконечная встает вереница образов, всегда таких ярких, обжигающих душу то смехом, то страданием, всегда разнообразных и четких, и не только разнообразие грима всегда искусного, умело подобранной одежды, но какая-то бесконечная многогранность души, всегда готовой трепетно впитывать все новые и новые чувства.
Давыдов – комик. Он владеет прекрасной тайной – смеяться и заставлять смеяться других. Но нет в его смехе полной безоблачности, как не было ее во всей русской жизни. Смех и слезы, издевка и сострадание, все это так близко, все это так сплелось в русской душе. И все это так полно умел выразить Давыдов, исчерпать эту двойственность до конца. Смешное и жуткое, великое и жалкое, водевили с переодеванием и бессильные старческие слезы униженного и оскорбленного Расплюева.
И может быть ни один трагик с громовым голосом и широкими жестами не сумел бы так сильно «чувства добрые в них лирой пробуждать», как это умел толстый смешной, неуклюжий, в зашамканном фраке жалкий и трогательный Расплюев – Давыдов.
3.
Приемные экзамены в драматическое училище. На маленькую сценку выходят взволнованные молодые люди и девицы без конца, без конца.
«Басню… отрывок… довольно…»
За экзаменаторским столом на председательском месте «дед», так зовут его уже давно. Он устал, пожевывает губами, дремлет как толстовский Кутузов на военном совете в Филях. А быть может это только привычная лукавая маска, а на самом деле все видит, все слышит, все замечает.
Стоит только среди сотни этих штампованно-заученных голосов зазвучать какому-нибудь голосу робко, но по-иному, сейчас же приосанится, встряхнется, дремоты как не было. Два-три дополнительных вопроса, мелькнет улыбка на опустившихся брезгливо губах и все поймут сразу, что это не даром, что что-то случилось огромное, важное.
Ведь он-то умеет угадать и скольких уже угадал.
Так и на уроках. Сядет в кресло, дремлет, брюзжит, потом вдруг будто ярче загорелось электричество в темноватом репетиционном зале. Он уже сам на сцене, его движения гибки и молоды, он может в одну секунду то стать молоденькой белокурой Бертой, то пылким влюбленным, то старухой-нянькой. Ведь он все знает, все понимает, все умеет.
А потом опять в кресле, дремлет, глядит равнодушными глазами, ведь он уже столько видел, столько познал, чем его можно удивить, поразить, взволновать?
4.
В огромном неуютном Панаевском театре «Утро воспоминаний о Вере Федоровне Комиссаржевской в годовщину ее смерти».
Много слов, нежных, трогательных, искренних.
Говорит и он. С трудом поднимается со своего места. Не помню содержания его речи. Да и кто запомнит речь отца над могилой дочери, разве важны тут слова, разве словами можно выразить то, что выражают согнувшая спина, медленно текущие по щекам слезы, хрипота рыданий в голосе. Он вспоминал свою ученицу, он плакал над могилой дочери, великой дочери. Он стоял перед переполненной затихшей залой и все чувствовали без слов его боль, его тяжесть, которая придавила его, сделала его в ту минуту таким сгорбленным, маленьким. Сколько через его руки прошло учеников и учениц, многие своей славой прибавили новые лавровые ветки к его гигантскому венку. Многих ему пришлось пережить. Это было тяжело, но так мудр приговор судьбы. Ведь он так многим нужен, одним для того, чтобы научиться у него, перенять хоть тысячную частицу той прекрасной тайны, которою он владеет, а остальным нам всем он нужен потому, что глядя на него мы можем узнать и отдых, и очищающий трепет искусства.
5.
Крещенский сочельник у Николая Васильевича Дризена, на квартире которого собирались каждую среду все петербургские театральные сливки.
Сегодня вместо серьезного доклада или чтения новой пьесы вечер традиционных шуток, домашних маскарадов, импровизаций. Степенный хозяин в белом фартуке и поварском колпаке разносит сладкий крещенский пирог. Не обошлось без маленького плутовства со стороны распорядителей, чтоб кусок пирога с крещенским бобом достался никому иному, как Владимиру Николаевичу. Да и кому же быть королем боба, повелителем сегодняшнего вечера. При общих веселых рукоплесканиях венчают его седины разноцветной бумажной короной и облекают в мантию сделанную из какой-то затейливой шелковой занавески. И вот весь вечер он сидит на своем шуточном троне с важностью подлинного повелителя, как неистощимы его выдумки, как детски заразителен его смех как глаза смотрят ласково и лукаво.
В конце вечера все подданные на коленях умоляют его спеть.
Он противится, но наконец соглашается. Он стоит у рояля в яркой мантии, в бумажной короне, он поет слегка дребезжащим голосом такие знакомые песенки и романсы. И уже не хочется смеяться, какая-то теплая грусть наполняет душу, когда глядишь на это знакомое с детства лицо, такое дорогое и близкое, и слышишь голос тоже такой знакомый, проникающий до самого сердца.
Об авторе
Сергей Абрамович Ауслендер (1886 - 1937) — русский писатель, драматург, театральный и литературный критик.
Дата публикации: 19.01.2014

МОИ ПОРТРЕТЫ. ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДАВЫДОВ
Сергей Ауслендер
1.
Меня провели по широкому, светлому, застланному мягким ковром коридору, напоминающему коридор какой-нибудь старинной спокойной и приличной гостиницы. В небольшом актерском фойе, уставленном старинной старомодной мебелью, я поджидал Сергея Аркадьевича Головина, любезно обещавшего оставить мне билет на сегодняшнее представление «Ревизора».
Да, сегодня буду смотреть «Ревизора» в Малом театре. Который уже раз он идет сегодня, вероятно и счет потерян.
А со стен фойе, из полумрака, спокойно и сурово смотрят те, тени которых кажется, вот-вот сейчас мелькнут за поворотом коридора: Ермолова, Федотова, Южин и еще дальше великие тени, которых не разглядишь в этом сумраке.
Ничто не напоминает суетной тревожной жизни кулис перед началом спектакля. Все так размеренно, тихо, такие плотные, красного дерева двери в уборных, ковры заглушают неторопливые шаги, не раздается громкого голоса, легкомысленной шутки, только заглушенные шорохи, люди или тени скользят – не разберешь.
И так странно, что из окон фойе видны мигающие соблазнительные огни кинематографа, вечерним оживлением кипящая площадь, беспокойные трамваи и ревущие автомобили. Так странно после всех прихотливых скитаний, после всех бурных волнений, познавши всю пряную остроту быстротекущей нашей жизни и искусства, лихорадочно отражающего эту жизнь, так странно попасть в это тихое, будто заколдованное царство спящей царевны, где в очарованном сне сохранилось неизменным то, что было когда-то давно, давно, еще раньше детства твоего, о чем знал из рассказов бабушки.
Странно и сладко вернуться сюда. Пусть не надолго, пусть только на миг, долго ведь нельзя отдыхать, дремать в ласковом забытом и снова возникшем полусне. Но сегодня я позволил себе эту роскошь. Сегодня я смотрю «Ревизора» в Малом театре.
2.
Когда быстрой суетливой походкой он вышел из внутренних дверей, подтянутый мундиром, в ботфортах, когда он почти пробежал по сцене, легкий и ловкий, я шепнул моему спутнику: «Это не он».
«Я пригласил вас, господа…» Знакомый голос, знакомая добродушная лукавость в глазах и в складках рта. Конечно, это он, Владимир Николаевич Давыдов.
Какие чары, какое волшебство сохранили эту неувядающую бодрость, заразительную неутомленность каждого жеста, каждой интонации.
Конечно, в начале он мудро бережет свои силы, не дает себе разыграться, ведь впереди еще пять длинных актов и финальный монолог пятого действия.
Он, познавший все тайны актерского мастерства, скупо рассчитывает каждое движение, каждый звук голоса. И притом мы так хорошо знаем и «Ревизора», и его, Давыдова, что иногда достаточно одного намека, только легкого движения пальцев, искусно неожиданной интонации и мы все уже угадываем, все знаем до конца. Иногда намек выразительнее и полнее самой последней откровенности, и все его намеки изумительны и многозначительны. По самому свойству своего таланта Давыдов не может дать городничего в традиционно грубых чертах. Не может, да и не хочет. Его городничий не просто грубый бурбон, застывшая маска, он тоньше, лукавее, иногда неожиданно смешной и столь же неожиданно жуткий. Многими красками, кистью тонкой и изящной рисует Давыдов этот такой с детства знакомый портрет. Но вот чем дальше играет Давыдов, тем больше увлекается и увлекает зрителей. Все громче звучит голос, щедрее движения, будто уже не может рассчитывать, будто не может жалеть своих сил и не жалеет. Так мудрый полководец в начале битвы сдерживает свои полки и только к концу пускает грозную лавину, которая сметает все до конца и дает ему прекрасную победу. Так и Давыдов. Если в начале чувствовалась какая-то осторожность и скупость, то к концу он отдается весь потоку своего вдохновения. Как властен он над своим телом, над каждым звуком своего голоса. Как силен он, как прекрасен в отблесках горящего в нем, ни на минуту не потухающего пламени высокого искусства. Нет, это не тень с нежностью воспоминаемого прошлого, это образ живой, яркий и трепетный.
Почти невозможно верить неумолимым датам энциклопедического словаря – Владимир Николаевич Давыдов родился в 1849 году.
Одно из первых детских впечатлений – «Свадьба Кречинского» в Александринке. Играют Горев, Варламов и Давыдов. Конечно, многого не понял, совершенно не запомнил, многое показалось скучным. Но одного не забуду никогда, да этого и никто не забудет: Расплюева – Давыдова.
Не раз потом видел «Свадьбу Кречинского» и всегда переживал это острое колющее чувство жалости, нестерпимую боль за этого толстого смешного такого беспомощного и жалкого Расплюева. Как забыть это мгновение, когда, надвинув помятый цилиндр, с трусливой самоуверенностью пытается он сломить упрямство заграждающего ему дверь лакея, а потом, избитый униженный, плачет бессильными старческими слезами. Это пронзило душу, это запомнилось навсегда.
А потом длинная бесконечная встает вереница образов, всегда таких ярких, обжигающих душу то смехом, то страданием, всегда разнообразных и четких, и не только разнообразие грима всегда искусного, умело подобранной одежды, но какая-то бесконечная многогранность души, всегда готовой трепетно впитывать все новые и новые чувства.
Давыдов – комик. Он владеет прекрасной тайной – смеяться и заставлять смеяться других. Но нет в его смехе полной безоблачности, как не было ее во всей русской жизни. Смех и слезы, издевка и сострадание, все это так близко, все это так сплелось в русской душе. И все это так полно умел выразить Давыдов, исчерпать эту двойственность до конца. Смешное и жуткое, великое и жалкое, водевили с переодеванием и бессильные старческие слезы униженного и оскорбленного Расплюева.
И может быть ни один трагик с громовым голосом и широкими жестами не сумел бы так сильно «чувства добрые в них лирой пробуждать», как это умел толстый смешной, неуклюжий, в зашамканном фраке жалкий и трогательный Расплюев – Давыдов.
3.
Приемные экзамены в драматическое училище. На маленькую сценку выходят взволнованные молодые люди и девицы без конца, без конца.
«Басню… отрывок… довольно…»
За экзаменаторским столом на председательском месте «дед», так зовут его уже давно. Он устал, пожевывает губами, дремлет как толстовский Кутузов на военном совете в Филях. А быть может это только привычная лукавая маска, а на самом деле все видит, все слышит, все замечает.
Стоит только среди сотни этих штампованно-заученных голосов зазвучать какому-нибудь голосу робко, но по-иному, сейчас же приосанится, встряхнется, дремоты как не было. Два-три дополнительных вопроса, мелькнет улыбка на опустившихся брезгливо губах и все поймут сразу, что это не даром, что что-то случилось огромное, важное.
Ведь он-то умеет угадать и скольких уже угадал.
Так и на уроках. Сядет в кресло, дремлет, брюзжит, потом вдруг будто ярче загорелось электричество в темноватом репетиционном зале. Он уже сам на сцене, его движения гибки и молоды, он может в одну секунду то стать молоденькой белокурой Бертой, то пылким влюбленным, то старухой-нянькой. Ведь он все знает, все понимает, все умеет.
А потом опять в кресле, дремлет, глядит равнодушными глазами, ведь он уже столько видел, столько познал, чем его можно удивить, поразить, взволновать?
4.
В огромном неуютном Панаевском театре «Утро воспоминаний о Вере Федоровне Комиссаржевской в годовщину ее смерти».
Много слов, нежных, трогательных, искренних.
Говорит и он. С трудом поднимается со своего места. Не помню содержания его речи. Да и кто запомнит речь отца над могилой дочери, разве важны тут слова, разве словами можно выразить то, что выражают согнувшая спина, медленно текущие по щекам слезы, хрипота рыданий в голосе. Он вспоминал свою ученицу, он плакал над могилой дочери, великой дочери. Он стоял перед переполненной затихшей залой и все чувствовали без слов его боль, его тяжесть, которая придавила его, сделала его в ту минуту таким сгорбленным, маленьким. Сколько через его руки прошло учеников и учениц, многие своей славой прибавили новые лавровые ветки к его гигантскому венку. Многих ему пришлось пережить. Это было тяжело, но так мудр приговор судьбы. Ведь он так многим нужен, одним для того, чтобы научиться у него, перенять хоть тысячную частицу той прекрасной тайны, которою он владеет, а остальным нам всем он нужен потому, что глядя на него мы можем узнать и отдых, и очищающий трепет искусства.
5.
Крещенский сочельник у Николая Васильевича Дризена, на квартире которого собирались каждую среду все петербургские театральные сливки.
Сегодня вместо серьезного доклада или чтения новой пьесы вечер традиционных шуток, домашних маскарадов, импровизаций. Степенный хозяин в белом фартуке и поварском колпаке разносит сладкий крещенский пирог. Не обошлось без маленького плутовства со стороны распорядителей, чтоб кусок пирога с крещенским бобом достался никому иному, как Владимиру Николаевичу. Да и кому же быть королем боба, повелителем сегодняшнего вечера. При общих веселых рукоплесканиях венчают его седины разноцветной бумажной короной и облекают в мантию сделанную из какой-то затейливой шелковой занавески. И вот весь вечер он сидит на своем шуточном троне с важностью подлинного повелителя, как неистощимы его выдумки, как детски заразителен его смех как глаза смотрят ласково и лукаво.
В конце вечера все подданные на коленях умоляют его спеть.
Он противится, но наконец соглашается. Он стоит у рояля в яркой мантии, в бумажной короне, он поет слегка дребезжащим голосом такие знакомые песенки и романсы. И уже не хочется смеяться, какая-то теплая грусть наполняет душу, когда глядишь на это знакомое с детства лицо, такое дорогое и близкое, и слышишь голос тоже такой знакомый, проникающий до самого сердца.
Об авторе
Сергей Абрамович Ауслендер (1886 - 1937) — русский писатель, драматург, театральный и литературный критик.
Сергей Ауслендер
1.
Меня провели по широкому, светлому, застланному мягким ковром коридору, напоминающему коридор какой-нибудь старинной спокойной и приличной гостиницы. В небольшом актерском фойе, уставленном старинной старомодной мебелью, я поджидал Сергея Аркадьевича Головина, любезно обещавшего оставить мне билет на сегодняшнее представление «Ревизора».
Да, сегодня буду смотреть «Ревизора» в Малом театре. Который уже раз он идет сегодня, вероятно и счет потерян.
А со стен фойе, из полумрака, спокойно и сурово смотрят те, тени которых кажется, вот-вот сейчас мелькнут за поворотом коридора: Ермолова, Федотова, Южин и еще дальше великие тени, которых не разглядишь в этом сумраке.
Ничто не напоминает суетной тревожной жизни кулис перед началом спектакля. Все так размеренно, тихо, такие плотные, красного дерева двери в уборных, ковры заглушают неторопливые шаги, не раздается громкого голоса, легкомысленной шутки, только заглушенные шорохи, люди или тени скользят – не разберешь.
И так странно, что из окон фойе видны мигающие соблазнительные огни кинематографа, вечерним оживлением кипящая площадь, беспокойные трамваи и ревущие автомобили. Так странно после всех прихотливых скитаний, после всех бурных волнений, познавши всю пряную остроту быстротекущей нашей жизни и искусства, лихорадочно отражающего эту жизнь, так странно попасть в это тихое, будто заколдованное царство спящей царевны, где в очарованном сне сохранилось неизменным то, что было когда-то давно, давно, еще раньше детства твоего, о чем знал из рассказов бабушки.
Странно и сладко вернуться сюда. Пусть не надолго, пусть только на миг, долго ведь нельзя отдыхать, дремать в ласковом забытом и снова возникшем полусне. Но сегодня я позволил себе эту роскошь. Сегодня я смотрю «Ревизора» в Малом театре.
2.
Когда быстрой суетливой походкой он вышел из внутренних дверей, подтянутый мундиром, в ботфортах, когда он почти пробежал по сцене, легкий и ловкий, я шепнул моему спутнику: «Это не он».
«Я пригласил вас, господа…» Знакомый голос, знакомая добродушная лукавость в глазах и в складках рта. Конечно, это он, Владимир Николаевич Давыдов.
Какие чары, какое волшебство сохранили эту неувядающую бодрость, заразительную неутомленность каждого жеста, каждой интонации.
Конечно, в начале он мудро бережет свои силы, не дает себе разыграться, ведь впереди еще пять длинных актов и финальный монолог пятого действия.
Он, познавший все тайны актерского мастерства, скупо рассчитывает каждое движение, каждый звук голоса. И притом мы так хорошо знаем и «Ревизора», и его, Давыдова, что иногда достаточно одного намека, только легкого движения пальцев, искусно неожиданной интонации и мы все уже угадываем, все знаем до конца. Иногда намек выразительнее и полнее самой последней откровенности, и все его намеки изумительны и многозначительны. По самому свойству своего таланта Давыдов не может дать городничего в традиционно грубых чертах. Не может, да и не хочет. Его городничий не просто грубый бурбон, застывшая маска, он тоньше, лукавее, иногда неожиданно смешной и столь же неожиданно жуткий. Многими красками, кистью тонкой и изящной рисует Давыдов этот такой с детства знакомый портрет. Но вот чем дальше играет Давыдов, тем больше увлекается и увлекает зрителей. Все громче звучит голос, щедрее движения, будто уже не может рассчитывать, будто не может жалеть своих сил и не жалеет. Так мудрый полководец в начале битвы сдерживает свои полки и только к концу пускает грозную лавину, которая сметает все до конца и дает ему прекрасную победу. Так и Давыдов. Если в начале чувствовалась какая-то осторожность и скупость, то к концу он отдается весь потоку своего вдохновения. Как властен он над своим телом, над каждым звуком своего голоса. Как силен он, как прекрасен в отблесках горящего в нем, ни на минуту не потухающего пламени высокого искусства. Нет, это не тень с нежностью воспоминаемого прошлого, это образ живой, яркий и трепетный.
Почти невозможно верить неумолимым датам энциклопедического словаря – Владимир Николаевич Давыдов родился в 1849 году.
Одно из первых детских впечатлений – «Свадьба Кречинского» в Александринке. Играют Горев, Варламов и Давыдов. Конечно, многого не понял, совершенно не запомнил, многое показалось скучным. Но одного не забуду никогда, да этого и никто не забудет: Расплюева – Давыдова.
Не раз потом видел «Свадьбу Кречинского» и всегда переживал это острое колющее чувство жалости, нестерпимую боль за этого толстого смешного такого беспомощного и жалкого Расплюева. Как забыть это мгновение, когда, надвинув помятый цилиндр, с трусливой самоуверенностью пытается он сломить упрямство заграждающего ему дверь лакея, а потом, избитый униженный, плачет бессильными старческими слезами. Это пронзило душу, это запомнилось навсегда.
А потом длинная бесконечная встает вереница образов, всегда таких ярких, обжигающих душу то смехом, то страданием, всегда разнообразных и четких, и не только разнообразие грима всегда искусного, умело подобранной одежды, но какая-то бесконечная многогранность души, всегда готовой трепетно впитывать все новые и новые чувства.
Давыдов – комик. Он владеет прекрасной тайной – смеяться и заставлять смеяться других. Но нет в его смехе полной безоблачности, как не было ее во всей русской жизни. Смех и слезы, издевка и сострадание, все это так близко, все это так сплелось в русской душе. И все это так полно умел выразить Давыдов, исчерпать эту двойственность до конца. Смешное и жуткое, великое и жалкое, водевили с переодеванием и бессильные старческие слезы униженного и оскорбленного Расплюева.
И может быть ни один трагик с громовым голосом и широкими жестами не сумел бы так сильно «чувства добрые в них лирой пробуждать», как это умел толстый смешной, неуклюжий, в зашамканном фраке жалкий и трогательный Расплюев – Давыдов.
3.
Приемные экзамены в драматическое училище. На маленькую сценку выходят взволнованные молодые люди и девицы без конца, без конца.
«Басню… отрывок… довольно…»
За экзаменаторским столом на председательском месте «дед», так зовут его уже давно. Он устал, пожевывает губами, дремлет как толстовский Кутузов на военном совете в Филях. А быть может это только привычная лукавая маска, а на самом деле все видит, все слышит, все замечает.
Стоит только среди сотни этих штампованно-заученных голосов зазвучать какому-нибудь голосу робко, но по-иному, сейчас же приосанится, встряхнется, дремоты как не было. Два-три дополнительных вопроса, мелькнет улыбка на опустившихся брезгливо губах и все поймут сразу, что это не даром, что что-то случилось огромное, важное.
Ведь он-то умеет угадать и скольких уже угадал.
Так и на уроках. Сядет в кресло, дремлет, брюзжит, потом вдруг будто ярче загорелось электричество в темноватом репетиционном зале. Он уже сам на сцене, его движения гибки и молоды, он может в одну секунду то стать молоденькой белокурой Бертой, то пылким влюбленным, то старухой-нянькой. Ведь он все знает, все понимает, все умеет.
А потом опять в кресле, дремлет, глядит равнодушными глазами, ведь он уже столько видел, столько познал, чем его можно удивить, поразить, взволновать?
4.
В огромном неуютном Панаевском театре «Утро воспоминаний о Вере Федоровне Комиссаржевской в годовщину ее смерти».
Много слов, нежных, трогательных, искренних.
Говорит и он. С трудом поднимается со своего места. Не помню содержания его речи. Да и кто запомнит речь отца над могилой дочери, разве важны тут слова, разве словами можно выразить то, что выражают согнувшая спина, медленно текущие по щекам слезы, хрипота рыданий в голосе. Он вспоминал свою ученицу, он плакал над могилой дочери, великой дочери. Он стоял перед переполненной затихшей залой и все чувствовали без слов его боль, его тяжесть, которая придавила его, сделала его в ту минуту таким сгорбленным, маленьким. Сколько через его руки прошло учеников и учениц, многие своей славой прибавили новые лавровые ветки к его гигантскому венку. Многих ему пришлось пережить. Это было тяжело, но так мудр приговор судьбы. Ведь он так многим нужен, одним для того, чтобы научиться у него, перенять хоть тысячную частицу той прекрасной тайны, которою он владеет, а остальным нам всем он нужен потому, что глядя на него мы можем узнать и отдых, и очищающий трепет искусства.
5.
Крещенский сочельник у Николая Васильевича Дризена, на квартире которого собирались каждую среду все петербургские театральные сливки.
Сегодня вместо серьезного доклада или чтения новой пьесы вечер традиционных шуток, домашних маскарадов, импровизаций. Степенный хозяин в белом фартуке и поварском колпаке разносит сладкий крещенский пирог. Не обошлось без маленького плутовства со стороны распорядителей, чтоб кусок пирога с крещенским бобом достался никому иному, как Владимиру Николаевичу. Да и кому же быть королем боба, повелителем сегодняшнего вечера. При общих веселых рукоплесканиях венчают его седины разноцветной бумажной короной и облекают в мантию сделанную из какой-то затейливой шелковой занавески. И вот весь вечер он сидит на своем шуточном троне с важностью подлинного повелителя, как неистощимы его выдумки, как детски заразителен его смех как глаза смотрят ласково и лукаво.
В конце вечера все подданные на коленях умоляют его спеть.
Он противится, но наконец соглашается. Он стоит у рояля в яркой мантии, в бумажной короне, он поет слегка дребезжащим голосом такие знакомые песенки и романсы. И уже не хочется смеяться, какая-то теплая грусть наполняет душу, когда глядишь на это знакомое с детства лицо, такое дорогое и близкое, и слышишь голос тоже такой знакомый, проникающий до самого сердца.
Об авторе
Сергей Абрамович Ауслендер (1886 - 1937) — русский писатель, драматург, театральный и литературный критик.
Дата публикации: 19.01.2014