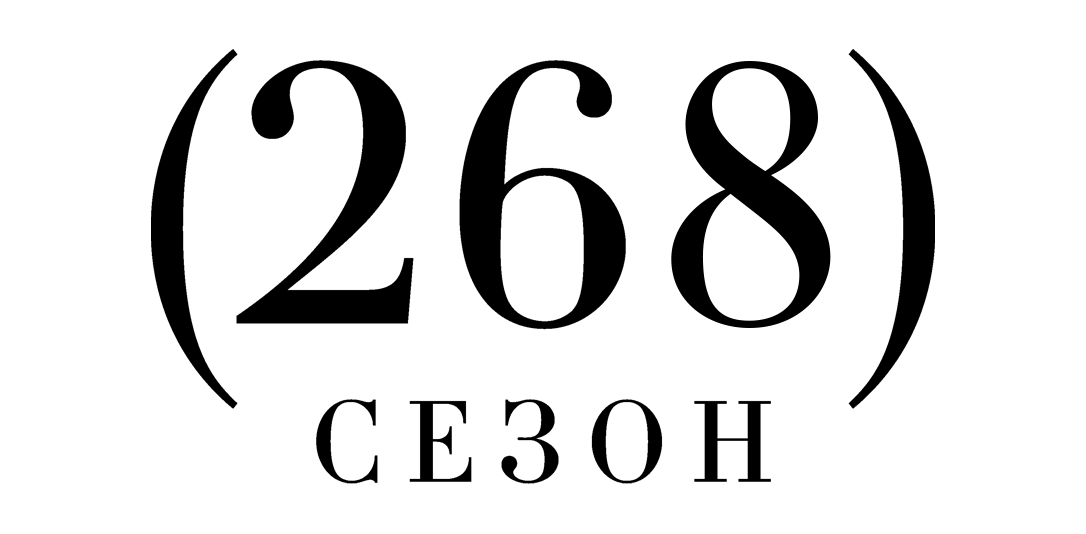Новости
ЛЮДМИЛА ПОЛЯКОВА: ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК ЯРОК МОЙ РОМАН СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ

ЛЮДМИЛА ПОЛЯКОВА: ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК ЯРОК МОЙ РОМАН СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ
ЛЮДМИЛА ПОЛЯКОВА: ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК ЯРОК МОЙ РОМАН СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ
Гастроли Малого театра на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова можно назвать одним из самых ярких событий в культурной жизни нашего города за последнее время. Бесспорно, самыми яркими были встречи саратовских зрителей с легендарной актрисой Людмилой Поляковой, примой Дома Островского. Людмила Петровна заражает своей удивительной энергией. Кажется, что в вихре обуревающих ее эмоций семерка и пятерка — «возрастные цифры» — ошибочно поменялись местами. Секрет молодости в том, что ребенок войны, актриса, которая работала с легендарными режиссерами, Людмила Полякова искренне благодарна жизни за подаренный ей роман с искусством. О детстве, кинотоварищах и Его Величестве Театре Людмила Полякова рассказала в интервью «Известиям» в Приволжье.
— Людмила Петровна, вы относитесь к поколению детей войны. Что в вашей памяти оставили те страшные годы?
— Расскажу вам интересную и символическую историю. Я родилась в 1939 году, и когда началась война, нас (маму, бабушку и меня) эвакуировали в Муром. В этом маленьком среднерусском городке в то время строили секретный (запасной) аэродром, и бабушка служила там. Мама работала в госпитале для выздоравливающих раненых. И я в три годика обитала там. «А где эта наша Милка-артистка? Позовите Милку-артистку!» — постоянно слышалось из какой-нибудь палаты. Надо сказать, память у меня была феноменальная (она и сейчас хорошая), и я шпарила раненым стихи. Мои карманы всегда топорщились от сахара и шоколада. Это был такой ШОКККОЛАД! Настоящий! Колотый! Куски!
И вот мистика. Спустя 33 года (вдумайтесь в цифру) я оказалась в этом же самом месте — Лариса Шепитько снимала в Муроме «Восхождение».
— Режиссер с мистическим мироощущением...
— Да! Я вообще не знаю истории про войну, снятой грандиознее «Восхождения». Если только «20 дней без войны» Алексея Германа. Как ни странно, фильм Шепитько показывают очень редко, а там ТАКАЯ тема! Как лично Я должен в этом выстоять. Как предает Рыбак... Как моя героиня Демчиха умоляет: «ПанОчки, пощадите! Ну ради детей пощадите!» И в последний момент берет себя в руки и погибает... Лариса Шепитько сказала мне тогда: «Что ты наделала? Мне теперь придется снимать крупный план каждого, как он уходит». А уходила Демчиха с полуулыбкой. Я позвонила маме и спросила, где мы жили в Муроме. Она ответила: в Дмитровской слободе.. И вот тут мне по-настоящему стало нехорошо. Через столько лет я вернулась сюда, в слободу детства, чтобы сказать свое слово о войне. Мы снимали над Окой, и я вспомнила рассказ матери. Зимой она носила за Оку вещи, чтобы выменять на них продукты. Возвращаясь домой, в гору, она обессилела и присела отдохнуть. Ее запорошило, и она стала засыпать. И, слава Богу, на нее наткнулись случайные прохожие! Поэтому за полуулыбкой Демчихи была моя история. Это мистика какая-то!
— После «Возвращения» вы хотели бы еще сняться в военном кино?
— Нет. В фильмах о войне я больше сознательно никогда не участвовала, потому что свое отношение исчерпывающе высказала в картине Ларисы Шепитько. Понимаете, сегодня Великая Отечественная обросла общими, трафаретными фразами. И мне не близки грандиозные фейерверки и пафос в День Победы. Считаю, что эту дату нужно отмечать очень тихо. Ведь как представить это количество жертв! 26 миллионов только официально признанных... Разве это повод для помпезных праздников?
— Людмила Петровна, Милка-артистка с детства знала, что станет актрисой?
— Нет, что вы. Я была девушкой, настолько не знающей, что ей нужно! И потом, я жила в центре Москвы: Трубная площадь, Цветной бульвар, Неглинная. Из наших мещанских домиков-клоповников (из-за уничтожения клопов по весне в районе стоял жуткий запах керосина) дорога была на рынок. Безнадега была полная. И во мне все время жило желание вырваться оттуда. Мечты были самые грандиозные. Я понимала, что в космос уже не полечу, но океанографом еще успею стать. Однажды среди прочего меня занесло в машинистки-стенографистки. Мы с коллегами ходили пить кофе в маленькое кафе напротив Щепкинского училища. Прозвище «Милка-артистка» меня не преследовало, но я знала много стихов. Когда наступали сумерки, я любила ходить по переулкам и читать. Фантазерка была, ужас! (Смеется.) И я увидела объявление, что идет набор в «Щепку», на вечернее отделение. Надела черное, прочитала Кедрина, а меня сразу и зацапали. Девушка-то я была оригинальная. Я же очень высокая, а в молодости была еще и жутко худая. Через месяц я поняла: это и есть мое место. Мечты опуститься на дно океана, уйти в геологическую партию, учить детей в глухой сибирской деревушке не сбылись. (Смеется.) И счастлива, что сложилось именно так, потому что все эти образы я примерила на сцене.
— Людмила Петровна, в вашей творческой судьбе в кино была Лариса Шепитько, в театре — Анатолий Васильев, Леонид Варпаховский, Юрий Соломин вернул вас в Малый театр. Кто из мастеров сыграл в вашей судьбе особую роль?
— Что касается театра, обязательно нужно сказать о грандиозной роли, которую сыграл в моей судьбе Леонид Варпаховский. Когда он пришел в театр Станиславского, где я тогда служила, он предложил мне единственную женскую роль в «Продавце дождя». Ему предлагали утвердить звезд, тогда в Станиславского блистали Ольга Бган, Майя Менглет. Но он был непреклонен. И когда начались прогоны, Варпаховский подошел ко мне (у него была потрясающая улыбка, из-за которой я звала его «последний джентльмен») и сказал: «Милочка, а наутро вы проснетесь знаменитой». И он не ошибся. «Продавца дождя» мы играли 13 лет, и первые 10 лет Москва буквально ломилась на спектакль. Это был переломный момент в моей актерской судьбе, и Леонид Викторович стал его автором.
— В то же время ваше имя в первую очередь ассоциируется с Анатолием Васильевым, олицетворением «поиска нового театра»...
— Встреча с Васильевым — совсем другая история. Она произошла в мои зрелые годы, мне было уже больше сорока.
Этот несчастный театр Станиславского! Каждые три года здесь меняется режиссер. Они не успокаиваются! Один и тот же сценарий: назначают главрежа, через три года эта группа назначивших, видя, что ей больше светит, начинает его свержение. И однажды они наткнулись на троицу. Во главе с Андреем Поповым в театр пришли Анатолий Васильев, Борис Морозов и Иосиф Райхельгауз. Какой это был взлет! Боря Морозов выпустил «Вассу», потом «Взрослую дочь молодого человека».
— Что в вас оставила работа над спектаклем «Васса»?
— Многие, не зная, могут подумать, что я играла заглавную роль. Вассу играла Елизавета Никищихина. У Морозова было такое видение: Васса — маленькая старушонка. Это очень интересная пьеса. Ту «Вассу Железнову», которую мы знаем, с Верой Пашенной в главной роли, Горький написал уже в 20-е годы. А Морозов поставил первую редакцию, 1911 года — время после поражения первой русской революции. В обществе был такой упадок сил! Народ ни во что не верил. Поэтому у нас была потрясающая афиша: дерево, с каждой ветки которого капает кровь, и ветка как хватающая лапа: «Мое». И выпущен спектакль был в конце 70-х. Оттепель вроде бы закончилась, началась стагнация. Хотелось свежего воздуха. Все потрясающе совпало. Москва просто стонала! Но в Станиславского опять началось изгнание. Начали с Райхельгауза, потому что он был самый непосредственный и позволял себе что угодно говорить. В этот момент его пригласил театр Венгрии. Его стали таскать парткомы и так далее. Он сказал: а почему я должен вам отчитываться, куда я собираюсь? Состряпали политическое дело, которое потом с трудом замяли.
— Пятая графа наверняка тоже фигурировала...
— Конечно. Через какое-то время отделили Борю Морозова, предложив ему театр Пушкина. Ну какой молодой парень откажется от своего театра? Попов всегда был как Бог Отец. Остался Васильев. И в это время в театр пришел Сандро Товстоногов. Надежды Васильева на свой театр не оправдались. И он ушел. Мы, группа из 12 артистов, все подали заявление об уходе. А уйти-то в никуда! Эту историю я подробно описываю в книге, которую планирую выпустить к юбилею.
— Ура! Вы все-таки решили опубликовать свои дневники!
— А вы знаете, что я пишу дневники?! Это ужас какая сложная работа! Есть тетради, в которых записи 1956 года, 61, 63, 68, 75-го, — можете себе представить? Хочу поднять эту историю. Ведь никто же не ответил на этот вопрос: почему мы все разбрелись? А она заслуживает этого.
— Сегодня вы следите за тем, что делают ученики Анатолия Васильева, к примеру, Игорь Яцко в «Школе драматического искусства»?
— К сожалению, у меня очень мало времени, и просто не получается. Я очень занята в театре, да и в кино надо успеть посниматься. Игорь очень милый. Вообще, если говорить о современных актерах... Еще Чехов говорил: «Гениев мало, но средний артист стал значительно выше». Я считаю, что сегодня много очень хороших актеров.
— Увы, даже очень хороших ругают. Про вашего кинопартнера Сергея Безрукова анекдот ходит, мол, создал видеоверсию «Жизни замечательных людей»...
— Я очарована Сережей. Он остался непосредственным мальчишкой. Безусловно, он знает себе цену. Но в работе он абсолютно открыт, от роли просто заводится! Настоящий артист! Общение с ним доставило такую радость! Он же «Реальную сказку» снял. Звонит, воодушевленно произносит: «Бабу Ягу!» Я ему: «Сереееежа!» В ответ: «Но это такааааая Баба Яга!» Как тут откажешь?
— Вот мы и подошли к современному кино. Вам есть с чем сравнивать. Вы работали с Ларисой Шепитько, в вашей творческой семье был Андрей Смирнов. Что, по-вашему, на сегодня кинематографом утрачено, а что, наоборот, приобретено?
— Спасибо, что упомянули Смирнова — это тоже этапный для меня человек. Первая картина, в которой я снималась, — фильм Андрея Смирнова. Лариса Шепитько в это время снимала «Родину электричества» по Андрею Платонову, а Смирнов делал «Батьку Ангела» Юрия Олеши. Так этот наш альманах лежал на полке четверть века. И я не знаю, почему! А сколько мытарств терпело «Восхождение»! Мне приходилось приезжать за пятьсот километров, чтобы переозвучивать какие-то фразы. «Жена партизана не могла бросаться в ноги фашистам с криками: «Паночки, пощадите!», — говорили нам. Цензура была «побочным эффектом», которого, к счастью, сейчас нет. Сейчас другая сложность — продюсеры диктуют деньгами, что снимать. Но режиссеров прекрасных много. Мне так жалко Алексея Балабанова, Михаила Калатозишвили! Ну почему они уходят в пятьдесят?! Есть имена. Вот недавно я снялась у Александра Котта (режиссер «Брестской крепости»), Володи Нахабцева, сына знаменитого оператора Владимира Нахабцева. Есть режиссеры, которые несут флаг надежды на хорошее будущее нашего кино.
— Людмила Петровна, вернемся к театру. Сегодня вы играете центральные роли в репертуаре Малого театра. Москва опять идет «на Полякову». А почему по окончании Щепкинского училища вы не сразу пришли в Малый, для которого «Щепка» и воспитывает актеров?
— Дело в том, что я была нестандартной комплекции. И мне было все ясно — на меня повесили ярлык «Пашенная». Они тогда еще были живы: Вера Пашенная, Елена Гоголева. А какие прекрасные в Малом были мужчины: Жаров, Бабочкин, Царев. Но в Доме Островского был принцип: до 40 лет тебе вряд ли дадут сыграть что-нибудь, кроме эпизода. А у нас, выпускников, была возможность выбирать. И я выбрала театр Станиславского.
— Малый называют театром консервативным, избегающим прогрессивных форм. Вам не хотелось в него привнести что-то свое?
— Дело в том, что все эти новаторства я не считаю современным прочтением. У Соломина есть потрясающая фраза: «Надо дорасти до автора». Почему вы думаете, что вы умнее Гоголя? Вы сначала поймите, что он хотел сказать. Я считаю себя современным человеком, я чувствую эту жизнь, слышу, что происходит, меня интересует происходящее. Поэтому, когда беру какой-то материал, я невольно со своей точки зрения его оцениваю. Пытаюсь понять, что сказал автор и мое отношение к этому. Без внешних проявлений: голый чиновник, подвешенный к потолку. В Малом театре есть 15 человек, это настоящие современные суперартисты. Люда Титова, Женя Глушенко, Вася Бочкарев — они говорят на одном языке, говорят глазами. И это самое главное, что сейчас происходит в Малом. Да, режиссер нужен, но очень важна ансамблевая игра. Считаю, что больше этого нигде не происходит. Принцип: два-три сериала, звезда, милости просим в театр. На него делают спектакль — это антрепризный принцип, к настоящему театру отношения не имеющий. В Малом сложился такой анекдот из жизни. Раньше премьеры выходили каждую неделю. Актеры садились в столовой обедать, спрашивали соседей: «Ты кто? Офелия? Ты в спектакле моя Дочка. Хорошо. А ты? Враг. Отсядь туда». Они раскладывали пьесу по эмоциям даже вне сцены. Установился ансамбль. И в традиционном прочтении единомышленников классика всегда будет актуальна.
— В связи с этим хочу сказать вам спасибо за «Горе от ума». Чацкий — восторженный мальчик, вернувшийся в свой дом, где был счастлив, хулиган Фамусов. Очень здорово ансамбль почувствовал то трепетное отношение, с которым режиссер Сергей Женовач подходит к классическому тексту.
— Для меня так этот спектакль очень современный. Когда моя Хлестова возмущается: «Час битый ехала с Покровки! Сил нет! Ночь! Светопреставленье!», — это когда Москва задыхается в пробках. В Малом театре ощущаю себя абсолютно счастливой. Моим вторым ангелом-хранителем считаю Соломина. Вы знаете, когда я поступала, это ведь он меня рассмотрел. Он был тогда...
— …«Адъютантом его превосходительства»...
— Нет. «Адъютант» был позже. Тогда он был прелестный юноша, и по возрасту не отличался от нас, был педагогом на курсе Виктора Ивановича Коршунова. И он меня как раз перетащил на дневное отделение. Ведь поступала на вечернее, чтобы днем работать и содержать себя. Первый курс я так перебивалась. На втором курсе уже получала стипендию Хмелева, по размеру она была такой же, как зарплата. И второй раз встреча с Соломиным произошла после моего ухода от Васильева. Я об этом подробно пишу в книге. Писала заявление, а Васильев сидел напротив и подсказывал, как правильно писать. Слава Богу, рука у меня не дрожала. И только на соседней улице подумала: «Что я наделала — маленький ребенок, больная мать на руках. Никакой заначки, ни работы». Но подвернулась съемочка — и в соседней гримерной Юрий Мефодьич. Страшно удивился, что я не у дел. «А в Малый теперь, а?» — подмигнул Соломин. И через два дня я была в Малом. Он резко поменял мою жизнь. Вернулась, как блудная дочь. Я так благодарила, что теперь у меня есть дом. Это было начало 90-х. В стране голод. А Малый есть Малый. И я выкормила семью. Была согласна на массовку, эпизодики, что угодно. Мне было уже 50 лет. Я испытывала просто сумасшедшую благодарность. И вдруг актриса, которая играла «Дядюшкин сон», в силу обстоятельств не смогла поехать на гастроли. А они были очень ответственные. Назарбаев пригласил нас, еще будучи секретарем Казахстана. Меня вызывает Виктор Иваныч и торжественно говорит: «Родной! Ты должна это сделать!» «Да вы что!» — отвечаю. — 75 страниц ЛИЧНОГО текста». (А времени шесть дней. Причем театр-то уже уехал). «Родной, — было в ответ. — Или сейчас, или так и будут одни эпизодики»... И у меня был всего один прогон... Кайф, который я испытала, нечеловеческий. Было сложно первый год, потому что текст еще держал, и я бесконечно вставляла: «Господи, Боже мой!». Такого плана насыщенной работы у меня давно не было. А здесь сознательный, взрослый азарт. Так Москалева в «Дядюшкином сне» устраивала свои дела — это же второй Хлестаков! И с этого пошло: «Недоросль», «Волки и овцы». Мурзавецкая — особая статья! Ведь есть традиции исполнения Малого театра. Старуха такая, строит всех: «Бу-бум, бу-бум». А здесь она так ласково: «Боже мой! Какое счастье — я вижу тебя! Что случилось? Что ты говоришь! Все устроим!» Она всех объемлет и делает свои дела. Затем шли уже законные роли, не вводы. Потом были «Правда — хорошо», «Дети солнца». От «Детей», честно признаюсь, собиралась отказаться. Ну, нянька — десять фраз: «Чаю хотите?», «Лиза, капельки принимала?». Говорю режиссеру спектакля Адольфу Шапиро: «Столько спектаклей, ну не хочу отвлекаться». Режиссер сказал: «Без вас выпускать не буду». И я поняла его. И своими несколькими фразами я тоже прочертила свою тропинку к солнцу. Ведь нянька пытается сохранить этот дом на песке. Ведь все продано, она всеми силами хочет спасти брошенный дом. Дети солнца — что же мы сделали со своей жизнью? И мне всегда важно даже не что говорят, а как говорят. Вот идут мать с ребенком. Она на него кричит, он в ответ. Я уже заранее знаю, что будет. Мы ведь все растеряли, все человеческие чувства. Что-то произошло с нами. Часто бываю за границей, я же вижу, как они обожествляют детей. Чтобы кто-то закричал? Там даже собаки не лают. НЕ ЛА-ЮТ. Что-то мы с собой сделали.
— Людмила Петровна, я видела, как трогательно вы разбираете с молодыми коллегами их роли в спектакле, — это качество педагога или стремление той няньки из «Детей солнца» собрать, обогреть?
— Я их люблю. Мне нечего с ними делить. Просто хочу моими впечатлениями поддержать: «Молодцы, ребята!». Потому что ну кто после нас останется? Мне приятно с ними на сцене. Я такое испытываю удовольствие, когда Дима Марин, мой племянник Аполлоша Мурзавецкий в «Волках и овцах», с этими наивными голубыми глазами самозабвенно говорит: «Ма тант, я — ни капли!». Так же с девочками. Я так рада, что в их годы им дают серьезные роли в Малом. Я считаю, что в этом и есть молодость Малого театра.
— Остается ли время на жизнь вне театра?
— Своему любимому Васе Бочкареву, который был моим первым мужем, когда он стал преподавать, я изумилась: «Вася, а когда ты жить собираешься?». Потому что, когда смотрю на мои книги, которые хотела бы перечитать, не говоря уже о новых, понимаю: ну нет времени. Волею судьбы сын женился на испанке, поэтому спустя какое-то время я продала дачу, которую безумно любила, и взяла ипотеку в Барселоне. У нас милая квартирка в центре города, и в каникулы люблю там бывать. Но там я тоже не сижу. Ездим в Навару, к баскам. Хочу в Португалию. В Испании столько провинций. Она такая разная. Люблю путешествия. Такова моя жизнь вне театра. А если отменили спектакль, люблю ничего не делать. Какие-то цветы пересажу, что-то переставлю, фильм пересмотрю. Очень люблю одиночество. Никакого стресса по этому поводу не испытываю! Я так долго за него боролась! Через браки, какие-то романы! В жизни так много интересного. Я влюблена в жизнь. Она так многолика. Люблю смотреть в окно. Вот почему у вас в Саратове так мало цветов? Люблю северные города. Они сохранили какой-то древний дух. Эта природа! Стоят церквушки ХIII века! И вот она как мазанка, вросшая в землю. Не снесли! И Одесса — совсем другое. Эти непонятные башни, и на их фоне маленький Дюк Ришелье. Как можно было? Архитектор о чем думал?
— Мне было лет десять, когда ваша мачеха в «Михайле Ломоносове» меня просто потрясла. Помню, как она кричала «ненавижу!», а за этим скрывалась такая страсть! А сегодня какие оттенки любви для вас были живительными, а какие губительными?
— Сначала немного о съемках — спасибо, что вы вспомнили этот фильм. Александр Прошкин обожал, как мы работаем. Волков — молодой Ломоносов — был тихий и скромный. С ним надо было играть любовь. Мы настолько это проживали! В картине порезали много красивых сцен. Кстати, по поводу этой сцены, когда я валяюсь и кричу «ненавижу!», Прошкин высказался: «Мила, сейчас все мартовские кошки учатся, как это надо делать». (Смеется.) Мы так смачно работали. Снимали на севере. Там было очень красиво!.. А оттенки любви? Я — дитя советского государства. С матерью жили в маленькой 6-метровой комнатке, рядом злобные родственники, недовольные нищетой. Отец прошел войну, но они уже не жили с мамой. Я его не помню, вернее, смутно: в ночи мужчина положил куклу на мою кровать. Мама, естественно, хотела устроить жизнь. И я, маленькая, конечно, была посвящена в эти дела. И, став девушкой, я панически этого избегала. Мне нужно было зажечь сердце, чтобы я захотела встречаться. Сегодняшние молодые не поверят, но я впервые поцеловалась в 20 лет, и мне не понравилось. Да, я влюблялась. С отцом своего сына я рассталась, потому что это был для меня «второй ребенок». Тем более он ревновал к сыну, который очень болел. Требовал, чтобы я ушла с работы. Пришлось расстаться, иначе мы просто убили бы друг друга. Я — Водолей и терплю до последнего. А потом рву навсегда: «Боливар не выдержит двоих». И я должна была поднять ребенка. А потом работа-работа. Сын вырос, и сейчас живу с блаженной, счастливой мыслью: «Ну вот. Я наконец-то принадлежу театру». Меня не волнует одиночество. Если бы вы знали, как ярок мой роман со зрительным залом!
— Я читала, что вы называете своей родиной Полярную звезду...
— Да, это мои фантазии. Я одна в своей конфессии (смеется). Люблю разговаривать с ней. Верю, что все не просто так в этой жизни. Я не могу себе представить рай. Если бы представила, то это был бы булгаковский затененный сад с бесконечными рядами книг. Какой еще рай должен быть? Верю, что наше существование на Земле не конечное. Полярная звезда — центр, это константа, которая находится на одном месте. Мы все вокруг нее. И на другом энергетическом уровне мы продолжимся. Суть моего пребывания на этой земле — накопить больше энергии, больше объема, чтобы уйти в космос насыщенной частицей.
Елена Маркелова, «Известия» (Саратов), 28.06.2013
Гастроли Малого театра на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова можно назвать одним из самых ярких событий в культурной жизни нашего города за последнее время. Бесспорно, самыми яркими были встречи саратовских зрителей с легендарной актрисой Людмилой Поляковой, примой Дома Островского. Людмила Петровна заражает своей удивительной энергией. Кажется, что в вихре обуревающих ее эмоций семерка и пятерка — «возрастные цифры» — ошибочно поменялись местами. Секрет молодости в том, что ребенок войны, актриса, которая работала с легендарными режиссерами, Людмила Полякова искренне благодарна жизни за подаренный ей роман с искусством. О детстве, кинотоварищах и Его Величестве Театре Людмила Полякова рассказала в интервью «Известиям» в Приволжье.
— Людмила Петровна, вы относитесь к поколению детей войны. Что в вашей памяти оставили те страшные годы?
— Расскажу вам интересную и символическую историю. Я родилась в 1939 году, и когда началась война, нас (маму, бабушку и меня) эвакуировали в Муром. В этом маленьком среднерусском городке в то время строили секретный (запасной) аэродром, и бабушка служила там. Мама работала в госпитале для выздоравливающих раненых. И я в три годика обитала там. «А где эта наша Милка-артистка? Позовите Милку-артистку!» — постоянно слышалось из какой-нибудь палаты. Надо сказать, память у меня была феноменальная (она и сейчас хорошая), и я шпарила раненым стихи. Мои карманы всегда топорщились от сахара и шоколада. Это был такой ШОКККОЛАД! Настоящий! Колотый! Куски!
И вот мистика. Спустя 33 года (вдумайтесь в цифру) я оказалась в этом же самом месте — Лариса Шепитько снимала в Муроме «Восхождение».
— Режиссер с мистическим мироощущением...
— Да! Я вообще не знаю истории про войну, снятой грандиознее «Восхождения». Если только «20 дней без войны» Алексея Германа. Как ни странно, фильм Шепитько показывают очень редко, а там ТАКАЯ тема! Как лично Я должен в этом выстоять. Как предает Рыбак... Как моя героиня Демчиха умоляет: «ПанОчки, пощадите! Ну ради детей пощадите!» И в последний момент берет себя в руки и погибает... Лариса Шепитько сказала мне тогда: «Что ты наделала? Мне теперь придется снимать крупный план каждого, как он уходит». А уходила Демчиха с полуулыбкой. Я позвонила маме и спросила, где мы жили в Муроме. Она ответила: в Дмитровской слободе.. И вот тут мне по-настоящему стало нехорошо. Через столько лет я вернулась сюда, в слободу детства, чтобы сказать свое слово о войне. Мы снимали над Окой, и я вспомнила рассказ матери. Зимой она носила за Оку вещи, чтобы выменять на них продукты. Возвращаясь домой, в гору, она обессилела и присела отдохнуть. Ее запорошило, и она стала засыпать. И, слава Богу, на нее наткнулись случайные прохожие! Поэтому за полуулыбкой Демчихи была моя история. Это мистика какая-то!
— После «Возвращения» вы хотели бы еще сняться в военном кино?
— Нет. В фильмах о войне я больше сознательно никогда не участвовала, потому что свое отношение исчерпывающе высказала в картине Ларисы Шепитько. Понимаете, сегодня Великая Отечественная обросла общими, трафаретными фразами. И мне не близки грандиозные фейерверки и пафос в День Победы. Считаю, что эту дату нужно отмечать очень тихо. Ведь как представить это количество жертв! 26 миллионов только официально признанных... Разве это повод для помпезных праздников?
— Людмила Петровна, Милка-артистка с детства знала, что станет актрисой?
— Нет, что вы. Я была девушкой, настолько не знающей, что ей нужно! И потом, я жила в центре Москвы: Трубная площадь, Цветной бульвар, Неглинная. Из наших мещанских домиков-клоповников (из-за уничтожения клопов по весне в районе стоял жуткий запах керосина) дорога была на рынок. Безнадега была полная. И во мне все время жило желание вырваться оттуда. Мечты были самые грандиозные. Я понимала, что в космос уже не полечу, но океанографом еще успею стать. Однажды среди прочего меня занесло в машинистки-стенографистки. Мы с коллегами ходили пить кофе в маленькое кафе напротив Щепкинского училища. Прозвище «Милка-артистка» меня не преследовало, но я знала много стихов. Когда наступали сумерки, я любила ходить по переулкам и читать. Фантазерка была, ужас! (Смеется.) И я увидела объявление, что идет набор в «Щепку», на вечернее отделение. Надела черное, прочитала Кедрина, а меня сразу и зацапали. Девушка-то я была оригинальная. Я же очень высокая, а в молодости была еще и жутко худая. Через месяц я поняла: это и есть мое место. Мечты опуститься на дно океана, уйти в геологическую партию, учить детей в глухой сибирской деревушке не сбылись. (Смеется.) И счастлива, что сложилось именно так, потому что все эти образы я примерила на сцене.
— Людмила Петровна, в вашей творческой судьбе в кино была Лариса Шепитько, в театре — Анатолий Васильев, Леонид Варпаховский, Юрий Соломин вернул вас в Малый театр. Кто из мастеров сыграл в вашей судьбе особую роль?
— Что касается театра, обязательно нужно сказать о грандиозной роли, которую сыграл в моей судьбе Леонид Варпаховский. Когда он пришел в театр Станиславского, где я тогда служила, он предложил мне единственную женскую роль в «Продавце дождя». Ему предлагали утвердить звезд, тогда в Станиславского блистали Ольга Бган, Майя Менглет. Но он был непреклонен. И когда начались прогоны, Варпаховский подошел ко мне (у него была потрясающая улыбка, из-за которой я звала его «последний джентльмен») и сказал: «Милочка, а наутро вы проснетесь знаменитой». И он не ошибся. «Продавца дождя» мы играли 13 лет, и первые 10 лет Москва буквально ломилась на спектакль. Это был переломный момент в моей актерской судьбе, и Леонид Викторович стал его автором.
— В то же время ваше имя в первую очередь ассоциируется с Анатолием Васильевым, олицетворением «поиска нового театра»...
— Встреча с Васильевым — совсем другая история. Она произошла в мои зрелые годы, мне было уже больше сорока.
Этот несчастный театр Станиславского! Каждые три года здесь меняется режиссер. Они не успокаиваются! Один и тот же сценарий: назначают главрежа, через три года эта группа назначивших, видя, что ей больше светит, начинает его свержение. И однажды они наткнулись на троицу. Во главе с Андреем Поповым в театр пришли Анатолий Васильев, Борис Морозов и Иосиф Райхельгауз. Какой это был взлет! Боря Морозов выпустил «Вассу», потом «Взрослую дочь молодого человека».
— Что в вас оставила работа над спектаклем «Васса»?
— Многие, не зная, могут подумать, что я играла заглавную роль. Вассу играла Елизавета Никищихина. У Морозова было такое видение: Васса — маленькая старушонка. Это очень интересная пьеса. Ту «Вассу Железнову», которую мы знаем, с Верой Пашенной в главной роли, Горький написал уже в 20-е годы. А Морозов поставил первую редакцию, 1911 года — время после поражения первой русской революции. В обществе был такой упадок сил! Народ ни во что не верил. Поэтому у нас была потрясающая афиша: дерево, с каждой ветки которого капает кровь, и ветка как хватающая лапа: «Мое». И выпущен спектакль был в конце 70-х. Оттепель вроде бы закончилась, началась стагнация. Хотелось свежего воздуха. Все потрясающе совпало. Москва просто стонала! Но в Станиславского опять началось изгнание. Начали с Райхельгауза, потому что он был самый непосредственный и позволял себе что угодно говорить. В этот момент его пригласил театр Венгрии. Его стали таскать парткомы и так далее. Он сказал: а почему я должен вам отчитываться, куда я собираюсь? Состряпали политическое дело, которое потом с трудом замяли.
— Пятая графа наверняка тоже фигурировала...
— Конечно. Через какое-то время отделили Борю Морозова, предложив ему театр Пушкина. Ну какой молодой парень откажется от своего театра? Попов всегда был как Бог Отец. Остался Васильев. И в это время в театр пришел Сандро Товстоногов. Надежды Васильева на свой театр не оправдались. И он ушел. Мы, группа из 12 артистов, все подали заявление об уходе. А уйти-то в никуда! Эту историю я подробно описываю в книге, которую планирую выпустить к юбилею.
— Ура! Вы все-таки решили опубликовать свои дневники!
— А вы знаете, что я пишу дневники?! Это ужас какая сложная работа! Есть тетради, в которых записи 1956 года, 61, 63, 68, 75-го, — можете себе представить? Хочу поднять эту историю. Ведь никто же не ответил на этот вопрос: почему мы все разбрелись? А она заслуживает этого.
— Сегодня вы следите за тем, что делают ученики Анатолия Васильева, к примеру, Игорь Яцко в «Школе драматического искусства»?
— К сожалению, у меня очень мало времени, и просто не получается. Я очень занята в театре, да и в кино надо успеть посниматься. Игорь очень милый. Вообще, если говорить о современных актерах... Еще Чехов говорил: «Гениев мало, но средний артист стал значительно выше». Я считаю, что сегодня много очень хороших актеров.
— Увы, даже очень хороших ругают. Про вашего кинопартнера Сергея Безрукова анекдот ходит, мол, создал видеоверсию «Жизни замечательных людей»...
— Я очарована Сережей. Он остался непосредственным мальчишкой. Безусловно, он знает себе цену. Но в работе он абсолютно открыт, от роли просто заводится! Настоящий артист! Общение с ним доставило такую радость! Он же «Реальную сказку» снял. Звонит, воодушевленно произносит: «Бабу Ягу!» Я ему: «Сереееежа!» В ответ: «Но это такааааая Баба Яга!» Как тут откажешь?
— Вот мы и подошли к современному кино. Вам есть с чем сравнивать. Вы работали с Ларисой Шепитько, в вашей творческой семье был Андрей Смирнов. Что, по-вашему, на сегодня кинематографом утрачено, а что, наоборот, приобретено?
— Спасибо, что упомянули Смирнова — это тоже этапный для меня человек. Первая картина, в которой я снималась, — фильм Андрея Смирнова. Лариса Шепитько в это время снимала «Родину электричества» по Андрею Платонову, а Смирнов делал «Батьку Ангела» Юрия Олеши. Так этот наш альманах лежал на полке четверть века. И я не знаю, почему! А сколько мытарств терпело «Восхождение»! Мне приходилось приезжать за пятьсот километров, чтобы переозвучивать какие-то фразы. «Жена партизана не могла бросаться в ноги фашистам с криками: «Паночки, пощадите!», — говорили нам. Цензура была «побочным эффектом», которого, к счастью, сейчас нет. Сейчас другая сложность — продюсеры диктуют деньгами, что снимать. Но режиссеров прекрасных много. Мне так жалко Алексея Балабанова, Михаила Калатозишвили! Ну почему они уходят в пятьдесят?! Есть имена. Вот недавно я снялась у Александра Котта (режиссер «Брестской крепости»), Володи Нахабцева, сына знаменитого оператора Владимира Нахабцева. Есть режиссеры, которые несут флаг надежды на хорошее будущее нашего кино.
— Людмила Петровна, вернемся к театру. Сегодня вы играете центральные роли в репертуаре Малого театра. Москва опять идет «на Полякову». А почему по окончании Щепкинского училища вы не сразу пришли в Малый, для которого «Щепка» и воспитывает актеров?
— Дело в том, что я была нестандартной комплекции. И мне было все ясно — на меня повесили ярлык «Пашенная». Они тогда еще были живы: Вера Пашенная, Елена Гоголева. А какие прекрасные в Малом были мужчины: Жаров, Бабочкин, Царев. Но в Доме Островского был принцип: до 40 лет тебе вряд ли дадут сыграть что-нибудь, кроме эпизода. А у нас, выпускников, была возможность выбирать. И я выбрала театр Станиславского.
— Малый называют театром консервативным, избегающим прогрессивных форм. Вам не хотелось в него привнести что-то свое?
— Дело в том, что все эти новаторства я не считаю современным прочтением. У Соломина есть потрясающая фраза: «Надо дорасти до автора». Почему вы думаете, что вы умнее Гоголя? Вы сначала поймите, что он хотел сказать. Я считаю себя современным человеком, я чувствую эту жизнь, слышу, что происходит, меня интересует происходящее. Поэтому, когда беру какой-то материал, я невольно со своей точки зрения его оцениваю. Пытаюсь понять, что сказал автор и мое отношение к этому. Без внешних проявлений: голый чиновник, подвешенный к потолку. В Малом театре есть 15 человек, это настоящие современные суперартисты. Люда Титова, Женя Глушенко, Вася Бочкарев — они говорят на одном языке, говорят глазами. И это самое главное, что сейчас происходит в Малом. Да, режиссер нужен, но очень важна ансамблевая игра. Считаю, что больше этого нигде не происходит. Принцип: два-три сериала, звезда, милости просим в театр. На него делают спектакль — это антрепризный принцип, к настоящему театру отношения не имеющий. В Малом сложился такой анекдот из жизни. Раньше премьеры выходили каждую неделю. Актеры садились в столовой обедать, спрашивали соседей: «Ты кто? Офелия? Ты в спектакле моя Дочка. Хорошо. А ты? Враг. Отсядь туда». Они раскладывали пьесу по эмоциям даже вне сцены. Установился ансамбль. И в традиционном прочтении единомышленников классика всегда будет актуальна.
— В связи с этим хочу сказать вам спасибо за «Горе от ума». Чацкий — восторженный мальчик, вернувшийся в свой дом, где был счастлив, хулиган Фамусов. Очень здорово ансамбль почувствовал то трепетное отношение, с которым режиссер Сергей Женовач подходит к классическому тексту.
— Для меня так этот спектакль очень современный. Когда моя Хлестова возмущается: «Час битый ехала с Покровки! Сил нет! Ночь! Светопреставленье!», — это когда Москва задыхается в пробках. В Малом театре ощущаю себя абсолютно счастливой. Моим вторым ангелом-хранителем считаю Соломина. Вы знаете, когда я поступала, это ведь он меня рассмотрел. Он был тогда...
— …«Адъютантом его превосходительства»...
— Нет. «Адъютант» был позже. Тогда он был прелестный юноша, и по возрасту не отличался от нас, был педагогом на курсе Виктора Ивановича Коршунова. И он меня как раз перетащил на дневное отделение. Ведь поступала на вечернее, чтобы днем работать и содержать себя. Первый курс я так перебивалась. На втором курсе уже получала стипендию Хмелева, по размеру она была такой же, как зарплата. И второй раз встреча с Соломиным произошла после моего ухода от Васильева. Я об этом подробно пишу в книге. Писала заявление, а Васильев сидел напротив и подсказывал, как правильно писать. Слава Богу, рука у меня не дрожала. И только на соседней улице подумала: «Что я наделала — маленький ребенок, больная мать на руках. Никакой заначки, ни работы». Но подвернулась съемочка — и в соседней гримерной Юрий Мефодьич. Страшно удивился, что я не у дел. «А в Малый теперь, а?» — подмигнул Соломин. И через два дня я была в Малом. Он резко поменял мою жизнь. Вернулась, как блудная дочь. Я так благодарила, что теперь у меня есть дом. Это было начало 90-х. В стране голод. А Малый есть Малый. И я выкормила семью. Была согласна на массовку, эпизодики, что угодно. Мне было уже 50 лет. Я испытывала просто сумасшедшую благодарность. И вдруг актриса, которая играла «Дядюшкин сон», в силу обстоятельств не смогла поехать на гастроли. А они были очень ответственные. Назарбаев пригласил нас, еще будучи секретарем Казахстана. Меня вызывает Виктор Иваныч и торжественно говорит: «Родной! Ты должна это сделать!» «Да вы что!» — отвечаю. — 75 страниц ЛИЧНОГО текста». (А времени шесть дней. Причем театр-то уже уехал). «Родной, — было в ответ. — Или сейчас, или так и будут одни эпизодики»... И у меня был всего один прогон... Кайф, который я испытала, нечеловеческий. Было сложно первый год, потому что текст еще держал, и я бесконечно вставляла: «Господи, Боже мой!». Такого плана насыщенной работы у меня давно не было. А здесь сознательный, взрослый азарт. Так Москалева в «Дядюшкином сне» устраивала свои дела — это же второй Хлестаков! И с этого пошло: «Недоросль», «Волки и овцы». Мурзавецкая — особая статья! Ведь есть традиции исполнения Малого театра. Старуха такая, строит всех: «Бу-бум, бу-бум». А здесь она так ласково: «Боже мой! Какое счастье — я вижу тебя! Что случилось? Что ты говоришь! Все устроим!» Она всех объемлет и делает свои дела. Затем шли уже законные роли, не вводы. Потом были «Правда — хорошо», «Дети солнца». От «Детей», честно признаюсь, собиралась отказаться. Ну, нянька — десять фраз: «Чаю хотите?», «Лиза, капельки принимала?». Говорю режиссеру спектакля Адольфу Шапиро: «Столько спектаклей, ну не хочу отвлекаться». Режиссер сказал: «Без вас выпускать не буду». И я поняла его. И своими несколькими фразами я тоже прочертила свою тропинку к солнцу. Ведь нянька пытается сохранить этот дом на песке. Ведь все продано, она всеми силами хочет спасти брошенный дом. Дети солнца — что же мы сделали со своей жизнью? И мне всегда важно даже не что говорят, а как говорят. Вот идут мать с ребенком. Она на него кричит, он в ответ. Я уже заранее знаю, что будет. Мы ведь все растеряли, все человеческие чувства. Что-то произошло с нами. Часто бываю за границей, я же вижу, как они обожествляют детей. Чтобы кто-то закричал? Там даже собаки не лают. НЕ ЛА-ЮТ. Что-то мы с собой сделали.
— Людмила Петровна, я видела, как трогательно вы разбираете с молодыми коллегами их роли в спектакле, — это качество педагога или стремление той няньки из «Детей солнца» собрать, обогреть?
— Я их люблю. Мне нечего с ними делить. Просто хочу моими впечатлениями поддержать: «Молодцы, ребята!». Потому что ну кто после нас останется? Мне приятно с ними на сцене. Я такое испытываю удовольствие, когда Дима Марин, мой племянник Аполлоша Мурзавецкий в «Волках и овцах», с этими наивными голубыми глазами самозабвенно говорит: «Ма тант, я — ни капли!». Так же с девочками. Я так рада, что в их годы им дают серьезные роли в Малом. Я считаю, что в этом и есть молодость Малого театра.
— Остается ли время на жизнь вне театра?
— Своему любимому Васе Бочкареву, который был моим первым мужем, когда он стал преподавать, я изумилась: «Вася, а когда ты жить собираешься?». Потому что, когда смотрю на мои книги, которые хотела бы перечитать, не говоря уже о новых, понимаю: ну нет времени. Волею судьбы сын женился на испанке, поэтому спустя какое-то время я продала дачу, которую безумно любила, и взяла ипотеку в Барселоне. У нас милая квартирка в центре города, и в каникулы люблю там бывать. Но там я тоже не сижу. Ездим в Навару, к баскам. Хочу в Португалию. В Испании столько провинций. Она такая разная. Люблю путешествия. Такова моя жизнь вне театра. А если отменили спектакль, люблю ничего не делать. Какие-то цветы пересажу, что-то переставлю, фильм пересмотрю. Очень люблю одиночество. Никакого стресса по этому поводу не испытываю! Я так долго за него боролась! Через браки, какие-то романы! В жизни так много интересного. Я влюблена в жизнь. Она так многолика. Люблю смотреть в окно. Вот почему у вас в Саратове так мало цветов? Люблю северные города. Они сохранили какой-то древний дух. Эта природа! Стоят церквушки ХIII века! И вот она как мазанка, вросшая в землю. Не снесли! И Одесса — совсем другое. Эти непонятные башни, и на их фоне маленький Дюк Ришелье. Как можно было? Архитектор о чем думал?
— Мне было лет десять, когда ваша мачеха в «Михайле Ломоносове» меня просто потрясла. Помню, как она кричала «ненавижу!», а за этим скрывалась такая страсть! А сегодня какие оттенки любви для вас были живительными, а какие губительными?
— Сначала немного о съемках — спасибо, что вы вспомнили этот фильм. Александр Прошкин обожал, как мы работаем. Волков — молодой Ломоносов — был тихий и скромный. С ним надо было играть любовь. Мы настолько это проживали! В картине порезали много красивых сцен. Кстати, по поводу этой сцены, когда я валяюсь и кричу «ненавижу!», Прошкин высказался: «Мила, сейчас все мартовские кошки учатся, как это надо делать». (Смеется.) Мы так смачно работали. Снимали на севере. Там было очень красиво!.. А оттенки любви? Я — дитя советского государства. С матерью жили в маленькой 6-метровой комнатке, рядом злобные родственники, недовольные нищетой. Отец прошел войну, но они уже не жили с мамой. Я его не помню, вернее, смутно: в ночи мужчина положил куклу на мою кровать. Мама, естественно, хотела устроить жизнь. И я, маленькая, конечно, была посвящена в эти дела. И, став девушкой, я панически этого избегала. Мне нужно было зажечь сердце, чтобы я захотела встречаться. Сегодняшние молодые не поверят, но я впервые поцеловалась в 20 лет, и мне не понравилось. Да, я влюблялась. С отцом своего сына я рассталась, потому что это был для меня «второй ребенок». Тем более он ревновал к сыну, который очень болел. Требовал, чтобы я ушла с работы. Пришлось расстаться, иначе мы просто убили бы друг друга. Я — Водолей и терплю до последнего. А потом рву навсегда: «Боливар не выдержит двоих». И я должна была поднять ребенка. А потом работа-работа. Сын вырос, и сейчас живу с блаженной, счастливой мыслью: «Ну вот. Я наконец-то принадлежу театру». Меня не волнует одиночество. Если бы вы знали, как ярок мой роман со зрительным залом!
— Я читала, что вы называете своей родиной Полярную звезду...
— Да, это мои фантазии. Я одна в своей конфессии (смеется). Люблю разговаривать с ней. Верю, что все не просто так в этой жизни. Я не могу себе представить рай. Если бы представила, то это был бы булгаковский затененный сад с бесконечными рядами книг. Какой еще рай должен быть? Верю, что наше существование на Земле не конечное. Полярная звезда — центр, это константа, которая находится на одном месте. Мы все вокруг нее. И на другом энергетическом уровне мы продолжимся. Суть моего пребывания на этой земле — накопить больше энергии, больше объема, чтобы уйти в космос насыщенной частицей.
Елена Маркелова, «Известия» (Саратов), 28.06.2013
Дата публикации: 07.01.2014

ЛЮДМИЛА ПОЛЯКОВА: ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК ЯРОК МОЙ РОМАН СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ
Гастроли Малого театра на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова можно назвать одним из самых ярких событий в культурной жизни нашего города за последнее время. Бесспорно, самыми яркими были встречи саратовских зрителей с легендарной актрисой Людмилой Поляковой, примой Дома Островского. Людмила Петровна заражает своей удивительной энергией. Кажется, что в вихре обуревающих ее эмоций семерка и пятерка — «возрастные цифры» — ошибочно поменялись местами. Секрет молодости в том, что ребенок войны, актриса, которая работала с легендарными режиссерами, Людмила Полякова искренне благодарна жизни за подаренный ей роман с искусством. О детстве, кинотоварищах и Его Величестве Театре Людмила Полякова рассказала в интервью «Известиям» в Приволжье.
— Людмила Петровна, вы относитесь к поколению детей войны. Что в вашей памяти оставили те страшные годы?
— Расскажу вам интересную и символическую историю. Я родилась в 1939 году, и когда началась война, нас (маму, бабушку и меня) эвакуировали в Муром. В этом маленьком среднерусском городке в то время строили секретный (запасной) аэродром, и бабушка служила там. Мама работала в госпитале для выздоравливающих раненых. И я в три годика обитала там. «А где эта наша Милка-артистка? Позовите Милку-артистку!» — постоянно слышалось из какой-нибудь палаты. Надо сказать, память у меня была феноменальная (она и сейчас хорошая), и я шпарила раненым стихи. Мои карманы всегда топорщились от сахара и шоколада. Это был такой ШОКККОЛАД! Настоящий! Колотый! Куски!
И вот мистика. Спустя 33 года (вдумайтесь в цифру) я оказалась в этом же самом месте — Лариса Шепитько снимала в Муроме «Восхождение».
— Режиссер с мистическим мироощущением...
— Да! Я вообще не знаю истории про войну, снятой грандиознее «Восхождения». Если только «20 дней без войны» Алексея Германа. Как ни странно, фильм Шепитько показывают очень редко, а там ТАКАЯ тема! Как лично Я должен в этом выстоять. Как предает Рыбак... Как моя героиня Демчиха умоляет: «ПанОчки, пощадите! Ну ради детей пощадите!» И в последний момент берет себя в руки и погибает... Лариса Шепитько сказала мне тогда: «Что ты наделала? Мне теперь придется снимать крупный план каждого, как он уходит». А уходила Демчиха с полуулыбкой. Я позвонила маме и спросила, где мы жили в Муроме. Она ответила: в Дмитровской слободе.. И вот тут мне по-настоящему стало нехорошо. Через столько лет я вернулась сюда, в слободу детства, чтобы сказать свое слово о войне. Мы снимали над Окой, и я вспомнила рассказ матери. Зимой она носила за Оку вещи, чтобы выменять на них продукты. Возвращаясь домой, в гору, она обессилела и присела отдохнуть. Ее запорошило, и она стала засыпать. И, слава Богу, на нее наткнулись случайные прохожие! Поэтому за полуулыбкой Демчихи была моя история. Это мистика какая-то!
— После «Возвращения» вы хотели бы еще сняться в военном кино?
— Нет. В фильмах о войне я больше сознательно никогда не участвовала, потому что свое отношение исчерпывающе высказала в картине Ларисы Шепитько. Понимаете, сегодня Великая Отечественная обросла общими, трафаретными фразами. И мне не близки грандиозные фейерверки и пафос в День Победы. Считаю, что эту дату нужно отмечать очень тихо. Ведь как представить это количество жертв! 26 миллионов только официально признанных... Разве это повод для помпезных праздников?
— Людмила Петровна, Милка-артистка с детства знала, что станет актрисой?
— Нет, что вы. Я была девушкой, настолько не знающей, что ей нужно! И потом, я жила в центре Москвы: Трубная площадь, Цветной бульвар, Неглинная. Из наших мещанских домиков-клоповников (из-за уничтожения клопов по весне в районе стоял жуткий запах керосина) дорога была на рынок. Безнадега была полная. И во мне все время жило желание вырваться оттуда. Мечты были самые грандиозные. Я понимала, что в космос уже не полечу, но океанографом еще успею стать. Однажды среди прочего меня занесло в машинистки-стенографистки. Мы с коллегами ходили пить кофе в маленькое кафе напротив Щепкинского училища. Прозвище «Милка-артистка» меня не преследовало, но я знала много стихов. Когда наступали сумерки, я любила ходить по переулкам и читать. Фантазерка была, ужас! (Смеется.) И я увидела объявление, что идет набор в «Щепку», на вечернее отделение. Надела черное, прочитала Кедрина, а меня сразу и зацапали. Девушка-то я была оригинальная. Я же очень высокая, а в молодости была еще и жутко худая. Через месяц я поняла: это и есть мое место. Мечты опуститься на дно океана, уйти в геологическую партию, учить детей в глухой сибирской деревушке не сбылись. (Смеется.) И счастлива, что сложилось именно так, потому что все эти образы я примерила на сцене.
— Людмила Петровна, в вашей творческой судьбе в кино была Лариса Шепитько, в театре — Анатолий Васильев, Леонид Варпаховский, Юрий Соломин вернул вас в Малый театр. Кто из мастеров сыграл в вашей судьбе особую роль?
— Что касается театра, обязательно нужно сказать о грандиозной роли, которую сыграл в моей судьбе Леонид Варпаховский. Когда он пришел в театр Станиславского, где я тогда служила, он предложил мне единственную женскую роль в «Продавце дождя». Ему предлагали утвердить звезд, тогда в Станиславского блистали Ольга Бган, Майя Менглет. Но он был непреклонен. И когда начались прогоны, Варпаховский подошел ко мне (у него была потрясающая улыбка, из-за которой я звала его «последний джентльмен») и сказал: «Милочка, а наутро вы проснетесь знаменитой». И он не ошибся. «Продавца дождя» мы играли 13 лет, и первые 10 лет Москва буквально ломилась на спектакль. Это был переломный момент в моей актерской судьбе, и Леонид Викторович стал его автором.
— В то же время ваше имя в первую очередь ассоциируется с Анатолием Васильевым, олицетворением «поиска нового театра»...
— Встреча с Васильевым — совсем другая история. Она произошла в мои зрелые годы, мне было уже больше сорока.
Этот несчастный театр Станиславского! Каждые три года здесь меняется режиссер. Они не успокаиваются! Один и тот же сценарий: назначают главрежа, через три года эта группа назначивших, видя, что ей больше светит, начинает его свержение. И однажды они наткнулись на троицу. Во главе с Андреем Поповым в театр пришли Анатолий Васильев, Борис Морозов и Иосиф Райхельгауз. Какой это был взлет! Боря Морозов выпустил «Вассу», потом «Взрослую дочь молодого человека».
— Что в вас оставила работа над спектаклем «Васса»?
— Многие, не зная, могут подумать, что я играла заглавную роль. Вассу играла Елизавета Никищихина. У Морозова было такое видение: Васса — маленькая старушонка. Это очень интересная пьеса. Ту «Вассу Железнову», которую мы знаем, с Верой Пашенной в главной роли, Горький написал уже в 20-е годы. А Морозов поставил первую редакцию, 1911 года — время после поражения первой русской революции. В обществе был такой упадок сил! Народ ни во что не верил. Поэтому у нас была потрясающая афиша: дерево, с каждой ветки которого капает кровь, и ветка как хватающая лапа: «Мое». И выпущен спектакль был в конце 70-х. Оттепель вроде бы закончилась, началась стагнация. Хотелось свежего воздуха. Все потрясающе совпало. Москва просто стонала! Но в Станиславского опять началось изгнание. Начали с Райхельгауза, потому что он был самый непосредственный и позволял себе что угодно говорить. В этот момент его пригласил театр Венгрии. Его стали таскать парткомы и так далее. Он сказал: а почему я должен вам отчитываться, куда я собираюсь? Состряпали политическое дело, которое потом с трудом замяли.
— Пятая графа наверняка тоже фигурировала...
— Конечно. Через какое-то время отделили Борю Морозова, предложив ему театр Пушкина. Ну какой молодой парень откажется от своего театра? Попов всегда был как Бог Отец. Остался Васильев. И в это время в театр пришел Сандро Товстоногов. Надежды Васильева на свой театр не оправдались. И он ушел. Мы, группа из 12 артистов, все подали заявление об уходе. А уйти-то в никуда! Эту историю я подробно описываю в книге, которую планирую выпустить к юбилею.
— Ура! Вы все-таки решили опубликовать свои дневники!
— А вы знаете, что я пишу дневники?! Это ужас какая сложная работа! Есть тетради, в которых записи 1956 года, 61, 63, 68, 75-го, — можете себе представить? Хочу поднять эту историю. Ведь никто же не ответил на этот вопрос: почему мы все разбрелись? А она заслуживает этого.
— Сегодня вы следите за тем, что делают ученики Анатолия Васильева, к примеру, Игорь Яцко в «Школе драматического искусства»?
— К сожалению, у меня очень мало времени, и просто не получается. Я очень занята в театре, да и в кино надо успеть посниматься. Игорь очень милый. Вообще, если говорить о современных актерах... Еще Чехов говорил: «Гениев мало, но средний артист стал значительно выше». Я считаю, что сегодня много очень хороших актеров.
— Увы, даже очень хороших ругают. Про вашего кинопартнера Сергея Безрукова анекдот ходит, мол, создал видеоверсию «Жизни замечательных людей»...
— Я очарована Сережей. Он остался непосредственным мальчишкой. Безусловно, он знает себе цену. Но в работе он абсолютно открыт, от роли просто заводится! Настоящий артист! Общение с ним доставило такую радость! Он же «Реальную сказку» снял. Звонит, воодушевленно произносит: «Бабу Ягу!» Я ему: «Сереееежа!» В ответ: «Но это такааааая Баба Яга!» Как тут откажешь?
— Вот мы и подошли к современному кино. Вам есть с чем сравнивать. Вы работали с Ларисой Шепитько, в вашей творческой семье был Андрей Смирнов. Что, по-вашему, на сегодня кинематографом утрачено, а что, наоборот, приобретено?
— Спасибо, что упомянули Смирнова — это тоже этапный для меня человек. Первая картина, в которой я снималась, — фильм Андрея Смирнова. Лариса Шепитько в это время снимала «Родину электричества» по Андрею Платонову, а Смирнов делал «Батьку Ангела» Юрия Олеши. Так этот наш альманах лежал на полке четверть века. И я не знаю, почему! А сколько мытарств терпело «Восхождение»! Мне приходилось приезжать за пятьсот километров, чтобы переозвучивать какие-то фразы. «Жена партизана не могла бросаться в ноги фашистам с криками: «Паночки, пощадите!», — говорили нам. Цензура была «побочным эффектом», которого, к счастью, сейчас нет. Сейчас другая сложность — продюсеры диктуют деньгами, что снимать. Но режиссеров прекрасных много. Мне так жалко Алексея Балабанова, Михаила Калатозишвили! Ну почему они уходят в пятьдесят?! Есть имена. Вот недавно я снялась у Александра Котта (режиссер «Брестской крепости»), Володи Нахабцева, сына знаменитого оператора Владимира Нахабцева. Есть режиссеры, которые несут флаг надежды на хорошее будущее нашего кино.
— Людмила Петровна, вернемся к театру. Сегодня вы играете центральные роли в репертуаре Малого театра. Москва опять идет «на Полякову». А почему по окончании Щепкинского училища вы не сразу пришли в Малый, для которого «Щепка» и воспитывает актеров?
— Дело в том, что я была нестандартной комплекции. И мне было все ясно — на меня повесили ярлык «Пашенная». Они тогда еще были живы: Вера Пашенная, Елена Гоголева. А какие прекрасные в Малом были мужчины: Жаров, Бабочкин, Царев. Но в Доме Островского был принцип: до 40 лет тебе вряд ли дадут сыграть что-нибудь, кроме эпизода. А у нас, выпускников, была возможность выбирать. И я выбрала театр Станиславского.
— Малый называют театром консервативным, избегающим прогрессивных форм. Вам не хотелось в него привнести что-то свое?
— Дело в том, что все эти новаторства я не считаю современным прочтением. У Соломина есть потрясающая фраза: «Надо дорасти до автора». Почему вы думаете, что вы умнее Гоголя? Вы сначала поймите, что он хотел сказать. Я считаю себя современным человеком, я чувствую эту жизнь, слышу, что происходит, меня интересует происходящее. Поэтому, когда беру какой-то материал, я невольно со своей точки зрения его оцениваю. Пытаюсь понять, что сказал автор и мое отношение к этому. Без внешних проявлений: голый чиновник, подвешенный к потолку. В Малом театре есть 15 человек, это настоящие современные суперартисты. Люда Титова, Женя Глушенко, Вася Бочкарев — они говорят на одном языке, говорят глазами. И это самое главное, что сейчас происходит в Малом. Да, режиссер нужен, но очень важна ансамблевая игра. Считаю, что больше этого нигде не происходит. Принцип: два-три сериала, звезда, милости просим в театр. На него делают спектакль — это антрепризный принцип, к настоящему театру отношения не имеющий. В Малом сложился такой анекдот из жизни. Раньше премьеры выходили каждую неделю. Актеры садились в столовой обедать, спрашивали соседей: «Ты кто? Офелия? Ты в спектакле моя Дочка. Хорошо. А ты? Враг. Отсядь туда». Они раскладывали пьесу по эмоциям даже вне сцены. Установился ансамбль. И в традиционном прочтении единомышленников классика всегда будет актуальна.
— В связи с этим хочу сказать вам спасибо за «Горе от ума». Чацкий — восторженный мальчик, вернувшийся в свой дом, где был счастлив, хулиган Фамусов. Очень здорово ансамбль почувствовал то трепетное отношение, с которым режиссер Сергей Женовач подходит к классическому тексту.
— Для меня так этот спектакль очень современный. Когда моя Хлестова возмущается: «Час битый ехала с Покровки! Сил нет! Ночь! Светопреставленье!», — это когда Москва задыхается в пробках. В Малом театре ощущаю себя абсолютно счастливой. Моим вторым ангелом-хранителем считаю Соломина. Вы знаете, когда я поступала, это ведь он меня рассмотрел. Он был тогда...
— …«Адъютантом его превосходительства»...
— Нет. «Адъютант» был позже. Тогда он был прелестный юноша, и по возрасту не отличался от нас, был педагогом на курсе Виктора Ивановича Коршунова. И он меня как раз перетащил на дневное отделение. Ведь поступала на вечернее, чтобы днем работать и содержать себя. Первый курс я так перебивалась. На втором курсе уже получала стипендию Хмелева, по размеру она была такой же, как зарплата. И второй раз встреча с Соломиным произошла после моего ухода от Васильева. Я об этом подробно пишу в книге. Писала заявление, а Васильев сидел напротив и подсказывал, как правильно писать. Слава Богу, рука у меня не дрожала. И только на соседней улице подумала: «Что я наделала — маленький ребенок, больная мать на руках. Никакой заначки, ни работы». Но подвернулась съемочка — и в соседней гримерной Юрий Мефодьич. Страшно удивился, что я не у дел. «А в Малый теперь, а?» — подмигнул Соломин. И через два дня я была в Малом. Он резко поменял мою жизнь. Вернулась, как блудная дочь. Я так благодарила, что теперь у меня есть дом. Это было начало 90-х. В стране голод. А Малый есть Малый. И я выкормила семью. Была согласна на массовку, эпизодики, что угодно. Мне было уже 50 лет. Я испытывала просто сумасшедшую благодарность. И вдруг актриса, которая играла «Дядюшкин сон», в силу обстоятельств не смогла поехать на гастроли. А они были очень ответственные. Назарбаев пригласил нас, еще будучи секретарем Казахстана. Меня вызывает Виктор Иваныч и торжественно говорит: «Родной! Ты должна это сделать!» «Да вы что!» — отвечаю. — 75 страниц ЛИЧНОГО текста». (А времени шесть дней. Причем театр-то уже уехал). «Родной, — было в ответ. — Или сейчас, или так и будут одни эпизодики»... И у меня был всего один прогон... Кайф, который я испытала, нечеловеческий. Было сложно первый год, потому что текст еще держал, и я бесконечно вставляла: «Господи, Боже мой!». Такого плана насыщенной работы у меня давно не было. А здесь сознательный, взрослый азарт. Так Москалева в «Дядюшкином сне» устраивала свои дела — это же второй Хлестаков! И с этого пошло: «Недоросль», «Волки и овцы». Мурзавецкая — особая статья! Ведь есть традиции исполнения Малого театра. Старуха такая, строит всех: «Бу-бум, бу-бум». А здесь она так ласково: «Боже мой! Какое счастье — я вижу тебя! Что случилось? Что ты говоришь! Все устроим!» Она всех объемлет и делает свои дела. Затем шли уже законные роли, не вводы. Потом были «Правда — хорошо», «Дети солнца». От «Детей», честно признаюсь, собиралась отказаться. Ну, нянька — десять фраз: «Чаю хотите?», «Лиза, капельки принимала?». Говорю режиссеру спектакля Адольфу Шапиро: «Столько спектаклей, ну не хочу отвлекаться». Режиссер сказал: «Без вас выпускать не буду». И я поняла его. И своими несколькими фразами я тоже прочертила свою тропинку к солнцу. Ведь нянька пытается сохранить этот дом на песке. Ведь все продано, она всеми силами хочет спасти брошенный дом. Дети солнца — что же мы сделали со своей жизнью? И мне всегда важно даже не что говорят, а как говорят. Вот идут мать с ребенком. Она на него кричит, он в ответ. Я уже заранее знаю, что будет. Мы ведь все растеряли, все человеческие чувства. Что-то произошло с нами. Часто бываю за границей, я же вижу, как они обожествляют детей. Чтобы кто-то закричал? Там даже собаки не лают. НЕ ЛА-ЮТ. Что-то мы с собой сделали.
— Людмила Петровна, я видела, как трогательно вы разбираете с молодыми коллегами их роли в спектакле, — это качество педагога или стремление той няньки из «Детей солнца» собрать, обогреть?
— Я их люблю. Мне нечего с ними делить. Просто хочу моими впечатлениями поддержать: «Молодцы, ребята!». Потому что ну кто после нас останется? Мне приятно с ними на сцене. Я такое испытываю удовольствие, когда Дима Марин, мой племянник Аполлоша Мурзавецкий в «Волках и овцах», с этими наивными голубыми глазами самозабвенно говорит: «Ма тант, я — ни капли!». Так же с девочками. Я так рада, что в их годы им дают серьезные роли в Малом. Я считаю, что в этом и есть молодость Малого театра.
— Остается ли время на жизнь вне театра?
— Своему любимому Васе Бочкареву, который был моим первым мужем, когда он стал преподавать, я изумилась: «Вася, а когда ты жить собираешься?». Потому что, когда смотрю на мои книги, которые хотела бы перечитать, не говоря уже о новых, понимаю: ну нет времени. Волею судьбы сын женился на испанке, поэтому спустя какое-то время я продала дачу, которую безумно любила, и взяла ипотеку в Барселоне. У нас милая квартирка в центре города, и в каникулы люблю там бывать. Но там я тоже не сижу. Ездим в Навару, к баскам. Хочу в Португалию. В Испании столько провинций. Она такая разная. Люблю путешествия. Такова моя жизнь вне театра. А если отменили спектакль, люблю ничего не делать. Какие-то цветы пересажу, что-то переставлю, фильм пересмотрю. Очень люблю одиночество. Никакого стресса по этому поводу не испытываю! Я так долго за него боролась! Через браки, какие-то романы! В жизни так много интересного. Я влюблена в жизнь. Она так многолика. Люблю смотреть в окно. Вот почему у вас в Саратове так мало цветов? Люблю северные города. Они сохранили какой-то древний дух. Эта природа! Стоят церквушки ХIII века! И вот она как мазанка, вросшая в землю. Не снесли! И Одесса — совсем другое. Эти непонятные башни, и на их фоне маленький Дюк Ришелье. Как можно было? Архитектор о чем думал?
— Мне было лет десять, когда ваша мачеха в «Михайле Ломоносове» меня просто потрясла. Помню, как она кричала «ненавижу!», а за этим скрывалась такая страсть! А сегодня какие оттенки любви для вас были живительными, а какие губительными?
— Сначала немного о съемках — спасибо, что вы вспомнили этот фильм. Александр Прошкин обожал, как мы работаем. Волков — молодой Ломоносов — был тихий и скромный. С ним надо было играть любовь. Мы настолько это проживали! В картине порезали много красивых сцен. Кстати, по поводу этой сцены, когда я валяюсь и кричу «ненавижу!», Прошкин высказался: «Мила, сейчас все мартовские кошки учатся, как это надо делать». (Смеется.) Мы так смачно работали. Снимали на севере. Там было очень красиво!.. А оттенки любви? Я — дитя советского государства. С матерью жили в маленькой 6-метровой комнатке, рядом злобные родственники, недовольные нищетой. Отец прошел войну, но они уже не жили с мамой. Я его не помню, вернее, смутно: в ночи мужчина положил куклу на мою кровать. Мама, естественно, хотела устроить жизнь. И я, маленькая, конечно, была посвящена в эти дела. И, став девушкой, я панически этого избегала. Мне нужно было зажечь сердце, чтобы я захотела встречаться. Сегодняшние молодые не поверят, но я впервые поцеловалась в 20 лет, и мне не понравилось. Да, я влюблялась. С отцом своего сына я рассталась, потому что это был для меня «второй ребенок». Тем более он ревновал к сыну, который очень болел. Требовал, чтобы я ушла с работы. Пришлось расстаться, иначе мы просто убили бы друг друга. Я — Водолей и терплю до последнего. А потом рву навсегда: «Боливар не выдержит двоих». И я должна была поднять ребенка. А потом работа-работа. Сын вырос, и сейчас живу с блаженной, счастливой мыслью: «Ну вот. Я наконец-то принадлежу театру». Меня не волнует одиночество. Если бы вы знали, как ярок мой роман со зрительным залом!
— Я читала, что вы называете своей родиной Полярную звезду...
— Да, это мои фантазии. Я одна в своей конфессии (смеется). Люблю разговаривать с ней. Верю, что все не просто так в этой жизни. Я не могу себе представить рай. Если бы представила, то это был бы булгаковский затененный сад с бесконечными рядами книг. Какой еще рай должен быть? Верю, что наше существование на Земле не конечное. Полярная звезда — центр, это константа, которая находится на одном месте. Мы все вокруг нее. И на другом энергетическом уровне мы продолжимся. Суть моего пребывания на этой земле — накопить больше энергии, больше объема, чтобы уйти в космос насыщенной частицей.
Елена Маркелова, «Известия» (Саратов), 28.06.2013
Гастроли Малого театра на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова можно назвать одним из самых ярких событий в культурной жизни нашего города за последнее время. Бесспорно, самыми яркими были встречи саратовских зрителей с легендарной актрисой Людмилой Поляковой, примой Дома Островского. Людмила Петровна заражает своей удивительной энергией. Кажется, что в вихре обуревающих ее эмоций семерка и пятерка — «возрастные цифры» — ошибочно поменялись местами. Секрет молодости в том, что ребенок войны, актриса, которая работала с легендарными режиссерами, Людмила Полякова искренне благодарна жизни за подаренный ей роман с искусством. О детстве, кинотоварищах и Его Величестве Театре Людмила Полякова рассказала в интервью «Известиям» в Приволжье.
— Людмила Петровна, вы относитесь к поколению детей войны. Что в вашей памяти оставили те страшные годы?
— Расскажу вам интересную и символическую историю. Я родилась в 1939 году, и когда началась война, нас (маму, бабушку и меня) эвакуировали в Муром. В этом маленьком среднерусском городке в то время строили секретный (запасной) аэродром, и бабушка служила там. Мама работала в госпитале для выздоравливающих раненых. И я в три годика обитала там. «А где эта наша Милка-артистка? Позовите Милку-артистку!» — постоянно слышалось из какой-нибудь палаты. Надо сказать, память у меня была феноменальная (она и сейчас хорошая), и я шпарила раненым стихи. Мои карманы всегда топорщились от сахара и шоколада. Это был такой ШОКККОЛАД! Настоящий! Колотый! Куски!
И вот мистика. Спустя 33 года (вдумайтесь в цифру) я оказалась в этом же самом месте — Лариса Шепитько снимала в Муроме «Восхождение».
— Режиссер с мистическим мироощущением...
— Да! Я вообще не знаю истории про войну, снятой грандиознее «Восхождения». Если только «20 дней без войны» Алексея Германа. Как ни странно, фильм Шепитько показывают очень редко, а там ТАКАЯ тема! Как лично Я должен в этом выстоять. Как предает Рыбак... Как моя героиня Демчиха умоляет: «ПанОчки, пощадите! Ну ради детей пощадите!» И в последний момент берет себя в руки и погибает... Лариса Шепитько сказала мне тогда: «Что ты наделала? Мне теперь придется снимать крупный план каждого, как он уходит». А уходила Демчиха с полуулыбкой. Я позвонила маме и спросила, где мы жили в Муроме. Она ответила: в Дмитровской слободе.. И вот тут мне по-настоящему стало нехорошо. Через столько лет я вернулась сюда, в слободу детства, чтобы сказать свое слово о войне. Мы снимали над Окой, и я вспомнила рассказ матери. Зимой она носила за Оку вещи, чтобы выменять на них продукты. Возвращаясь домой, в гору, она обессилела и присела отдохнуть. Ее запорошило, и она стала засыпать. И, слава Богу, на нее наткнулись случайные прохожие! Поэтому за полуулыбкой Демчихи была моя история. Это мистика какая-то!
— После «Возвращения» вы хотели бы еще сняться в военном кино?
— Нет. В фильмах о войне я больше сознательно никогда не участвовала, потому что свое отношение исчерпывающе высказала в картине Ларисы Шепитько. Понимаете, сегодня Великая Отечественная обросла общими, трафаретными фразами. И мне не близки грандиозные фейерверки и пафос в День Победы. Считаю, что эту дату нужно отмечать очень тихо. Ведь как представить это количество жертв! 26 миллионов только официально признанных... Разве это повод для помпезных праздников?
— Людмила Петровна, Милка-артистка с детства знала, что станет актрисой?
— Нет, что вы. Я была девушкой, настолько не знающей, что ей нужно! И потом, я жила в центре Москвы: Трубная площадь, Цветной бульвар, Неглинная. Из наших мещанских домиков-клоповников (из-за уничтожения клопов по весне в районе стоял жуткий запах керосина) дорога была на рынок. Безнадега была полная. И во мне все время жило желание вырваться оттуда. Мечты были самые грандиозные. Я понимала, что в космос уже не полечу, но океанографом еще успею стать. Однажды среди прочего меня занесло в машинистки-стенографистки. Мы с коллегами ходили пить кофе в маленькое кафе напротив Щепкинского училища. Прозвище «Милка-артистка» меня не преследовало, но я знала много стихов. Когда наступали сумерки, я любила ходить по переулкам и читать. Фантазерка была, ужас! (Смеется.) И я увидела объявление, что идет набор в «Щепку», на вечернее отделение. Надела черное, прочитала Кедрина, а меня сразу и зацапали. Девушка-то я была оригинальная. Я же очень высокая, а в молодости была еще и жутко худая. Через месяц я поняла: это и есть мое место. Мечты опуститься на дно океана, уйти в геологическую партию, учить детей в глухой сибирской деревушке не сбылись. (Смеется.) И счастлива, что сложилось именно так, потому что все эти образы я примерила на сцене.
— Людмила Петровна, в вашей творческой судьбе в кино была Лариса Шепитько, в театре — Анатолий Васильев, Леонид Варпаховский, Юрий Соломин вернул вас в Малый театр. Кто из мастеров сыграл в вашей судьбе особую роль?
— Что касается театра, обязательно нужно сказать о грандиозной роли, которую сыграл в моей судьбе Леонид Варпаховский. Когда он пришел в театр Станиславского, где я тогда служила, он предложил мне единственную женскую роль в «Продавце дождя». Ему предлагали утвердить звезд, тогда в Станиславского блистали Ольга Бган, Майя Менглет. Но он был непреклонен. И когда начались прогоны, Варпаховский подошел ко мне (у него была потрясающая улыбка, из-за которой я звала его «последний джентльмен») и сказал: «Милочка, а наутро вы проснетесь знаменитой». И он не ошибся. «Продавца дождя» мы играли 13 лет, и первые 10 лет Москва буквально ломилась на спектакль. Это был переломный момент в моей актерской судьбе, и Леонид Викторович стал его автором.
— В то же время ваше имя в первую очередь ассоциируется с Анатолием Васильевым, олицетворением «поиска нового театра»...
— Встреча с Васильевым — совсем другая история. Она произошла в мои зрелые годы, мне было уже больше сорока.
Этот несчастный театр Станиславского! Каждые три года здесь меняется режиссер. Они не успокаиваются! Один и тот же сценарий: назначают главрежа, через три года эта группа назначивших, видя, что ей больше светит, начинает его свержение. И однажды они наткнулись на троицу. Во главе с Андреем Поповым в театр пришли Анатолий Васильев, Борис Морозов и Иосиф Райхельгауз. Какой это был взлет! Боря Морозов выпустил «Вассу», потом «Взрослую дочь молодого человека».
— Что в вас оставила работа над спектаклем «Васса»?
— Многие, не зная, могут подумать, что я играла заглавную роль. Вассу играла Елизавета Никищихина. У Морозова было такое видение: Васса — маленькая старушонка. Это очень интересная пьеса. Ту «Вассу Железнову», которую мы знаем, с Верой Пашенной в главной роли, Горький написал уже в 20-е годы. А Морозов поставил первую редакцию, 1911 года — время после поражения первой русской революции. В обществе был такой упадок сил! Народ ни во что не верил. Поэтому у нас была потрясающая афиша: дерево, с каждой ветки которого капает кровь, и ветка как хватающая лапа: «Мое». И выпущен спектакль был в конце 70-х. Оттепель вроде бы закончилась, началась стагнация. Хотелось свежего воздуха. Все потрясающе совпало. Москва просто стонала! Но в Станиславского опять началось изгнание. Начали с Райхельгауза, потому что он был самый непосредственный и позволял себе что угодно говорить. В этот момент его пригласил театр Венгрии. Его стали таскать парткомы и так далее. Он сказал: а почему я должен вам отчитываться, куда я собираюсь? Состряпали политическое дело, которое потом с трудом замяли.
— Пятая графа наверняка тоже фигурировала...
— Конечно. Через какое-то время отделили Борю Морозова, предложив ему театр Пушкина. Ну какой молодой парень откажется от своего театра? Попов всегда был как Бог Отец. Остался Васильев. И в это время в театр пришел Сандро Товстоногов. Надежды Васильева на свой театр не оправдались. И он ушел. Мы, группа из 12 артистов, все подали заявление об уходе. А уйти-то в никуда! Эту историю я подробно описываю в книге, которую планирую выпустить к юбилею.
— Ура! Вы все-таки решили опубликовать свои дневники!
— А вы знаете, что я пишу дневники?! Это ужас какая сложная работа! Есть тетради, в которых записи 1956 года, 61, 63, 68, 75-го, — можете себе представить? Хочу поднять эту историю. Ведь никто же не ответил на этот вопрос: почему мы все разбрелись? А она заслуживает этого.
— Сегодня вы следите за тем, что делают ученики Анатолия Васильева, к примеру, Игорь Яцко в «Школе драматического искусства»?
— К сожалению, у меня очень мало времени, и просто не получается. Я очень занята в театре, да и в кино надо успеть посниматься. Игорь очень милый. Вообще, если говорить о современных актерах... Еще Чехов говорил: «Гениев мало, но средний артист стал значительно выше». Я считаю, что сегодня много очень хороших актеров.
— Увы, даже очень хороших ругают. Про вашего кинопартнера Сергея Безрукова анекдот ходит, мол, создал видеоверсию «Жизни замечательных людей»...
— Я очарована Сережей. Он остался непосредственным мальчишкой. Безусловно, он знает себе цену. Но в работе он абсолютно открыт, от роли просто заводится! Настоящий артист! Общение с ним доставило такую радость! Он же «Реальную сказку» снял. Звонит, воодушевленно произносит: «Бабу Ягу!» Я ему: «Сереееежа!» В ответ: «Но это такааааая Баба Яга!» Как тут откажешь?
— Вот мы и подошли к современному кино. Вам есть с чем сравнивать. Вы работали с Ларисой Шепитько, в вашей творческой семье был Андрей Смирнов. Что, по-вашему, на сегодня кинематографом утрачено, а что, наоборот, приобретено?
— Спасибо, что упомянули Смирнова — это тоже этапный для меня человек. Первая картина, в которой я снималась, — фильм Андрея Смирнова. Лариса Шепитько в это время снимала «Родину электричества» по Андрею Платонову, а Смирнов делал «Батьку Ангела» Юрия Олеши. Так этот наш альманах лежал на полке четверть века. И я не знаю, почему! А сколько мытарств терпело «Восхождение»! Мне приходилось приезжать за пятьсот километров, чтобы переозвучивать какие-то фразы. «Жена партизана не могла бросаться в ноги фашистам с криками: «Паночки, пощадите!», — говорили нам. Цензура была «побочным эффектом», которого, к счастью, сейчас нет. Сейчас другая сложность — продюсеры диктуют деньгами, что снимать. Но режиссеров прекрасных много. Мне так жалко Алексея Балабанова, Михаила Калатозишвили! Ну почему они уходят в пятьдесят?! Есть имена. Вот недавно я снялась у Александра Котта (режиссер «Брестской крепости»), Володи Нахабцева, сына знаменитого оператора Владимира Нахабцева. Есть режиссеры, которые несут флаг надежды на хорошее будущее нашего кино.
— Людмила Петровна, вернемся к театру. Сегодня вы играете центральные роли в репертуаре Малого театра. Москва опять идет «на Полякову». А почему по окончании Щепкинского училища вы не сразу пришли в Малый, для которого «Щепка» и воспитывает актеров?
— Дело в том, что я была нестандартной комплекции. И мне было все ясно — на меня повесили ярлык «Пашенная». Они тогда еще были живы: Вера Пашенная, Елена Гоголева. А какие прекрасные в Малом были мужчины: Жаров, Бабочкин, Царев. Но в Доме Островского был принцип: до 40 лет тебе вряд ли дадут сыграть что-нибудь, кроме эпизода. А у нас, выпускников, была возможность выбирать. И я выбрала театр Станиславского.
— Малый называют театром консервативным, избегающим прогрессивных форм. Вам не хотелось в него привнести что-то свое?
— Дело в том, что все эти новаторства я не считаю современным прочтением. У Соломина есть потрясающая фраза: «Надо дорасти до автора». Почему вы думаете, что вы умнее Гоголя? Вы сначала поймите, что он хотел сказать. Я считаю себя современным человеком, я чувствую эту жизнь, слышу, что происходит, меня интересует происходящее. Поэтому, когда беру какой-то материал, я невольно со своей точки зрения его оцениваю. Пытаюсь понять, что сказал автор и мое отношение к этому. Без внешних проявлений: голый чиновник, подвешенный к потолку. В Малом театре есть 15 человек, это настоящие современные суперартисты. Люда Титова, Женя Глушенко, Вася Бочкарев — они говорят на одном языке, говорят глазами. И это самое главное, что сейчас происходит в Малом. Да, режиссер нужен, но очень важна ансамблевая игра. Считаю, что больше этого нигде не происходит. Принцип: два-три сериала, звезда, милости просим в театр. На него делают спектакль — это антрепризный принцип, к настоящему театру отношения не имеющий. В Малом сложился такой анекдот из жизни. Раньше премьеры выходили каждую неделю. Актеры садились в столовой обедать, спрашивали соседей: «Ты кто? Офелия? Ты в спектакле моя Дочка. Хорошо. А ты? Враг. Отсядь туда». Они раскладывали пьесу по эмоциям даже вне сцены. Установился ансамбль. И в традиционном прочтении единомышленников классика всегда будет актуальна.
— В связи с этим хочу сказать вам спасибо за «Горе от ума». Чацкий — восторженный мальчик, вернувшийся в свой дом, где был счастлив, хулиган Фамусов. Очень здорово ансамбль почувствовал то трепетное отношение, с которым режиссер Сергей Женовач подходит к классическому тексту.
— Для меня так этот спектакль очень современный. Когда моя Хлестова возмущается: «Час битый ехала с Покровки! Сил нет! Ночь! Светопреставленье!», — это когда Москва задыхается в пробках. В Малом театре ощущаю себя абсолютно счастливой. Моим вторым ангелом-хранителем считаю Соломина. Вы знаете, когда я поступала, это ведь он меня рассмотрел. Он был тогда...
— …«Адъютантом его превосходительства»...
— Нет. «Адъютант» был позже. Тогда он был прелестный юноша, и по возрасту не отличался от нас, был педагогом на курсе Виктора Ивановича Коршунова. И он меня как раз перетащил на дневное отделение. Ведь поступала на вечернее, чтобы днем работать и содержать себя. Первый курс я так перебивалась. На втором курсе уже получала стипендию Хмелева, по размеру она была такой же, как зарплата. И второй раз встреча с Соломиным произошла после моего ухода от Васильева. Я об этом подробно пишу в книге. Писала заявление, а Васильев сидел напротив и подсказывал, как правильно писать. Слава Богу, рука у меня не дрожала. И только на соседней улице подумала: «Что я наделала — маленький ребенок, больная мать на руках. Никакой заначки, ни работы». Но подвернулась съемочка — и в соседней гримерной Юрий Мефодьич. Страшно удивился, что я не у дел. «А в Малый теперь, а?» — подмигнул Соломин. И через два дня я была в Малом. Он резко поменял мою жизнь. Вернулась, как блудная дочь. Я так благодарила, что теперь у меня есть дом. Это было начало 90-х. В стране голод. А Малый есть Малый. И я выкормила семью. Была согласна на массовку, эпизодики, что угодно. Мне было уже 50 лет. Я испытывала просто сумасшедшую благодарность. И вдруг актриса, которая играла «Дядюшкин сон», в силу обстоятельств не смогла поехать на гастроли. А они были очень ответственные. Назарбаев пригласил нас, еще будучи секретарем Казахстана. Меня вызывает Виктор Иваныч и торжественно говорит: «Родной! Ты должна это сделать!» «Да вы что!» — отвечаю. — 75 страниц ЛИЧНОГО текста». (А времени шесть дней. Причем театр-то уже уехал). «Родной, — было в ответ. — Или сейчас, или так и будут одни эпизодики»... И у меня был всего один прогон... Кайф, который я испытала, нечеловеческий. Было сложно первый год, потому что текст еще держал, и я бесконечно вставляла: «Господи, Боже мой!». Такого плана насыщенной работы у меня давно не было. А здесь сознательный, взрослый азарт. Так Москалева в «Дядюшкином сне» устраивала свои дела — это же второй Хлестаков! И с этого пошло: «Недоросль», «Волки и овцы». Мурзавецкая — особая статья! Ведь есть традиции исполнения Малого театра. Старуха такая, строит всех: «Бу-бум, бу-бум». А здесь она так ласково: «Боже мой! Какое счастье — я вижу тебя! Что случилось? Что ты говоришь! Все устроим!» Она всех объемлет и делает свои дела. Затем шли уже законные роли, не вводы. Потом были «Правда — хорошо», «Дети солнца». От «Детей», честно признаюсь, собиралась отказаться. Ну, нянька — десять фраз: «Чаю хотите?», «Лиза, капельки принимала?». Говорю режиссеру спектакля Адольфу Шапиро: «Столько спектаклей, ну не хочу отвлекаться». Режиссер сказал: «Без вас выпускать не буду». И я поняла его. И своими несколькими фразами я тоже прочертила свою тропинку к солнцу. Ведь нянька пытается сохранить этот дом на песке. Ведь все продано, она всеми силами хочет спасти брошенный дом. Дети солнца — что же мы сделали со своей жизнью? И мне всегда важно даже не что говорят, а как говорят. Вот идут мать с ребенком. Она на него кричит, он в ответ. Я уже заранее знаю, что будет. Мы ведь все растеряли, все человеческие чувства. Что-то произошло с нами. Часто бываю за границей, я же вижу, как они обожествляют детей. Чтобы кто-то закричал? Там даже собаки не лают. НЕ ЛА-ЮТ. Что-то мы с собой сделали.
— Людмила Петровна, я видела, как трогательно вы разбираете с молодыми коллегами их роли в спектакле, — это качество педагога или стремление той няньки из «Детей солнца» собрать, обогреть?
— Я их люблю. Мне нечего с ними делить. Просто хочу моими впечатлениями поддержать: «Молодцы, ребята!». Потому что ну кто после нас останется? Мне приятно с ними на сцене. Я такое испытываю удовольствие, когда Дима Марин, мой племянник Аполлоша Мурзавецкий в «Волках и овцах», с этими наивными голубыми глазами самозабвенно говорит: «Ма тант, я — ни капли!». Так же с девочками. Я так рада, что в их годы им дают серьезные роли в Малом. Я считаю, что в этом и есть молодость Малого театра.
— Остается ли время на жизнь вне театра?
— Своему любимому Васе Бочкареву, который был моим первым мужем, когда он стал преподавать, я изумилась: «Вася, а когда ты жить собираешься?». Потому что, когда смотрю на мои книги, которые хотела бы перечитать, не говоря уже о новых, понимаю: ну нет времени. Волею судьбы сын женился на испанке, поэтому спустя какое-то время я продала дачу, которую безумно любила, и взяла ипотеку в Барселоне. У нас милая квартирка в центре города, и в каникулы люблю там бывать. Но там я тоже не сижу. Ездим в Навару, к баскам. Хочу в Португалию. В Испании столько провинций. Она такая разная. Люблю путешествия. Такова моя жизнь вне театра. А если отменили спектакль, люблю ничего не делать. Какие-то цветы пересажу, что-то переставлю, фильм пересмотрю. Очень люблю одиночество. Никакого стресса по этому поводу не испытываю! Я так долго за него боролась! Через браки, какие-то романы! В жизни так много интересного. Я влюблена в жизнь. Она так многолика. Люблю смотреть в окно. Вот почему у вас в Саратове так мало цветов? Люблю северные города. Они сохранили какой-то древний дух. Эта природа! Стоят церквушки ХIII века! И вот она как мазанка, вросшая в землю. Не снесли! И Одесса — совсем другое. Эти непонятные башни, и на их фоне маленький Дюк Ришелье. Как можно было? Архитектор о чем думал?
— Мне было лет десять, когда ваша мачеха в «Михайле Ломоносове» меня просто потрясла. Помню, как она кричала «ненавижу!», а за этим скрывалась такая страсть! А сегодня какие оттенки любви для вас были живительными, а какие губительными?
— Сначала немного о съемках — спасибо, что вы вспомнили этот фильм. Александр Прошкин обожал, как мы работаем. Волков — молодой Ломоносов — был тихий и скромный. С ним надо было играть любовь. Мы настолько это проживали! В картине порезали много красивых сцен. Кстати, по поводу этой сцены, когда я валяюсь и кричу «ненавижу!», Прошкин высказался: «Мила, сейчас все мартовские кошки учатся, как это надо делать». (Смеется.) Мы так смачно работали. Снимали на севере. Там было очень красиво!.. А оттенки любви? Я — дитя советского государства. С матерью жили в маленькой 6-метровой комнатке, рядом злобные родственники, недовольные нищетой. Отец прошел войну, но они уже не жили с мамой. Я его не помню, вернее, смутно: в ночи мужчина положил куклу на мою кровать. Мама, естественно, хотела устроить жизнь. И я, маленькая, конечно, была посвящена в эти дела. И, став девушкой, я панически этого избегала. Мне нужно было зажечь сердце, чтобы я захотела встречаться. Сегодняшние молодые не поверят, но я впервые поцеловалась в 20 лет, и мне не понравилось. Да, я влюблялась. С отцом своего сына я рассталась, потому что это был для меня «второй ребенок». Тем более он ревновал к сыну, который очень болел. Требовал, чтобы я ушла с работы. Пришлось расстаться, иначе мы просто убили бы друг друга. Я — Водолей и терплю до последнего. А потом рву навсегда: «Боливар не выдержит двоих». И я должна была поднять ребенка. А потом работа-работа. Сын вырос, и сейчас живу с блаженной, счастливой мыслью: «Ну вот. Я наконец-то принадлежу театру». Меня не волнует одиночество. Если бы вы знали, как ярок мой роман со зрительным залом!
— Я читала, что вы называете своей родиной Полярную звезду...
— Да, это мои фантазии. Я одна в своей конфессии (смеется). Люблю разговаривать с ней. Верю, что все не просто так в этой жизни. Я не могу себе представить рай. Если бы представила, то это был бы булгаковский затененный сад с бесконечными рядами книг. Какой еще рай должен быть? Верю, что наше существование на Земле не конечное. Полярная звезда — центр, это константа, которая находится на одном месте. Мы все вокруг нее. И на другом энергетическом уровне мы продолжимся. Суть моего пребывания на этой земле — накопить больше энергии, больше объема, чтобы уйти в космос насыщенной частицей.
Елена Маркелова, «Известия» (Саратов), 28.06.2013
Дата публикации: 07.01.2014