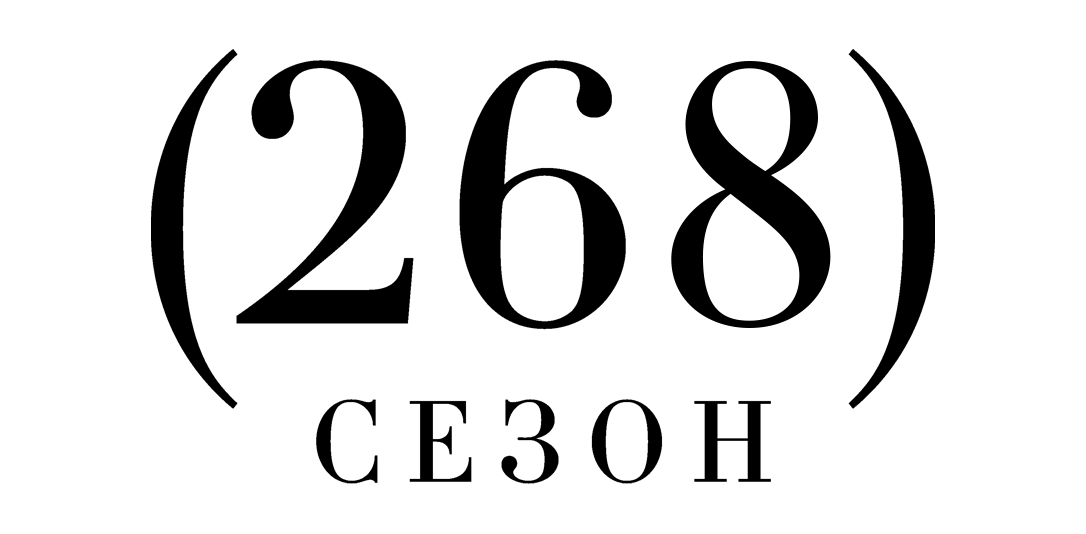Новости
ОН ТВОРИЛ ЧУДЕСА

ОН ТВОРИЛ ЧУДЕСА
ОН ТВОРИЛ ЧУДЕСА
Народная артистка России Татьяна Александровна Еремеева – о режиссёре Борисе Равенских
27 июня 2012 года исполнилось 100 лет со дня рождения Народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, профессора, выдающегося театрального режиссера Бориса Ивановича Равенских. Его лучшие спектакли вошли в историю русского театра. Это всенародно любимая «Свадьба с приданым», толстовская «Власть тьмы», «Царь Федор Иоаннович», «Возвращение на круги своя». Будучи много лет главным режиссером Пушкинского и Малого театров, Борис Иванович внес большой вклад в развитие театрального искусства нашей страны.
Журнал «Театральный мир» продолжает публикацию уникальных интервью о «сильнейшем таланте эпохи», последнем любимом ученике Всеволода Мейерхольда. Эти беседы с современниками режиссера - признанными мастерами российского театра, работавшими с ним в разные периоды жизни, - принадлежат семейному архиву Бориса Равенских и собирались долгие годы. Борис Иванович никогда не вел дневников и не писал о себе книг. Поэтому свидетельства его современников бесценны. В них речь пойдет о самом важном - о том, как идеи времени претворяются в творчестве отдельного художника.
Борис Равенских был убежден: «Театр должен сильно воздействовать на зрителя, быть сотворцом жизни. А может рискнуть и на большее - предвосхищать будущее».
Память о моем отце - самое дорогое, что у меня есть. К его столетнему юбилею я хочу опубликовать беседы с теми, кто долгие годы хранит благодарную память о большом художнике, размышляя о его драматической судьбе и о ее сопричастности судьбе национального театра.
- Татьяна Александровна, я так долго думала, как бы нам с Вами оживить воспоминания о дорогих нам людях. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы искренне поделились тем, что хранит Ваша память. Однажды я наткнулась на удивительное признание Игоря Владимировича Ильинского о Борисе Равенских. Он пишет: «Я счастлив, что любил его». Так не скажет ни искусствовед, ни писатель. Так, наверное, может сказать только художник, актер. Я подумала, может быть, любовь к Толстому роднила их многие годы? Почему они так долго находили общий язык и никогда не предавали друг друга, как Вы думаете?
- Боже мой! Поделиться воспоминаниями и размышлять над тем, о чем думал Игорь Владимирович, я могу очень долго. Воспоминания гложут. Игорь Владимирович не мог сразу дружить. Ему необходимо было очень хорошо узнать человека. У него было мало серьезных друзей. Он редко вступал в беседы, был очень осторожен в общении с людьми. А Бориса Ивановича он понял, познав трудности его театральной жизни. Ведь Равенских было трудно пробиться к признанию. Он был человеком тяжелой судьбы, кочевал по разным театральным коллективам, но мне кажется - именно в Малом театре в своей поразительной работе «Власть тьмы» Равенских сполна выразил свое творческое нутро. Спектакль этот просто нельзя забыть. Прочитав «залежавшуюся» пьесу Толстого, которая пугала коллектив Малого театра своей мрачностью, режиссер создал спектакль о победе света над тьмой, о торжестве христианских призывов к добру. «Власть тьмы» хотели сначала закрыть. И Пашенная, и Гоголева, и многие другие выступали против спектакля. И только когда пришли толстовцы - сотрудники музеев и, посмотрев, сказали «браво!», всем пришлось замолкнуть. Спектакль пошел.
- Борис Иванович иногда будил вас телефонными звонками и подолгу ночами разговаривал с Вами. О чем?
-О многом. Например, когда я хотела уходить с роли Софьи Андреевны, потому что меня обвиняли в том, что в ней много жестокости и нет никакой сердечности, Борис Иванович сказал: «Потерпите. Мы посмотрим». Но пообещал, что кого-то введет. Прошел день-два. Звонок: «Танечка, если ты меня не послушаешься, я буду жаловаться твоему сыну Володьке. Лучше вернись на роль пока не поздно. Как твоему Игорю привыкать к новой партнерше? Он же с тобой - живой. А если ты уйдешь и с ним будет другая, как он будет смотреть на нее?»
-А почему Игорь Владимирович несколько раз прерывал репетиции, останавливая работу, а потом с трудом возвращался?
- Он все время мучился вопросом, почему он - Толстой? Пьеса ему казалась странной, это очень сложный материал. Ильинский долго работал, но потом сказал: «Нет, я не могу играть Толстого». И ушел. И надо было быть Борисом Ивановичем, чтобы его понять.
- Равенских был терпелив с Игорем Владимировичем и уговаривал его, не правда ли?
- Когда у Бориса Ивановича было хорошее настроение и творческий подъем, он творил чудеса. Никогда не забуду и всегда рассказываю, как он делал финал спектакля «Возвращение на круги своя».
-Расскажите.
- Идет репетиция. Борису Ивановичу как будто скучно. Вдруг он заволновался и на одном дыхании родил этот незабываемый финал. Его было не остановить, это был поток его вдохновения. Он говорит: «Подождите, Игорь Владимирович, подождите». Пауза. Кричит: «Позовите костюмеров, пусть принесут шубу Ильинскому!» Проходит минута ожидания. Приносят. «Игорь Владимирович, надевайте шубу. Идите вперед, на зал. Прямо, прямо, на самый край сцены. Начинайте говорить свой последний текст». - «Осветители, зажигайте прожектор. Прибавляйте, прибавляйте свет на лицо Ильинского! Еще, еще! Как можете! Когда он схватиться за сердце, начинайте потихоньку глушить свет. Гасите, гасите. Оставляйте только лицо, чтобы я видел только глаза. Лоб. И потом тушите все. Это и будет финал». Этот великий финал рождался при мне. Когда он все это делал, я стояла за кулисами не дыша. Мне даже стало плохо. Такой был внутренний подъем. Равенских как будто постиг главный смысл пьесы. Ведь он вымарал у Друцэ весь финал, где Толстой умирает в кровати, возле него врач... Равенских сказал: «Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы он остался живой». Так и сделал. Это было совершенно неожиданно и удивительно. До последней минуты Толстой был живым. Какая глубина! Человек на ваших глазах умирал стоя. Толстой до последней минуты был Толстой. Перед этим шла моя сцена, где я читаю прощальное письмо Толстого, и каждый спектакль, убегая со сцены, я смотрела этот финал. Просто невозможно было не смотреть и не слушать эту сцену.
Уговаривая меня остаться на роли, Борис Иванович говорил: «Таня, я придумал. Ты будешь читать прощальное письмо Льва Николаевича. Этого в пьесе нет. Я нашел это письмо. Ты будешь его читать и после этого побежишь топиться». Так это и было в спектакле. Я начинала произносить строки письма на первом плане, а он помогал: «Так, тихо, спокойно. Читай, читай медленно. Когда дойдешь до конца - минута страшной растерянности, и вдруг бросаешься куда-то бежать. Натыкаешься на сидящего нищего, испугалась: это та минута, когда Софья Андреевна вспоминает, что есть последователи, которые любили Толстого; она должна об этом подумать и стремительно убежать топиться».
Когда я репетировала эту сцену, мне было безумно интересно. Я углубилась в материал! А иначе Борису Ивановичу делалось неспокойно. Он искал эти минуты высшего накала в образе. Это был удивительный мастер. Он не скоро зажигался, не любил застольный период, ему было скучно. Он любил сцену. Ему нужно было, чтобы все актеры начинали жить. Он ловил это, и тогда уже от актера заражался. Мог подсказывать, советовать: «Это не надо, лучше вот так!» Потом вдруг замолкнет. Он сам жил этими минутами. Такого режиссерского вдохновения, как было у Бориса Ивановича, я никогда больше не встречала.
- Он обижал Вас когда-нибудь на репетиции? Бывал с Вами жестоким?
- Нет. И с Игорем Владимировичем нет. Равенских заставил Ильинского полюбить роль. Когда все ушли в отпуск и мы жили на даче, Игорь Владимирович все время готовил себя к роли. Он все время думал о Толстом, бесконечно. Часто сомневался: «Я откажусь. Не могу. У меня нет толстовского ума. Нет проникновения. Это стыдно. Это грешно». Однажды Борис Иванович позвонил поздно вечером, пришел и разговаривал с Ильинским до четырех утра, не смолкая. Вселял какие-то удивительные мысли. И вдруг Игорь Владимирович говорит: «Я понял. Я буду продолжать работать».
- Я знаю, что Равенских просил играть Толстого без грима, а Ильинский не согласился.
- Да, грим искали долго. Сначала Игоря Владимировича загримировали по портрету Толстого, но когда он пришел на сцену и попробовал репетировать, Борис Иванович сказал: «Нет. Плохо. Нет Вашего лица. Есть чужое что-то. Это все не годится. Чем меньше на Вашем лице будет грима, тем лучше. И тем ближе будет Вам Толстой». И добился этого.
- Татьяна Александровна, вот такой вопрос. Борис Иванович-ученик Мейерхольда. Я читала у Игоря Владимировича о том, что, когда Равенских репетировал, было понятно, чей он ученик.
- Безусловно, Мейерхольд в Равенских многое вложил. И Борис Иванович не мог не взять то, что было у его мастера. Во-первых, внезапность решений. Например, однажды, репетируя Расплюева, Ильинский сделал паузу. И вдруг Мейерхольд кричит: «Браво! Оставьте, оставьте то, что Вы нашли!» И эта пауза многое решала в роли. Всеволод Эмильевич радовался, когда актер приносил что-то свое. Но все же он ушел от Мейерхольда, потому что последняя работа Игоря Владимировича не удовлетворила. Он сказал: «Я хочу глубины человеческой, а играть эти комические роли больше невозможно». И ушел. И два-три года был нигде. Потом пришел в Малый театр, его пригласил Судаков.
Ильинский очень переживал закрытие театра Мейерхольда. Он пришел к Всеволоду Эмильевичу и уговаривал его продолжать работать: «Придумайте что-нибудь. Найдите хорошую пьесу. Найдите свой материал и живите в нем. И к Вам вернуться все, кто от Вас ушел: Бабанова, Гарин...» Мейерхольд сказал: «Нет, сам я никуда проситься не буду». После этого он уехал в Петербург. Позже Игорь Владимирович узнал об аресте Мейерхольда. Он очень переживал эту потерю.
Когда началась реабилитация, следствие по делу Мейерхольда вел следователь Ряжский. Он знал Игоря Владимировича и сказал: «Я начну с Ильинского». Игорь Владимирович пришел к нему, они долго разговаривали. Все, что мог сказать Ильинский доброго о Всеволоде Эмильевиче, он сказал. Еще следователь позвал внучку Мейерхольда Марию Валентей. Он показал весь материал, который накопил по этому делу. Все, что должно было быть опубликовано. Когда они узнали, как били и мучили Мейерхольда в тюрьме, как его пытали, как стегали по пяткам, Валентей вдруг бросилась на шею Игорю Владимировичу и зарыдала. Они рыдали оба! Когда Ильинский пришел домой, я его не узнала: такое у него было лицо. Он лишь произнес: «Я сейчас не могу ничего рассказать». Ушел в спальню, упал на кровать и рыдал, зарывшись глубоко в подушку. Да, это было.
Игорь Владимирович долго присматривался к Борису Ивановичу, чтобы понять его внутреннюю связь со школой Мейерхольда. Весь этот подспудный материал Равенских всегда носил в себе, хотя и преломлял по- своему в работе. Он не сразу раскрывал свое видение спектакля. Он долго искал. Ему нужно было видеть актеров на сцене. Помню, как он заставлял на репетиции «Царя Федора Иоанновича» исполнительницу роли царицы Ирины Галину Кирюшину уходить далеко-далеко на задний план сцены, где выписана церковь. Ему нужно было, чтобы царица в своей борьбе за Федора искала сил в молитве. После напряженнейшего диалога с братом Борисом Годуновым, стоя на авансцене, она вдруг поворачивалась и уходила вдаль, через всю площадь к храму. Вот такие он находил неожиданно моменты.
Не все актеры могли выдерживать характер Бориса Ивановича. Некоторым делалось скучно, некоторые уставали, потому что он часто повторял одно и то же, настаивал на своем видении, не предлагая каждый день нового. Некоторые уходили от него, были и такие. Не сразу открывалась людям глубина его решений и мыслей. Но наступал момент, когда его нельзя было остановить.
После репетиций он продолжал разговаривать в раздевалке. Выходя на улицу, не мог расстаться с актерами. Когда зажигался творческий огонь между актерами, вот тут он остановиться не мог. Репетиции никогда не кончались вовремя, всегда задерживались. А опаздывал он на репетиции потому, что ему необходимо было время накопить в себе то, что он должен отдать. Репетировать с ним было очень трудно, но интересно.
Я работала с Борисом Ивановичем только один раз в спектакле «Возвращение на круги своя». Сейчас думаю, что мне нужно было быть смелее, а я не смела никогда возразить ему. Потом, когда автор и сотрудники театра посмотрели черновой прогон и спросили, почему Софья Андреевна такая сердитая, я решила уйти с роли. Чувствовала, что у меня нет в роли ни одного доброго момента. И тогда у Бориса Ивановича родилась сцена «поговорим о Ванечке». Сцена, где можно было выразить всю любовь к Толстому, где она говорит со своим великим мужем об умершем сыне. Это место было очень важно для меня. Софья Андреевна искренне хочет вернуть этим разговором Толстого к себе. А он отвечает ей сухо: «Давай поговорим». И когда в конце сцены он отворачивается и уходит, она медленно встает, идет к двери и падает в обморок. Ее мечта вернуть его к себе не воплотилась. Вот этот найденный в спектакле момент был, может быть, самым лучшим.
- Мне не казалось, Татьяна Александровна, что Ваша Софья Андреевна была строгая. Это была не строгость. Вы играли так, что ни у кого не поднялась бы рука о Вашей Софье Андреевне сказать, какая она - плохая или хорошая. Она была сложная и не пускающая в свою духовную жизнь. Ведь это дело только двоих людей. И никто не в праве их судить. Толстой говорил, что «духовная жизнь человека - это тайна самого человека». И Вы защищали тайну Софьи Андреевны. Таково было решение этого образа в спектакле. Вы не разменивались, чтобы быть добренькой, ласковой.
- Да, а вот мне было достаточно одного критического замечания Друцэ, чтобы решить, что мне необходимо все смягчать и облегчать в роли. Я понимала, что мне предстоит оправдывать все свои поступки перед Толстым, что необходимо все смягчать, чтобы он не был со мной жесток. Например, в сцене у рояля Софья Андреевна пытается объяснить Толстому, за что она дала приказ наказать его бывшего ученика Федотку. Но Толстой, выслушав ее мнение, берет свою палку и бьет прямо по роялю. Это было найдено Борисом Ивановичем. Он кричал из зала Ильинскому: «Палкой стукните прямо по клавишам!» Это был страшный момент. Я вся внутренне съеживалась.
-ТатьянаАлександровна, а какими были отношения Бориса Ивановича и его жены, Галины Кирюшиной, на репетициях?
-Она была очень послушной и безмолвной.
-А Вы общались с мамой за кулисами?
- Нет, мало.
- Мне кажется, она Вас стеснялась. Очень хотела, чтобы у Вас все получилось в роли. И вообще переживала за всех, видя, как трудно и мучительно работать над спектаклем.
- Да, трудно было всем. Игорь Владимирович поздно пришел к окончательному решению роли. И я не сразу нашла необходимую сдержанность, а это было правильнее и серьезнее. Вообще про репетиционный процесс нельзя рассказать. Он шел долго, почти два года.
- А если бы я попросила Вас назвать основное человеческое качество Бориса Ивановича, какое бы Вы назвали?
- Может быть, некоторая скрытость от общих глаз. Не общение, а внутренняя жизнь была для него главной. И она была не всем и не всегда понятна. Иногда он приходил в театр, а начать репетировать не мог. Он говорил: «Играйте, играйте. Говорите текст». А в это время сам сидел в зале и думал. Не просто сидел, а смотрел, что неверно делают актеры, что не так. Иногда казалось,' что он не подготовлен к началу работы. А это было его углубление в свои мысли. Ему было важно услышать на сцене какое-то удачное живое слово. И тогда он вдруг загорался, хватался за это слово, и в нем просыпалось желание творить. Он горел в эти минуты, становился совсем другим.
А какой он был человек? Думаю, что добрый и, безусловно, талантливый. Скрытный был. В театре не многие его понимали. Не все втягивались в его репетиционный процесс. А нужно уметь пристроиться к режиссеру спектакля, нужно понять, что для него важно. Вот это не все умели. А Бориса Ивановича нужно было чувствовать.
Вот почему он, думая о Толстом, вернулся опять к Игорю Владимировичу? Потому что Ильинский был восприимчив и жаждал режиссерской помощи. Он никогда не хотел только сам сделать роль. Ему нужно было, чтобы режиссер показал ему путь к роли. Ему было важно начало, с чего все развивается и как. Игорь Владимирович в каждой роли хотел находить в себе новое. Когда он слышал, что его называют комиком, он страдал. Он искал роли с глубокой внутренней жизнью, такие, как Аким во «Власти тьмы».
Они с Борисом Ивановичем тоже ведь в один сезон с этой пьесой не сладили. Ильинский купил себе магнитофон, тогда они только появились, поставил на даче на террасе и все время повторял роль, а потом слушал себя. Ведь у Акима очень трудный текст, бесконечные «тае не тае». Он хотел понять, как рождаются эти реплики. Поэтому его монолог, обращенный к Никите, когда Аким уходит из дома сына, так запоминается и так точно звучит. Эту драгоценную сцену ему родил Борис Иванович. Он говорил: «Вы сидите на печке и слушаете, как наслаждается жизнью Ваш сын, Никита. Сидите, сидите, потом начинаете сникать. Ниже, ниже. Подавленно склоняетесь. Потом медленно задом спускаетесь с печки. Так накапливается Ваш протест против сына». Аким узнает, кто такой его сын. И, познав, насыщаясь внутренним гневом, обрушивается на него. Он произносит самое главное: «Опамятуйся, Никита! Душа надобна!» Эта фраза звучала так внушительно, что зал не мог на это спокойно смотреть. После ухода отца Никита ложится на скамью и плачет. Все это было сотворено Равенских.
Сказать, что я любила и уважала Бориса Ивановича - это мало. Я ценила в нем это умение слиться с артистом на сцене в минуты, когда материал затягивает.
Александра Равенских
«Театральный мир» №8-9, 2012
Народная артистка России Татьяна Александровна Еремеева – о режиссёре Борисе Равенских
27 июня 2012 года исполнилось 100 лет со дня рождения Народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, профессора, выдающегося театрального режиссера Бориса Ивановича Равенских. Его лучшие спектакли вошли в историю русского театра. Это всенародно любимая «Свадьба с приданым», толстовская «Власть тьмы», «Царь Федор Иоаннович», «Возвращение на круги своя». Будучи много лет главным режиссером Пушкинского и Малого театров, Борис Иванович внес большой вклад в развитие театрального искусства нашей страны.
Журнал «Театральный мир» продолжает публикацию уникальных интервью о «сильнейшем таланте эпохи», последнем любимом ученике Всеволода Мейерхольда. Эти беседы с современниками режиссера - признанными мастерами российского театра, работавшими с ним в разные периоды жизни, - принадлежат семейному архиву Бориса Равенских и собирались долгие годы. Борис Иванович никогда не вел дневников и не писал о себе книг. Поэтому свидетельства его современников бесценны. В них речь пойдет о самом важном - о том, как идеи времени претворяются в творчестве отдельного художника.
Борис Равенских был убежден: «Театр должен сильно воздействовать на зрителя, быть сотворцом жизни. А может рискнуть и на большее - предвосхищать будущее».
Память о моем отце - самое дорогое, что у меня есть. К его столетнему юбилею я хочу опубликовать беседы с теми, кто долгие годы хранит благодарную память о большом художнике, размышляя о его драматической судьбе и о ее сопричастности судьбе национального театра.
- Татьяна Александровна, я так долго думала, как бы нам с Вами оживить воспоминания о дорогих нам людях. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы искренне поделились тем, что хранит Ваша память. Однажды я наткнулась на удивительное признание Игоря Владимировича Ильинского о Борисе Равенских. Он пишет: «Я счастлив, что любил его». Так не скажет ни искусствовед, ни писатель. Так, наверное, может сказать только художник, актер. Я подумала, может быть, любовь к Толстому роднила их многие годы? Почему они так долго находили общий язык и никогда не предавали друг друга, как Вы думаете?
- Боже мой! Поделиться воспоминаниями и размышлять над тем, о чем думал Игорь Владимирович, я могу очень долго. Воспоминания гложут. Игорь Владимирович не мог сразу дружить. Ему необходимо было очень хорошо узнать человека. У него было мало серьезных друзей. Он редко вступал в беседы, был очень осторожен в общении с людьми. А Бориса Ивановича он понял, познав трудности его театральной жизни. Ведь Равенских было трудно пробиться к признанию. Он был человеком тяжелой судьбы, кочевал по разным театральным коллективам, но мне кажется - именно в Малом театре в своей поразительной работе «Власть тьмы» Равенских сполна выразил свое творческое нутро. Спектакль этот просто нельзя забыть. Прочитав «залежавшуюся» пьесу Толстого, которая пугала коллектив Малого театра своей мрачностью, режиссер создал спектакль о победе света над тьмой, о торжестве христианских призывов к добру. «Власть тьмы» хотели сначала закрыть. И Пашенная, и Гоголева, и многие другие выступали против спектакля. И только когда пришли толстовцы - сотрудники музеев и, посмотрев, сказали «браво!», всем пришлось замолкнуть. Спектакль пошел.
- Борис Иванович иногда будил вас телефонными звонками и подолгу ночами разговаривал с Вами. О чем?
-О многом. Например, когда я хотела уходить с роли Софьи Андреевны, потому что меня обвиняли в том, что в ней много жестокости и нет никакой сердечности, Борис Иванович сказал: «Потерпите. Мы посмотрим». Но пообещал, что кого-то введет. Прошел день-два. Звонок: «Танечка, если ты меня не послушаешься, я буду жаловаться твоему сыну Володьке. Лучше вернись на роль пока не поздно. Как твоему Игорю привыкать к новой партнерше? Он же с тобой - живой. А если ты уйдешь и с ним будет другая, как он будет смотреть на нее?»
-А почему Игорь Владимирович несколько раз прерывал репетиции, останавливая работу, а потом с трудом возвращался?
- Он все время мучился вопросом, почему он - Толстой? Пьеса ему казалась странной, это очень сложный материал. Ильинский долго работал, но потом сказал: «Нет, я не могу играть Толстого». И ушел. И надо было быть Борисом Ивановичем, чтобы его понять.
- Равенских был терпелив с Игорем Владимировичем и уговаривал его, не правда ли?
- Когда у Бориса Ивановича было хорошее настроение и творческий подъем, он творил чудеса. Никогда не забуду и всегда рассказываю, как он делал финал спектакля «Возвращение на круги своя».
-Расскажите.
- Идет репетиция. Борису Ивановичу как будто скучно. Вдруг он заволновался и на одном дыхании родил этот незабываемый финал. Его было не остановить, это был поток его вдохновения. Он говорит: «Подождите, Игорь Владимирович, подождите». Пауза. Кричит: «Позовите костюмеров, пусть принесут шубу Ильинскому!» Проходит минута ожидания. Приносят. «Игорь Владимирович, надевайте шубу. Идите вперед, на зал. Прямо, прямо, на самый край сцены. Начинайте говорить свой последний текст». - «Осветители, зажигайте прожектор. Прибавляйте, прибавляйте свет на лицо Ильинского! Еще, еще! Как можете! Когда он схватиться за сердце, начинайте потихоньку глушить свет. Гасите, гасите. Оставляйте только лицо, чтобы я видел только глаза. Лоб. И потом тушите все. Это и будет финал». Этот великий финал рождался при мне. Когда он все это делал, я стояла за кулисами не дыша. Мне даже стало плохо. Такой был внутренний подъем. Равенских как будто постиг главный смысл пьесы. Ведь он вымарал у Друцэ весь финал, где Толстой умирает в кровати, возле него врач... Равенских сказал: «Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы он остался живой». Так и сделал. Это было совершенно неожиданно и удивительно. До последней минуты Толстой был живым. Какая глубина! Человек на ваших глазах умирал стоя. Толстой до последней минуты был Толстой. Перед этим шла моя сцена, где я читаю прощальное письмо Толстого, и каждый спектакль, убегая со сцены, я смотрела этот финал. Просто невозможно было не смотреть и не слушать эту сцену.
Уговаривая меня остаться на роли, Борис Иванович говорил: «Таня, я придумал. Ты будешь читать прощальное письмо Льва Николаевича. Этого в пьесе нет. Я нашел это письмо. Ты будешь его читать и после этого побежишь топиться». Так это и было в спектакле. Я начинала произносить строки письма на первом плане, а он помогал: «Так, тихо, спокойно. Читай, читай медленно. Когда дойдешь до конца - минута страшной растерянности, и вдруг бросаешься куда-то бежать. Натыкаешься на сидящего нищего, испугалась: это та минута, когда Софья Андреевна вспоминает, что есть последователи, которые любили Толстого; она должна об этом подумать и стремительно убежать топиться».
Когда я репетировала эту сцену, мне было безумно интересно. Я углубилась в материал! А иначе Борису Ивановичу делалось неспокойно. Он искал эти минуты высшего накала в образе. Это был удивительный мастер. Он не скоро зажигался, не любил застольный период, ему было скучно. Он любил сцену. Ему нужно было, чтобы все актеры начинали жить. Он ловил это, и тогда уже от актера заражался. Мог подсказывать, советовать: «Это не надо, лучше вот так!» Потом вдруг замолкнет. Он сам жил этими минутами. Такого режиссерского вдохновения, как было у Бориса Ивановича, я никогда больше не встречала.
- Он обижал Вас когда-нибудь на репетиции? Бывал с Вами жестоким?
- Нет. И с Игорем Владимировичем нет. Равенских заставил Ильинского полюбить роль. Когда все ушли в отпуск и мы жили на даче, Игорь Владимирович все время готовил себя к роли. Он все время думал о Толстом, бесконечно. Часто сомневался: «Я откажусь. Не могу. У меня нет толстовского ума. Нет проникновения. Это стыдно. Это грешно». Однажды Борис Иванович позвонил поздно вечером, пришел и разговаривал с Ильинским до четырех утра, не смолкая. Вселял какие-то удивительные мысли. И вдруг Игорь Владимирович говорит: «Я понял. Я буду продолжать работать».
- Я знаю, что Равенских просил играть Толстого без грима, а Ильинский не согласился.
- Да, грим искали долго. Сначала Игоря Владимировича загримировали по портрету Толстого, но когда он пришел на сцену и попробовал репетировать, Борис Иванович сказал: «Нет. Плохо. Нет Вашего лица. Есть чужое что-то. Это все не годится. Чем меньше на Вашем лице будет грима, тем лучше. И тем ближе будет Вам Толстой». И добился этого.
- Татьяна Александровна, вот такой вопрос. Борис Иванович-ученик Мейерхольда. Я читала у Игоря Владимировича о том, что, когда Равенских репетировал, было понятно, чей он ученик.
- Безусловно, Мейерхольд в Равенских многое вложил. И Борис Иванович не мог не взять то, что было у его мастера. Во-первых, внезапность решений. Например, однажды, репетируя Расплюева, Ильинский сделал паузу. И вдруг Мейерхольд кричит: «Браво! Оставьте, оставьте то, что Вы нашли!» И эта пауза многое решала в роли. Всеволод Эмильевич радовался, когда актер приносил что-то свое. Но все же он ушел от Мейерхольда, потому что последняя работа Игоря Владимировича не удовлетворила. Он сказал: «Я хочу глубины человеческой, а играть эти комические роли больше невозможно». И ушел. И два-три года был нигде. Потом пришел в Малый театр, его пригласил Судаков.
Ильинский очень переживал закрытие театра Мейерхольда. Он пришел к Всеволоду Эмильевичу и уговаривал его продолжать работать: «Придумайте что-нибудь. Найдите хорошую пьесу. Найдите свой материал и живите в нем. И к Вам вернуться все, кто от Вас ушел: Бабанова, Гарин...» Мейерхольд сказал: «Нет, сам я никуда проситься не буду». После этого он уехал в Петербург. Позже Игорь Владимирович узнал об аресте Мейерхольда. Он очень переживал эту потерю.
Когда началась реабилитация, следствие по делу Мейерхольда вел следователь Ряжский. Он знал Игоря Владимировича и сказал: «Я начну с Ильинского». Игорь Владимирович пришел к нему, они долго разговаривали. Все, что мог сказать Ильинский доброго о Всеволоде Эмильевиче, он сказал. Еще следователь позвал внучку Мейерхольда Марию Валентей. Он показал весь материал, который накопил по этому делу. Все, что должно было быть опубликовано. Когда они узнали, как били и мучили Мейерхольда в тюрьме, как его пытали, как стегали по пяткам, Валентей вдруг бросилась на шею Игорю Владимировичу и зарыдала. Они рыдали оба! Когда Ильинский пришел домой, я его не узнала: такое у него было лицо. Он лишь произнес: «Я сейчас не могу ничего рассказать». Ушел в спальню, упал на кровать и рыдал, зарывшись глубоко в подушку. Да, это было.
Игорь Владимирович долго присматривался к Борису Ивановичу, чтобы понять его внутреннюю связь со школой Мейерхольда. Весь этот подспудный материал Равенских всегда носил в себе, хотя и преломлял по- своему в работе. Он не сразу раскрывал свое видение спектакля. Он долго искал. Ему нужно было видеть актеров на сцене. Помню, как он заставлял на репетиции «Царя Федора Иоанновича» исполнительницу роли царицы Ирины Галину Кирюшину уходить далеко-далеко на задний план сцены, где выписана церковь. Ему нужно было, чтобы царица в своей борьбе за Федора искала сил в молитве. После напряженнейшего диалога с братом Борисом Годуновым, стоя на авансцене, она вдруг поворачивалась и уходила вдаль, через всю площадь к храму. Вот такие он находил неожиданно моменты.
Не все актеры могли выдерживать характер Бориса Ивановича. Некоторым делалось скучно, некоторые уставали, потому что он часто повторял одно и то же, настаивал на своем видении, не предлагая каждый день нового. Некоторые уходили от него, были и такие. Не сразу открывалась людям глубина его решений и мыслей. Но наступал момент, когда его нельзя было остановить.
После репетиций он продолжал разговаривать в раздевалке. Выходя на улицу, не мог расстаться с актерами. Когда зажигался творческий огонь между актерами, вот тут он остановиться не мог. Репетиции никогда не кончались вовремя, всегда задерживались. А опаздывал он на репетиции потому, что ему необходимо было время накопить в себе то, что он должен отдать. Репетировать с ним было очень трудно, но интересно.
Я работала с Борисом Ивановичем только один раз в спектакле «Возвращение на круги своя». Сейчас думаю, что мне нужно было быть смелее, а я не смела никогда возразить ему. Потом, когда автор и сотрудники театра посмотрели черновой прогон и спросили, почему Софья Андреевна такая сердитая, я решила уйти с роли. Чувствовала, что у меня нет в роли ни одного доброго момента. И тогда у Бориса Ивановича родилась сцена «поговорим о Ванечке». Сцена, где можно было выразить всю любовь к Толстому, где она говорит со своим великим мужем об умершем сыне. Это место было очень важно для меня. Софья Андреевна искренне хочет вернуть этим разговором Толстого к себе. А он отвечает ей сухо: «Давай поговорим». И когда в конце сцены он отворачивается и уходит, она медленно встает, идет к двери и падает в обморок. Ее мечта вернуть его к себе не воплотилась. Вот этот найденный в спектакле момент был, может быть, самым лучшим.
- Мне не казалось, Татьяна Александровна, что Ваша Софья Андреевна была строгая. Это была не строгость. Вы играли так, что ни у кого не поднялась бы рука о Вашей Софье Андреевне сказать, какая она - плохая или хорошая. Она была сложная и не пускающая в свою духовную жизнь. Ведь это дело только двоих людей. И никто не в праве их судить. Толстой говорил, что «духовная жизнь человека - это тайна самого человека». И Вы защищали тайну Софьи Андреевны. Таково было решение этого образа в спектакле. Вы не разменивались, чтобы быть добренькой, ласковой.
- Да, а вот мне было достаточно одного критического замечания Друцэ, чтобы решить, что мне необходимо все смягчать и облегчать в роли. Я понимала, что мне предстоит оправдывать все свои поступки перед Толстым, что необходимо все смягчать, чтобы он не был со мной жесток. Например, в сцене у рояля Софья Андреевна пытается объяснить Толстому, за что она дала приказ наказать его бывшего ученика Федотку. Но Толстой, выслушав ее мнение, берет свою палку и бьет прямо по роялю. Это было найдено Борисом Ивановичем. Он кричал из зала Ильинскому: «Палкой стукните прямо по клавишам!» Это был страшный момент. Я вся внутренне съеживалась.
-ТатьянаАлександровна, а какими были отношения Бориса Ивановича и его жены, Галины Кирюшиной, на репетициях?
-Она была очень послушной и безмолвной.
-А Вы общались с мамой за кулисами?
- Нет, мало.
- Мне кажется, она Вас стеснялась. Очень хотела, чтобы у Вас все получилось в роли. И вообще переживала за всех, видя, как трудно и мучительно работать над спектаклем.
- Да, трудно было всем. Игорь Владимирович поздно пришел к окончательному решению роли. И я не сразу нашла необходимую сдержанность, а это было правильнее и серьезнее. Вообще про репетиционный процесс нельзя рассказать. Он шел долго, почти два года.
- А если бы я попросила Вас назвать основное человеческое качество Бориса Ивановича, какое бы Вы назвали?
- Может быть, некоторая скрытость от общих глаз. Не общение, а внутренняя жизнь была для него главной. И она была не всем и не всегда понятна. Иногда он приходил в театр, а начать репетировать не мог. Он говорил: «Играйте, играйте. Говорите текст». А в это время сам сидел в зале и думал. Не просто сидел, а смотрел, что неверно делают актеры, что не так. Иногда казалось,' что он не подготовлен к началу работы. А это было его углубление в свои мысли. Ему было важно услышать на сцене какое-то удачное живое слово. И тогда он вдруг загорался, хватался за это слово, и в нем просыпалось желание творить. Он горел в эти минуты, становился совсем другим.
А какой он был человек? Думаю, что добрый и, безусловно, талантливый. Скрытный был. В театре не многие его понимали. Не все втягивались в его репетиционный процесс. А нужно уметь пристроиться к режиссеру спектакля, нужно понять, что для него важно. Вот это не все умели. А Бориса Ивановича нужно было чувствовать.
Вот почему он, думая о Толстом, вернулся опять к Игорю Владимировичу? Потому что Ильинский был восприимчив и жаждал режиссерской помощи. Он никогда не хотел только сам сделать роль. Ему нужно было, чтобы режиссер показал ему путь к роли. Ему было важно начало, с чего все развивается и как. Игорь Владимирович в каждой роли хотел находить в себе новое. Когда он слышал, что его называют комиком, он страдал. Он искал роли с глубокой внутренней жизнью, такие, как Аким во «Власти тьмы».
Они с Борисом Ивановичем тоже ведь в один сезон с этой пьесой не сладили. Ильинский купил себе магнитофон, тогда они только появились, поставил на даче на террасе и все время повторял роль, а потом слушал себя. Ведь у Акима очень трудный текст, бесконечные «тае не тае». Он хотел понять, как рождаются эти реплики. Поэтому его монолог, обращенный к Никите, когда Аким уходит из дома сына, так запоминается и так точно звучит. Эту драгоценную сцену ему родил Борис Иванович. Он говорил: «Вы сидите на печке и слушаете, как наслаждается жизнью Ваш сын, Никита. Сидите, сидите, потом начинаете сникать. Ниже, ниже. Подавленно склоняетесь. Потом медленно задом спускаетесь с печки. Так накапливается Ваш протест против сына». Аким узнает, кто такой его сын. И, познав, насыщаясь внутренним гневом, обрушивается на него. Он произносит самое главное: «Опамятуйся, Никита! Душа надобна!» Эта фраза звучала так внушительно, что зал не мог на это спокойно смотреть. После ухода отца Никита ложится на скамью и плачет. Все это было сотворено Равенских.
Сказать, что я любила и уважала Бориса Ивановича - это мало. Я ценила в нем это умение слиться с артистом на сцене в минуты, когда материал затягивает.
Александра Равенских
«Театральный мир» №8-9, 2012
Дата публикации: 06.11.2012

ОН ТВОРИЛ ЧУДЕСА
Народная артистка России Татьяна Александровна Еремеева – о режиссёре Борисе Равенских
27 июня 2012 года исполнилось 100 лет со дня рождения Народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, профессора, выдающегося театрального режиссера Бориса Ивановича Равенских. Его лучшие спектакли вошли в историю русского театра. Это всенародно любимая «Свадьба с приданым», толстовская «Власть тьмы», «Царь Федор Иоаннович», «Возвращение на круги своя». Будучи много лет главным режиссером Пушкинского и Малого театров, Борис Иванович внес большой вклад в развитие театрального искусства нашей страны.
Журнал «Театральный мир» продолжает публикацию уникальных интервью о «сильнейшем таланте эпохи», последнем любимом ученике Всеволода Мейерхольда. Эти беседы с современниками режиссера - признанными мастерами российского театра, работавшими с ним в разные периоды жизни, - принадлежат семейному архиву Бориса Равенских и собирались долгие годы. Борис Иванович никогда не вел дневников и не писал о себе книг. Поэтому свидетельства его современников бесценны. В них речь пойдет о самом важном - о том, как идеи времени претворяются в творчестве отдельного художника.
Борис Равенских был убежден: «Театр должен сильно воздействовать на зрителя, быть сотворцом жизни. А может рискнуть и на большее - предвосхищать будущее».
Память о моем отце - самое дорогое, что у меня есть. К его столетнему юбилею я хочу опубликовать беседы с теми, кто долгие годы хранит благодарную память о большом художнике, размышляя о его драматической судьбе и о ее сопричастности судьбе национального театра.
- Татьяна Александровна, я так долго думала, как бы нам с Вами оживить воспоминания о дорогих нам людях. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы искренне поделились тем, что хранит Ваша память. Однажды я наткнулась на удивительное признание Игоря Владимировича Ильинского о Борисе Равенских. Он пишет: «Я счастлив, что любил его». Так не скажет ни искусствовед, ни писатель. Так, наверное, может сказать только художник, актер. Я подумала, может быть, любовь к Толстому роднила их многие годы? Почему они так долго находили общий язык и никогда не предавали друг друга, как Вы думаете?
- Боже мой! Поделиться воспоминаниями и размышлять над тем, о чем думал Игорь Владимирович, я могу очень долго. Воспоминания гложут. Игорь Владимирович не мог сразу дружить. Ему необходимо было очень хорошо узнать человека. У него было мало серьезных друзей. Он редко вступал в беседы, был очень осторожен в общении с людьми. А Бориса Ивановича он понял, познав трудности его театральной жизни. Ведь Равенских было трудно пробиться к признанию. Он был человеком тяжелой судьбы, кочевал по разным театральным коллективам, но мне кажется - именно в Малом театре в своей поразительной работе «Власть тьмы» Равенских сполна выразил свое творческое нутро. Спектакль этот просто нельзя забыть. Прочитав «залежавшуюся» пьесу Толстого, которая пугала коллектив Малого театра своей мрачностью, режиссер создал спектакль о победе света над тьмой, о торжестве христианских призывов к добру. «Власть тьмы» хотели сначала закрыть. И Пашенная, и Гоголева, и многие другие выступали против спектакля. И только когда пришли толстовцы - сотрудники музеев и, посмотрев, сказали «браво!», всем пришлось замолкнуть. Спектакль пошел.
- Борис Иванович иногда будил вас телефонными звонками и подолгу ночами разговаривал с Вами. О чем?
-О многом. Например, когда я хотела уходить с роли Софьи Андреевны, потому что меня обвиняли в том, что в ней много жестокости и нет никакой сердечности, Борис Иванович сказал: «Потерпите. Мы посмотрим». Но пообещал, что кого-то введет. Прошел день-два. Звонок: «Танечка, если ты меня не послушаешься, я буду жаловаться твоему сыну Володьке. Лучше вернись на роль пока не поздно. Как твоему Игорю привыкать к новой партнерше? Он же с тобой - живой. А если ты уйдешь и с ним будет другая, как он будет смотреть на нее?»
-А почему Игорь Владимирович несколько раз прерывал репетиции, останавливая работу, а потом с трудом возвращался?
- Он все время мучился вопросом, почему он - Толстой? Пьеса ему казалась странной, это очень сложный материал. Ильинский долго работал, но потом сказал: «Нет, я не могу играть Толстого». И ушел. И надо было быть Борисом Ивановичем, чтобы его понять.
- Равенских был терпелив с Игорем Владимировичем и уговаривал его, не правда ли?
- Когда у Бориса Ивановича было хорошее настроение и творческий подъем, он творил чудеса. Никогда не забуду и всегда рассказываю, как он делал финал спектакля «Возвращение на круги своя».
-Расскажите.
- Идет репетиция. Борису Ивановичу как будто скучно. Вдруг он заволновался и на одном дыхании родил этот незабываемый финал. Его было не остановить, это был поток его вдохновения. Он говорит: «Подождите, Игорь Владимирович, подождите». Пауза. Кричит: «Позовите костюмеров, пусть принесут шубу Ильинскому!» Проходит минута ожидания. Приносят. «Игорь Владимирович, надевайте шубу. Идите вперед, на зал. Прямо, прямо, на самый край сцены. Начинайте говорить свой последний текст». - «Осветители, зажигайте прожектор. Прибавляйте, прибавляйте свет на лицо Ильинского! Еще, еще! Как можете! Когда он схватиться за сердце, начинайте потихоньку глушить свет. Гасите, гасите. Оставляйте только лицо, чтобы я видел только глаза. Лоб. И потом тушите все. Это и будет финал». Этот великий финал рождался при мне. Когда он все это делал, я стояла за кулисами не дыша. Мне даже стало плохо. Такой был внутренний подъем. Равенских как будто постиг главный смысл пьесы. Ведь он вымарал у Друцэ весь финал, где Толстой умирает в кровати, возле него врач... Равенских сказал: «Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы он остался живой». Так и сделал. Это было совершенно неожиданно и удивительно. До последней минуты Толстой был живым. Какая глубина! Человек на ваших глазах умирал стоя. Толстой до последней минуты был Толстой. Перед этим шла моя сцена, где я читаю прощальное письмо Толстого, и каждый спектакль, убегая со сцены, я смотрела этот финал. Просто невозможно было не смотреть и не слушать эту сцену.
Уговаривая меня остаться на роли, Борис Иванович говорил: «Таня, я придумал. Ты будешь читать прощальное письмо Льва Николаевича. Этого в пьесе нет. Я нашел это письмо. Ты будешь его читать и после этого побежишь топиться». Так это и было в спектакле. Я начинала произносить строки письма на первом плане, а он помогал: «Так, тихо, спокойно. Читай, читай медленно. Когда дойдешь до конца - минута страшной растерянности, и вдруг бросаешься куда-то бежать. Натыкаешься на сидящего нищего, испугалась: это та минута, когда Софья Андреевна вспоминает, что есть последователи, которые любили Толстого; она должна об этом подумать и стремительно убежать топиться».
Когда я репетировала эту сцену, мне было безумно интересно. Я углубилась в материал! А иначе Борису Ивановичу делалось неспокойно. Он искал эти минуты высшего накала в образе. Это был удивительный мастер. Он не скоро зажигался, не любил застольный период, ему было скучно. Он любил сцену. Ему нужно было, чтобы все актеры начинали жить. Он ловил это, и тогда уже от актера заражался. Мог подсказывать, советовать: «Это не надо, лучше вот так!» Потом вдруг замолкнет. Он сам жил этими минутами. Такого режиссерского вдохновения, как было у Бориса Ивановича, я никогда больше не встречала.
- Он обижал Вас когда-нибудь на репетиции? Бывал с Вами жестоким?
- Нет. И с Игорем Владимировичем нет. Равенских заставил Ильинского полюбить роль. Когда все ушли в отпуск и мы жили на даче, Игорь Владимирович все время готовил себя к роли. Он все время думал о Толстом, бесконечно. Часто сомневался: «Я откажусь. Не могу. У меня нет толстовского ума. Нет проникновения. Это стыдно. Это грешно». Однажды Борис Иванович позвонил поздно вечером, пришел и разговаривал с Ильинским до четырех утра, не смолкая. Вселял какие-то удивительные мысли. И вдруг Игорь Владимирович говорит: «Я понял. Я буду продолжать работать».
- Я знаю, что Равенских просил играть Толстого без грима, а Ильинский не согласился.
- Да, грим искали долго. Сначала Игоря Владимировича загримировали по портрету Толстого, но когда он пришел на сцену и попробовал репетировать, Борис Иванович сказал: «Нет. Плохо. Нет Вашего лица. Есть чужое что-то. Это все не годится. Чем меньше на Вашем лице будет грима, тем лучше. И тем ближе будет Вам Толстой». И добился этого.
- Татьяна Александровна, вот такой вопрос. Борис Иванович-ученик Мейерхольда. Я читала у Игоря Владимировича о том, что, когда Равенских репетировал, было понятно, чей он ученик.
- Безусловно, Мейерхольд в Равенских многое вложил. И Борис Иванович не мог не взять то, что было у его мастера. Во-первых, внезапность решений. Например, однажды, репетируя Расплюева, Ильинский сделал паузу. И вдруг Мейерхольд кричит: «Браво! Оставьте, оставьте то, что Вы нашли!» И эта пауза многое решала в роли. Всеволод Эмильевич радовался, когда актер приносил что-то свое. Но все же он ушел от Мейерхольда, потому что последняя работа Игоря Владимировича не удовлетворила. Он сказал: «Я хочу глубины человеческой, а играть эти комические роли больше невозможно». И ушел. И два-три года был нигде. Потом пришел в Малый театр, его пригласил Судаков.
Ильинский очень переживал закрытие театра Мейерхольда. Он пришел к Всеволоду Эмильевичу и уговаривал его продолжать работать: «Придумайте что-нибудь. Найдите хорошую пьесу. Найдите свой материал и живите в нем. И к Вам вернуться все, кто от Вас ушел: Бабанова, Гарин...» Мейерхольд сказал: «Нет, сам я никуда проситься не буду». После этого он уехал в Петербург. Позже Игорь Владимирович узнал об аресте Мейерхольда. Он очень переживал эту потерю.
Когда началась реабилитация, следствие по делу Мейерхольда вел следователь Ряжский. Он знал Игоря Владимировича и сказал: «Я начну с Ильинского». Игорь Владимирович пришел к нему, они долго разговаривали. Все, что мог сказать Ильинский доброго о Всеволоде Эмильевиче, он сказал. Еще следователь позвал внучку Мейерхольда Марию Валентей. Он показал весь материал, который накопил по этому делу. Все, что должно было быть опубликовано. Когда они узнали, как били и мучили Мейерхольда в тюрьме, как его пытали, как стегали по пяткам, Валентей вдруг бросилась на шею Игорю Владимировичу и зарыдала. Они рыдали оба! Когда Ильинский пришел домой, я его не узнала: такое у него было лицо. Он лишь произнес: «Я сейчас не могу ничего рассказать». Ушел в спальню, упал на кровать и рыдал, зарывшись глубоко в подушку. Да, это было.
Игорь Владимирович долго присматривался к Борису Ивановичу, чтобы понять его внутреннюю связь со школой Мейерхольда. Весь этот подспудный материал Равенских всегда носил в себе, хотя и преломлял по- своему в работе. Он не сразу раскрывал свое видение спектакля. Он долго искал. Ему нужно было видеть актеров на сцене. Помню, как он заставлял на репетиции «Царя Федора Иоанновича» исполнительницу роли царицы Ирины Галину Кирюшину уходить далеко-далеко на задний план сцены, где выписана церковь. Ему нужно было, чтобы царица в своей борьбе за Федора искала сил в молитве. После напряженнейшего диалога с братом Борисом Годуновым, стоя на авансцене, она вдруг поворачивалась и уходила вдаль, через всю площадь к храму. Вот такие он находил неожиданно моменты.
Не все актеры могли выдерживать характер Бориса Ивановича. Некоторым делалось скучно, некоторые уставали, потому что он часто повторял одно и то же, настаивал на своем видении, не предлагая каждый день нового. Некоторые уходили от него, были и такие. Не сразу открывалась людям глубина его решений и мыслей. Но наступал момент, когда его нельзя было остановить.
После репетиций он продолжал разговаривать в раздевалке. Выходя на улицу, не мог расстаться с актерами. Когда зажигался творческий огонь между актерами, вот тут он остановиться не мог. Репетиции никогда не кончались вовремя, всегда задерживались. А опаздывал он на репетиции потому, что ему необходимо было время накопить в себе то, что он должен отдать. Репетировать с ним было очень трудно, но интересно.
Я работала с Борисом Ивановичем только один раз в спектакле «Возвращение на круги своя». Сейчас думаю, что мне нужно было быть смелее, а я не смела никогда возразить ему. Потом, когда автор и сотрудники театра посмотрели черновой прогон и спросили, почему Софья Андреевна такая сердитая, я решила уйти с роли. Чувствовала, что у меня нет в роли ни одного доброго момента. И тогда у Бориса Ивановича родилась сцена «поговорим о Ванечке». Сцена, где можно было выразить всю любовь к Толстому, где она говорит со своим великим мужем об умершем сыне. Это место было очень важно для меня. Софья Андреевна искренне хочет вернуть этим разговором Толстого к себе. А он отвечает ей сухо: «Давай поговорим». И когда в конце сцены он отворачивается и уходит, она медленно встает, идет к двери и падает в обморок. Ее мечта вернуть его к себе не воплотилась. Вот этот найденный в спектакле момент был, может быть, самым лучшим.
- Мне не казалось, Татьяна Александровна, что Ваша Софья Андреевна была строгая. Это была не строгость. Вы играли так, что ни у кого не поднялась бы рука о Вашей Софье Андреевне сказать, какая она - плохая или хорошая. Она была сложная и не пускающая в свою духовную жизнь. Ведь это дело только двоих людей. И никто не в праве их судить. Толстой говорил, что «духовная жизнь человека - это тайна самого человека». И Вы защищали тайну Софьи Андреевны. Таково было решение этого образа в спектакле. Вы не разменивались, чтобы быть добренькой, ласковой.
- Да, а вот мне было достаточно одного критического замечания Друцэ, чтобы решить, что мне необходимо все смягчать и облегчать в роли. Я понимала, что мне предстоит оправдывать все свои поступки перед Толстым, что необходимо все смягчать, чтобы он не был со мной жесток. Например, в сцене у рояля Софья Андреевна пытается объяснить Толстому, за что она дала приказ наказать его бывшего ученика Федотку. Но Толстой, выслушав ее мнение, берет свою палку и бьет прямо по роялю. Это было найдено Борисом Ивановичем. Он кричал из зала Ильинскому: «Палкой стукните прямо по клавишам!» Это был страшный момент. Я вся внутренне съеживалась.
-ТатьянаАлександровна, а какими были отношения Бориса Ивановича и его жены, Галины Кирюшиной, на репетициях?
-Она была очень послушной и безмолвной.
-А Вы общались с мамой за кулисами?
- Нет, мало.
- Мне кажется, она Вас стеснялась. Очень хотела, чтобы у Вас все получилось в роли. И вообще переживала за всех, видя, как трудно и мучительно работать над спектаклем.
- Да, трудно было всем. Игорь Владимирович поздно пришел к окончательному решению роли. И я не сразу нашла необходимую сдержанность, а это было правильнее и серьезнее. Вообще про репетиционный процесс нельзя рассказать. Он шел долго, почти два года.
- А если бы я попросила Вас назвать основное человеческое качество Бориса Ивановича, какое бы Вы назвали?
- Может быть, некоторая скрытость от общих глаз. Не общение, а внутренняя жизнь была для него главной. И она была не всем и не всегда понятна. Иногда он приходил в театр, а начать репетировать не мог. Он говорил: «Играйте, играйте. Говорите текст». А в это время сам сидел в зале и думал. Не просто сидел, а смотрел, что неверно делают актеры, что не так. Иногда казалось,' что он не подготовлен к началу работы. А это было его углубление в свои мысли. Ему было важно услышать на сцене какое-то удачное живое слово. И тогда он вдруг загорался, хватался за это слово, и в нем просыпалось желание творить. Он горел в эти минуты, становился совсем другим.
А какой он был человек? Думаю, что добрый и, безусловно, талантливый. Скрытный был. В театре не многие его понимали. Не все втягивались в его репетиционный процесс. А нужно уметь пристроиться к режиссеру спектакля, нужно понять, что для него важно. Вот это не все умели. А Бориса Ивановича нужно было чувствовать.
Вот почему он, думая о Толстом, вернулся опять к Игорю Владимировичу? Потому что Ильинский был восприимчив и жаждал режиссерской помощи. Он никогда не хотел только сам сделать роль. Ему нужно было, чтобы режиссер показал ему путь к роли. Ему было важно начало, с чего все развивается и как. Игорь Владимирович в каждой роли хотел находить в себе новое. Когда он слышал, что его называют комиком, он страдал. Он искал роли с глубокой внутренней жизнью, такие, как Аким во «Власти тьмы».
Они с Борисом Ивановичем тоже ведь в один сезон с этой пьесой не сладили. Ильинский купил себе магнитофон, тогда они только появились, поставил на даче на террасе и все время повторял роль, а потом слушал себя. Ведь у Акима очень трудный текст, бесконечные «тае не тае». Он хотел понять, как рождаются эти реплики. Поэтому его монолог, обращенный к Никите, когда Аким уходит из дома сына, так запоминается и так точно звучит. Эту драгоценную сцену ему родил Борис Иванович. Он говорил: «Вы сидите на печке и слушаете, как наслаждается жизнью Ваш сын, Никита. Сидите, сидите, потом начинаете сникать. Ниже, ниже. Подавленно склоняетесь. Потом медленно задом спускаетесь с печки. Так накапливается Ваш протест против сына». Аким узнает, кто такой его сын. И, познав, насыщаясь внутренним гневом, обрушивается на него. Он произносит самое главное: «Опамятуйся, Никита! Душа надобна!» Эта фраза звучала так внушительно, что зал не мог на это спокойно смотреть. После ухода отца Никита ложится на скамью и плачет. Все это было сотворено Равенских.
Сказать, что я любила и уважала Бориса Ивановича - это мало. Я ценила в нем это умение слиться с артистом на сцене в минуты, когда материал затягивает.
Александра Равенских
«Театральный мир» №8-9, 2012
Народная артистка России Татьяна Александровна Еремеева – о режиссёре Борисе Равенских
27 июня 2012 года исполнилось 100 лет со дня рождения Народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, профессора, выдающегося театрального режиссера Бориса Ивановича Равенских. Его лучшие спектакли вошли в историю русского театра. Это всенародно любимая «Свадьба с приданым», толстовская «Власть тьмы», «Царь Федор Иоаннович», «Возвращение на круги своя». Будучи много лет главным режиссером Пушкинского и Малого театров, Борис Иванович внес большой вклад в развитие театрального искусства нашей страны.
Журнал «Театральный мир» продолжает публикацию уникальных интервью о «сильнейшем таланте эпохи», последнем любимом ученике Всеволода Мейерхольда. Эти беседы с современниками режиссера - признанными мастерами российского театра, работавшими с ним в разные периоды жизни, - принадлежат семейному архиву Бориса Равенских и собирались долгие годы. Борис Иванович никогда не вел дневников и не писал о себе книг. Поэтому свидетельства его современников бесценны. В них речь пойдет о самом важном - о том, как идеи времени претворяются в творчестве отдельного художника.
Борис Равенских был убежден: «Театр должен сильно воздействовать на зрителя, быть сотворцом жизни. А может рискнуть и на большее - предвосхищать будущее».
Память о моем отце - самое дорогое, что у меня есть. К его столетнему юбилею я хочу опубликовать беседы с теми, кто долгие годы хранит благодарную память о большом художнике, размышляя о его драматической судьбе и о ее сопричастности судьбе национального театра.
- Татьяна Александровна, я так долго думала, как бы нам с Вами оживить воспоминания о дорогих нам людях. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы искренне поделились тем, что хранит Ваша память. Однажды я наткнулась на удивительное признание Игоря Владимировича Ильинского о Борисе Равенских. Он пишет: «Я счастлив, что любил его». Так не скажет ни искусствовед, ни писатель. Так, наверное, может сказать только художник, актер. Я подумала, может быть, любовь к Толстому роднила их многие годы? Почему они так долго находили общий язык и никогда не предавали друг друга, как Вы думаете?
- Боже мой! Поделиться воспоминаниями и размышлять над тем, о чем думал Игорь Владимирович, я могу очень долго. Воспоминания гложут. Игорь Владимирович не мог сразу дружить. Ему необходимо было очень хорошо узнать человека. У него было мало серьезных друзей. Он редко вступал в беседы, был очень осторожен в общении с людьми. А Бориса Ивановича он понял, познав трудности его театральной жизни. Ведь Равенских было трудно пробиться к признанию. Он был человеком тяжелой судьбы, кочевал по разным театральным коллективам, но мне кажется - именно в Малом театре в своей поразительной работе «Власть тьмы» Равенских сполна выразил свое творческое нутро. Спектакль этот просто нельзя забыть. Прочитав «залежавшуюся» пьесу Толстого, которая пугала коллектив Малого театра своей мрачностью, режиссер создал спектакль о победе света над тьмой, о торжестве христианских призывов к добру. «Власть тьмы» хотели сначала закрыть. И Пашенная, и Гоголева, и многие другие выступали против спектакля. И только когда пришли толстовцы - сотрудники музеев и, посмотрев, сказали «браво!», всем пришлось замолкнуть. Спектакль пошел.
- Борис Иванович иногда будил вас телефонными звонками и подолгу ночами разговаривал с Вами. О чем?
-О многом. Например, когда я хотела уходить с роли Софьи Андреевны, потому что меня обвиняли в том, что в ней много жестокости и нет никакой сердечности, Борис Иванович сказал: «Потерпите. Мы посмотрим». Но пообещал, что кого-то введет. Прошел день-два. Звонок: «Танечка, если ты меня не послушаешься, я буду жаловаться твоему сыну Володьке. Лучше вернись на роль пока не поздно. Как твоему Игорю привыкать к новой партнерше? Он же с тобой - живой. А если ты уйдешь и с ним будет другая, как он будет смотреть на нее?»
-А почему Игорь Владимирович несколько раз прерывал репетиции, останавливая работу, а потом с трудом возвращался?
- Он все время мучился вопросом, почему он - Толстой? Пьеса ему казалась странной, это очень сложный материал. Ильинский долго работал, но потом сказал: «Нет, я не могу играть Толстого». И ушел. И надо было быть Борисом Ивановичем, чтобы его понять.
- Равенских был терпелив с Игорем Владимировичем и уговаривал его, не правда ли?
- Когда у Бориса Ивановича было хорошее настроение и творческий подъем, он творил чудеса. Никогда не забуду и всегда рассказываю, как он делал финал спектакля «Возвращение на круги своя».
-Расскажите.
- Идет репетиция. Борису Ивановичу как будто скучно. Вдруг он заволновался и на одном дыхании родил этот незабываемый финал. Его было не остановить, это был поток его вдохновения. Он говорит: «Подождите, Игорь Владимирович, подождите». Пауза. Кричит: «Позовите костюмеров, пусть принесут шубу Ильинскому!» Проходит минута ожидания. Приносят. «Игорь Владимирович, надевайте шубу. Идите вперед, на зал. Прямо, прямо, на самый край сцены. Начинайте говорить свой последний текст». - «Осветители, зажигайте прожектор. Прибавляйте, прибавляйте свет на лицо Ильинского! Еще, еще! Как можете! Когда он схватиться за сердце, начинайте потихоньку глушить свет. Гасите, гасите. Оставляйте только лицо, чтобы я видел только глаза. Лоб. И потом тушите все. Это и будет финал». Этот великий финал рождался при мне. Когда он все это делал, я стояла за кулисами не дыша. Мне даже стало плохо. Такой был внутренний подъем. Равенских как будто постиг главный смысл пьесы. Ведь он вымарал у Друцэ весь финал, где Толстой умирает в кровати, возле него врач... Равенских сказал: «Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы он остался живой». Так и сделал. Это было совершенно неожиданно и удивительно. До последней минуты Толстой был живым. Какая глубина! Человек на ваших глазах умирал стоя. Толстой до последней минуты был Толстой. Перед этим шла моя сцена, где я читаю прощальное письмо Толстого, и каждый спектакль, убегая со сцены, я смотрела этот финал. Просто невозможно было не смотреть и не слушать эту сцену.
Уговаривая меня остаться на роли, Борис Иванович говорил: «Таня, я придумал. Ты будешь читать прощальное письмо Льва Николаевича. Этого в пьесе нет. Я нашел это письмо. Ты будешь его читать и после этого побежишь топиться». Так это и было в спектакле. Я начинала произносить строки письма на первом плане, а он помогал: «Так, тихо, спокойно. Читай, читай медленно. Когда дойдешь до конца - минута страшной растерянности, и вдруг бросаешься куда-то бежать. Натыкаешься на сидящего нищего, испугалась: это та минута, когда Софья Андреевна вспоминает, что есть последователи, которые любили Толстого; она должна об этом подумать и стремительно убежать топиться».
Когда я репетировала эту сцену, мне было безумно интересно. Я углубилась в материал! А иначе Борису Ивановичу делалось неспокойно. Он искал эти минуты высшего накала в образе. Это был удивительный мастер. Он не скоро зажигался, не любил застольный период, ему было скучно. Он любил сцену. Ему нужно было, чтобы все актеры начинали жить. Он ловил это, и тогда уже от актера заражался. Мог подсказывать, советовать: «Это не надо, лучше вот так!» Потом вдруг замолкнет. Он сам жил этими минутами. Такого режиссерского вдохновения, как было у Бориса Ивановича, я никогда больше не встречала.
- Он обижал Вас когда-нибудь на репетиции? Бывал с Вами жестоким?
- Нет. И с Игорем Владимировичем нет. Равенских заставил Ильинского полюбить роль. Когда все ушли в отпуск и мы жили на даче, Игорь Владимирович все время готовил себя к роли. Он все время думал о Толстом, бесконечно. Часто сомневался: «Я откажусь. Не могу. У меня нет толстовского ума. Нет проникновения. Это стыдно. Это грешно». Однажды Борис Иванович позвонил поздно вечером, пришел и разговаривал с Ильинским до четырех утра, не смолкая. Вселял какие-то удивительные мысли. И вдруг Игорь Владимирович говорит: «Я понял. Я буду продолжать работать».
- Я знаю, что Равенских просил играть Толстого без грима, а Ильинский не согласился.
- Да, грим искали долго. Сначала Игоря Владимировича загримировали по портрету Толстого, но когда он пришел на сцену и попробовал репетировать, Борис Иванович сказал: «Нет. Плохо. Нет Вашего лица. Есть чужое что-то. Это все не годится. Чем меньше на Вашем лице будет грима, тем лучше. И тем ближе будет Вам Толстой». И добился этого.
- Татьяна Александровна, вот такой вопрос. Борис Иванович-ученик Мейерхольда. Я читала у Игоря Владимировича о том, что, когда Равенских репетировал, было понятно, чей он ученик.
- Безусловно, Мейерхольд в Равенских многое вложил. И Борис Иванович не мог не взять то, что было у его мастера. Во-первых, внезапность решений. Например, однажды, репетируя Расплюева, Ильинский сделал паузу. И вдруг Мейерхольд кричит: «Браво! Оставьте, оставьте то, что Вы нашли!» И эта пауза многое решала в роли. Всеволод Эмильевич радовался, когда актер приносил что-то свое. Но все же он ушел от Мейерхольда, потому что последняя работа Игоря Владимировича не удовлетворила. Он сказал: «Я хочу глубины человеческой, а играть эти комические роли больше невозможно». И ушел. И два-три года был нигде. Потом пришел в Малый театр, его пригласил Судаков.
Ильинский очень переживал закрытие театра Мейерхольда. Он пришел к Всеволоду Эмильевичу и уговаривал его продолжать работать: «Придумайте что-нибудь. Найдите хорошую пьесу. Найдите свой материал и живите в нем. И к Вам вернуться все, кто от Вас ушел: Бабанова, Гарин...» Мейерхольд сказал: «Нет, сам я никуда проситься не буду». После этого он уехал в Петербург. Позже Игорь Владимирович узнал об аресте Мейерхольда. Он очень переживал эту потерю.
Когда началась реабилитация, следствие по делу Мейерхольда вел следователь Ряжский. Он знал Игоря Владимировича и сказал: «Я начну с Ильинского». Игорь Владимирович пришел к нему, они долго разговаривали. Все, что мог сказать Ильинский доброго о Всеволоде Эмильевиче, он сказал. Еще следователь позвал внучку Мейерхольда Марию Валентей. Он показал весь материал, который накопил по этому делу. Все, что должно было быть опубликовано. Когда они узнали, как били и мучили Мейерхольда в тюрьме, как его пытали, как стегали по пяткам, Валентей вдруг бросилась на шею Игорю Владимировичу и зарыдала. Они рыдали оба! Когда Ильинский пришел домой, я его не узнала: такое у него было лицо. Он лишь произнес: «Я сейчас не могу ничего рассказать». Ушел в спальню, упал на кровать и рыдал, зарывшись глубоко в подушку. Да, это было.
Игорь Владимирович долго присматривался к Борису Ивановичу, чтобы понять его внутреннюю связь со школой Мейерхольда. Весь этот подспудный материал Равенских всегда носил в себе, хотя и преломлял по- своему в работе. Он не сразу раскрывал свое видение спектакля. Он долго искал. Ему нужно было видеть актеров на сцене. Помню, как он заставлял на репетиции «Царя Федора Иоанновича» исполнительницу роли царицы Ирины Галину Кирюшину уходить далеко-далеко на задний план сцены, где выписана церковь. Ему нужно было, чтобы царица в своей борьбе за Федора искала сил в молитве. После напряженнейшего диалога с братом Борисом Годуновым, стоя на авансцене, она вдруг поворачивалась и уходила вдаль, через всю площадь к храму. Вот такие он находил неожиданно моменты.
Не все актеры могли выдерживать характер Бориса Ивановича. Некоторым делалось скучно, некоторые уставали, потому что он часто повторял одно и то же, настаивал на своем видении, не предлагая каждый день нового. Некоторые уходили от него, были и такие. Не сразу открывалась людям глубина его решений и мыслей. Но наступал момент, когда его нельзя было остановить.
После репетиций он продолжал разговаривать в раздевалке. Выходя на улицу, не мог расстаться с актерами. Когда зажигался творческий огонь между актерами, вот тут он остановиться не мог. Репетиции никогда не кончались вовремя, всегда задерживались. А опаздывал он на репетиции потому, что ему необходимо было время накопить в себе то, что он должен отдать. Репетировать с ним было очень трудно, но интересно.
Я работала с Борисом Ивановичем только один раз в спектакле «Возвращение на круги своя». Сейчас думаю, что мне нужно было быть смелее, а я не смела никогда возразить ему. Потом, когда автор и сотрудники театра посмотрели черновой прогон и спросили, почему Софья Андреевна такая сердитая, я решила уйти с роли. Чувствовала, что у меня нет в роли ни одного доброго момента. И тогда у Бориса Ивановича родилась сцена «поговорим о Ванечке». Сцена, где можно было выразить всю любовь к Толстому, где она говорит со своим великим мужем об умершем сыне. Это место было очень важно для меня. Софья Андреевна искренне хочет вернуть этим разговором Толстого к себе. А он отвечает ей сухо: «Давай поговорим». И когда в конце сцены он отворачивается и уходит, она медленно встает, идет к двери и падает в обморок. Ее мечта вернуть его к себе не воплотилась. Вот этот найденный в спектакле момент был, может быть, самым лучшим.
- Мне не казалось, Татьяна Александровна, что Ваша Софья Андреевна была строгая. Это была не строгость. Вы играли так, что ни у кого не поднялась бы рука о Вашей Софье Андреевне сказать, какая она - плохая или хорошая. Она была сложная и не пускающая в свою духовную жизнь. Ведь это дело только двоих людей. И никто не в праве их судить. Толстой говорил, что «духовная жизнь человека - это тайна самого человека». И Вы защищали тайну Софьи Андреевны. Таково было решение этого образа в спектакле. Вы не разменивались, чтобы быть добренькой, ласковой.
- Да, а вот мне было достаточно одного критического замечания Друцэ, чтобы решить, что мне необходимо все смягчать и облегчать в роли. Я понимала, что мне предстоит оправдывать все свои поступки перед Толстым, что необходимо все смягчать, чтобы он не был со мной жесток. Например, в сцене у рояля Софья Андреевна пытается объяснить Толстому, за что она дала приказ наказать его бывшего ученика Федотку. Но Толстой, выслушав ее мнение, берет свою палку и бьет прямо по роялю. Это было найдено Борисом Ивановичем. Он кричал из зала Ильинскому: «Палкой стукните прямо по клавишам!» Это был страшный момент. Я вся внутренне съеживалась.
-ТатьянаАлександровна, а какими были отношения Бориса Ивановича и его жены, Галины Кирюшиной, на репетициях?
-Она была очень послушной и безмолвной.
-А Вы общались с мамой за кулисами?
- Нет, мало.
- Мне кажется, она Вас стеснялась. Очень хотела, чтобы у Вас все получилось в роли. И вообще переживала за всех, видя, как трудно и мучительно работать над спектаклем.
- Да, трудно было всем. Игорь Владимирович поздно пришел к окончательному решению роли. И я не сразу нашла необходимую сдержанность, а это было правильнее и серьезнее. Вообще про репетиционный процесс нельзя рассказать. Он шел долго, почти два года.
- А если бы я попросила Вас назвать основное человеческое качество Бориса Ивановича, какое бы Вы назвали?
- Может быть, некоторая скрытость от общих глаз. Не общение, а внутренняя жизнь была для него главной. И она была не всем и не всегда понятна. Иногда он приходил в театр, а начать репетировать не мог. Он говорил: «Играйте, играйте. Говорите текст». А в это время сам сидел в зале и думал. Не просто сидел, а смотрел, что неверно делают актеры, что не так. Иногда казалось,' что он не подготовлен к началу работы. А это было его углубление в свои мысли. Ему было важно услышать на сцене какое-то удачное живое слово. И тогда он вдруг загорался, хватался за это слово, и в нем просыпалось желание творить. Он горел в эти минуты, становился совсем другим.
А какой он был человек? Думаю, что добрый и, безусловно, талантливый. Скрытный был. В театре не многие его понимали. Не все втягивались в его репетиционный процесс. А нужно уметь пристроиться к режиссеру спектакля, нужно понять, что для него важно. Вот это не все умели. А Бориса Ивановича нужно было чувствовать.
Вот почему он, думая о Толстом, вернулся опять к Игорю Владимировичу? Потому что Ильинский был восприимчив и жаждал режиссерской помощи. Он никогда не хотел только сам сделать роль. Ему нужно было, чтобы режиссер показал ему путь к роли. Ему было важно начало, с чего все развивается и как. Игорь Владимирович в каждой роли хотел находить в себе новое. Когда он слышал, что его называют комиком, он страдал. Он искал роли с глубокой внутренней жизнью, такие, как Аким во «Власти тьмы».
Они с Борисом Ивановичем тоже ведь в один сезон с этой пьесой не сладили. Ильинский купил себе магнитофон, тогда они только появились, поставил на даче на террасе и все время повторял роль, а потом слушал себя. Ведь у Акима очень трудный текст, бесконечные «тае не тае». Он хотел понять, как рождаются эти реплики. Поэтому его монолог, обращенный к Никите, когда Аким уходит из дома сына, так запоминается и так точно звучит. Эту драгоценную сцену ему родил Борис Иванович. Он говорил: «Вы сидите на печке и слушаете, как наслаждается жизнью Ваш сын, Никита. Сидите, сидите, потом начинаете сникать. Ниже, ниже. Подавленно склоняетесь. Потом медленно задом спускаетесь с печки. Так накапливается Ваш протест против сына». Аким узнает, кто такой его сын. И, познав, насыщаясь внутренним гневом, обрушивается на него. Он произносит самое главное: «Опамятуйся, Никита! Душа надобна!» Эта фраза звучала так внушительно, что зал не мог на это спокойно смотреть. После ухода отца Никита ложится на скамью и плачет. Все это было сотворено Равенских.
Сказать, что я любила и уважала Бориса Ивановича - это мало. Я ценила в нем это умение слиться с артистом на сцене в минуты, когда материал затягивает.
Александра Равенских
«Театральный мир» №8-9, 2012
Дата публикации: 06.11.2012