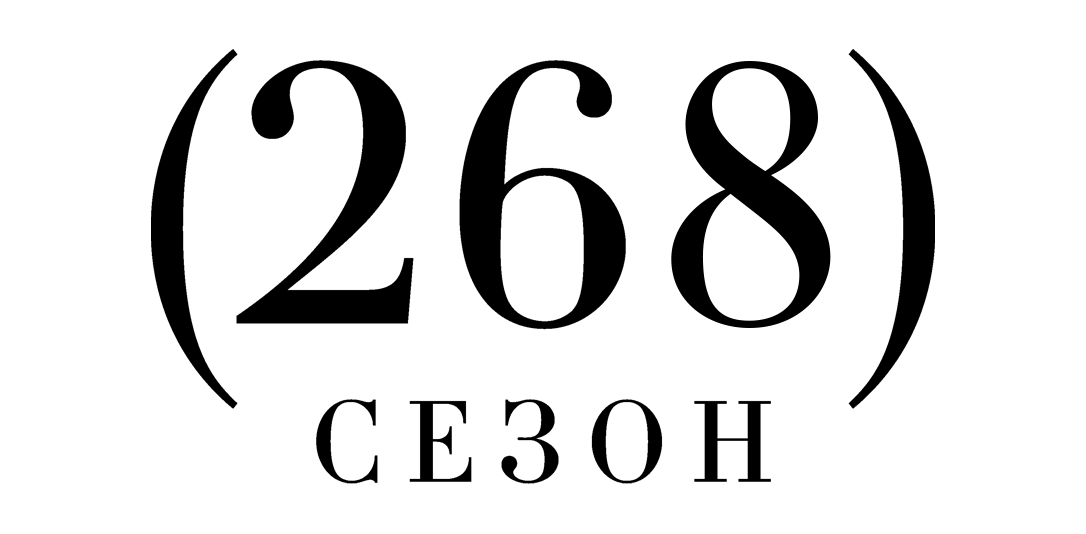Новости
ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ
ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Очерк из книги В.А.Максимовой «Театра радостные тени» (2006).
Когда Игорь Ильинский сыграл Толстого, ему было почти столько же лет, сколько русскому гению, ноябрьской ночью 1910 года совершившему загадочный уход - побег из дедовской Ясной Поляны. Ильинский уже плохо видел и слышал, боялся не запомнить текста пьесы Иона Друцэ, тем более что кроме диалогов там была пространная притча - баллада о старом Волке, который уходит из стаи; теряя силы, не хочет показать молодым свою слабость и выбирает смерть. Балладу предстояло читать Игорю Владимировичу.
Во время репетиций они ссорились - старый актер и режиссер-постановщик Равенских, человек бешеного темперамента, наивности и детскости, талантливый полубезумец, как считали в Малом театре, любя и не любя Бориса Ивановича.
Ильинский много раз просил его от роли освободить, ссылаясь на возраст и нездоровье, предупреждая, что здесь, на сцене, на репетиции, всего вероятнее, он и помрет.
Равенских уговаривал его «по-своему».
«Игорь Владимирович! - восторженно вопил он. - Вы только вспомните!.. Хмелев умер Иваном Грозным, накрытый красным царским кафтаном... Добронравов - во время спектакля в костюме и гриме царя Федора Иоановича. Вы умрете Толстым! Это же великолепно!..».
Когда ссора заходила далеко и разгневанный актер репетицию покидал, поклявшись, что ноги его здесь больше не будет, Равенских призывал «Володечку», единственного, обожаемого сына Игоря Владимировича. Шептал в темном закоулке: «Завтра еду в Ясную Поляну... Вот и билет купил... Пойду на могилу Толстого и прокляну твоего папашу, если он на репетицию не придет». Глубоко религиозный Ильинский, скрипя зубами от злости, к работе возвращался.
В Ясную Поляну они ездили вместе с Равенских и художником Кочергиным, шли знакомым путем - от знаменитых белых столбов на шоссе, округлых и крепких, чуть осевших в землю; сквозь частоту и белое мерцание березовых стволов к дому, чей силуэт известен всему миру; и дальше - к Заказу, к могиле без памятника и надгробного камня на краю оврага, под деревьями, ветви которых в вышине соединялись в купол нерукотворного, каждую весну зеленеющего храма, из земли, из сырой глины возросшего.
После премьеры в Малом Равенских уговорил Ильинского сыграть спектакль в Туле на фестивале памяти писателя - выйти Толстым на театральные подмостки в городе, где все полно памятью и знанием о великом земляке.
Мучась и отчаиваясь, прерывая репетиции и начиная их заново, Игорь Владимирович Ильинский - легендарный мейерхольдовец, давно ставший корифеем и столпом старейшей национальной щеп-кинской сцены, - догадывался, что играет последнюю в своей жизни роль. Но не знал, что сыграет великую роль.
Она была еще и самой тихой у актера. В зале Малого театра стояла такая тишина, что случайное покашливанье, шелест программки, стук оброненной сумочки казались кощунством.
...Очень знакомый человек с легкими седыми волосами и седой бородой, в черной подпоясаннной блузе, в сапогах с твердыми голенищами появлялся в осветившейся глубине сцены, шел по покатому настилу к рампе и останавливался у края ее, совсем близко к нам, зрителям. Ступая прочно и основательно, по-мужицки, он словно «пробовал» ступнями землю.
Бесстрастно и отрешенно произносил Игорь Ильинский слова притчи о старом Волке, пустившемся в свой самый трудный, последний путь. Тончайшая стилизация толстовской прозы - вот что такое была эта баллада, пронизавшая спектакль. Ничто не игралось, не изображалось. Звучало и жило в почти аскетическом слове. Достоинство и независимость Толстого, его жестокая правдивость, суровость поучающей морали.
В ясности рождавшихся фраз, в упорном обнажении смысла открывал актер масштаб Толстого - личности и художника.
А за спиной его, в глубине сцены, полукругом замыкая пространство, подымалась стена из ровных, свежеоструганных досок с проемами незатворенных дверей - прямоугольников пустоты. Тонкие стволы деревьев с голыми по-осеннему ветвями вырастали прямо из досок, тянулись вверх.
Что это была за стена? Яснополянского дома? Недаром на простых досках развесил художник Эдуард Кочергин драгоценные канделябры. Они зажигались и гасли, мерцали и, кажется, даже позванивали тонко.
Или это было живое ограждение бедного храма из ветвей и стволов, того, что встал над легендарной могилой?
Принцип, с которым художник и режиссер подошли к пьесе поэтичной и умной, но пригодной более для чтения, чем для игры, состоял в освобождении от всего отвлекающего, детального, частного.
И потому не яснополянский или хамовнический быт Толстого присутствовал в спектакле, а «формула» жизни великого человека, вместившего в себя свой век.
Вспоминая, мысленно видишь эту стену из досок медового цвета, эти прямоугольные проемы пустоты, густеющей, теряющей прозрачность, в финале не синей, а черной; видишь ветви в вышине, освобожденную от аксессуаров, почти пустую сцену и постоянно - Толстого-Ильинского на ней. Повторялась и повторялась главная, характерная поза: горделиво выпрямленная старческая фигура, руки, сомкнутые за спиной, и запрокинутая к небу седая голова Бога Саваофа.
Сложный портретный грим был отвергнут актером. Но осанка, постав головы, в которых «читались» несмиренность и вызов, мужицкое упорство шага, тихая, полная значительности речь рождали иллюзию абсолютного сходства.
Трудным для людей и страстным, бесконечно разным открывался в спектакле Толстой. Неутолимый в привязаности к живому, которое «всегда неповторимо» и «не приедается», он жадно и горестно ласкал коня Дэлира перед тем, как отослать от себя навсегда -в табун. На сцене Малого театра коня, разумеется, не было. Лишь поводья тянулись из-за досок. Но пронзительно и отчаянно играл Ильинский это прощание с любимцем, превозмогание себя, непреклонный отказ от радостей и соблазнов жизни «перед уходом».
Аристократически благовоспитанный, бесстрастный, Толстой был полон достоинства в унизительной сцене с врачом-психиатром, которого пригласили домашние, дабы убедиться, не безумен ли глава семьи?
Устав от людских восторгов, вдруг называл собственное толкование Евангелия «старческим дребезжанием». Тогда проступали опасное толстовское озорство, азарт великого спорщика, мальчишеское желание высунуть язык перед объективом надоевшего фотоаппарта.
В спектакле Толстой был запальчивым, капризным, деспотичным, неприятным - и изысканно любезным с посторонними, с гостями, по-мужски очаровательным с женщинами, нежным - с дочерьми, терпимым - с больной женой.
Он был беспощадным, когда рассказывал о крестьянине-бедняке Митрии Сударикове и павшем мерине. В яростном упорстве, нагнетая ужасные подробности, несмотря на протесты домашних, доводил рассказ до конца, рушил светскую трапезу с ее безмятежным и пустым щебетанием, равнодушием ко всему, кроме собственного комфорта. Становилось ясно, за что его называли страшным, а его правду - кричащей.
Всей жизнью артиста и чтеца связанный с великой русской литературой, Ильинский давал потрясающее ощущение речи Толстого, ее спокойных ритмов, скупых интонаций, в которых время от времени проступала привычка к публичным проповедям. Он воплощал мощь толстовского слова, добирающегося до сути.
Но и в раздумье, в самопогружении, молчаливый, неподвижный, слушающий музыку или наблюдающий людей, Толстой-Ильинский производил сильнейшее впечатление. Открывалась потаенная часть его жизни: беспокойный дух и несмиренная мысль «там, внутри». Рождалась особенная, внебытовая природа общения Толстого -не только с людьми и с самим собой, но со своим веком, вечностью, миром. Все были равными собеседниками.
Каждый раз возвращаясь от края сцены назад, в глубину, к темным проемам дверей, он подходил к ним все ближе, но медлил, собираясь с силами, как старый Волк из баллады перед прыжком. Так медлят люди на пороге небытия, дорожа последними мгновеньями жизни. Но в этих паузах Толстого-Ильинского страха смерти не было. Было сознание близкого конца и - неприятие конца. (Волк из притчи смирялся со смертью, лишь до дна израсходовав силы.)
Ильинский, Равенских и весь спектакль по-своему отвечали на вопрос, куда и зачем осенней ночью 1910-го ушел из дедовского дома его хозяин? Не исключая личных, семейных причин трагедии Толстого, спектакль не ограничивался ими.
Домашнее окружение было очерчено скупо. Каждой из фигур полагалась своя «миссия». Примиряющая - дочери Татьяне (М. Овчинникова). Союзническая, защитительная - младшей дочери Александре (Г. Кирюшина). И Софью Андреевну Толстую с ее жертвенностью, любовью, тяготами существования возле самого сложного человека эпохи, мучительными претензиями к мужу, раздражением, гневом и гордостью за него Татьяна Еремеева играла корректно и скромно, имея в виду драму и вину своей героини. Однако не от них уходил Толстой.
В спектакле, как старый могучий волк, он был «обложен» не семьей и даже не официальной царской Россией, боявшейся гения настолько, что она не решалась притеснять его.
Мукой и проклятьем Толстого был душевный разлад с собой, несовпадение идеального мечтания о скромном и чистом земном рае для людей, философии добровольного самосовершенствования с невозможностью осуществить идеал. Толстой был сыгран Ильинским не только страстно верующим, но страстно сомневающимся и приходящим в отчаянье от сомнений. Душа рвалась ввысь - мощный и трезвый разум не пускал. Вера оставалась неколебимой, а результаты ее ничтожны, смешны, осуществлены зачастую мелкими, корыстными, убогими людьми, жаждущими приобщения к славе всемирного гения. В спектакле, отделяя себя от своих последователей и толкователей, апостол говорил с высокомерием и гневом: «Я не толстовец. Я - Толстой».
С позиций толстовского всепонимания играл Ильинский большую сцену с крестьянами, с иронией принимая собственное поражение, чувствуя «тьмы и тьмы» этих Курносенковых и Клячкиных, их темноту, неистребимую в поколениях рабов корыстность, жалкую безнравственность и святой обман; тщету собственных усилий рублями и трешками, шитьем сапог и пахотой на мужицких скудных полях закрыть прорехи всенародной нищеты.
Уход был еще и последней, безнадежной попыткой проигравшего сражение бойца уже не томами проповедей, а собственным поступком достучаться до человечьих душ, доказать правоту идеи, на которую потрачена жизнь.
На протяжении всего спектакля актер и режиссер постоянно выводили своего героя за пределы, обозначенные стенами дома, -на волю, к людям, не святым, а живым и грешным. Помолодевшим и легким становился тогда Толстой.
При абсолютном отсутствии сил физических (у исполнителя и героя), Ильинский в финале играл Толстого мыслящим ясно и полным духовных сил, следуя известному его суждению о том, что человек «старится», но «не стареет».
В спектакле великий старец уходил не для того, чтобы жить, как желал, нищенствовать или трудиться в Оптиной пустыни, в поселениях толстовцев на юге России.
Толстой шел умирать, как желал. Во исполнение все еще могучей своей воли, подобно изнемогшему старому Волку, совершить последний рывок к людям, соединиться с ними и окончить земные дни не в тишине дедовской Ясной Поляны, а в миру, среди людей, в самом сердце России.
Очерк из книги В.А.Максимовой «Театра радостные тени» (2006).
Когда Игорь Ильинский сыграл Толстого, ему было почти столько же лет, сколько русскому гению, ноябрьской ночью 1910 года совершившему загадочный уход - побег из дедовской Ясной Поляны. Ильинский уже плохо видел и слышал, боялся не запомнить текста пьесы Иона Друцэ, тем более что кроме диалогов там была пространная притча - баллада о старом Волке, который уходит из стаи; теряя силы, не хочет показать молодым свою слабость и выбирает смерть. Балладу предстояло читать Игорю Владимировичу.
Во время репетиций они ссорились - старый актер и режиссер-постановщик Равенских, человек бешеного темперамента, наивности и детскости, талантливый полубезумец, как считали в Малом театре, любя и не любя Бориса Ивановича.
Ильинский много раз просил его от роли освободить, ссылаясь на возраст и нездоровье, предупреждая, что здесь, на сцене, на репетиции, всего вероятнее, он и помрет.
Равенских уговаривал его «по-своему».
«Игорь Владимирович! - восторженно вопил он. - Вы только вспомните!.. Хмелев умер Иваном Грозным, накрытый красным царским кафтаном... Добронравов - во время спектакля в костюме и гриме царя Федора Иоановича. Вы умрете Толстым! Это же великолепно!..».
Когда ссора заходила далеко и разгневанный актер репетицию покидал, поклявшись, что ноги его здесь больше не будет, Равенских призывал «Володечку», единственного, обожаемого сына Игоря Владимировича. Шептал в темном закоулке: «Завтра еду в Ясную Поляну... Вот и билет купил... Пойду на могилу Толстого и прокляну твоего папашу, если он на репетицию не придет». Глубоко религиозный Ильинский, скрипя зубами от злости, к работе возвращался.
В Ясную Поляну они ездили вместе с Равенских и художником Кочергиным, шли знакомым путем - от знаменитых белых столбов на шоссе, округлых и крепких, чуть осевших в землю; сквозь частоту и белое мерцание березовых стволов к дому, чей силуэт известен всему миру; и дальше - к Заказу, к могиле без памятника и надгробного камня на краю оврага, под деревьями, ветви которых в вышине соединялись в купол нерукотворного, каждую весну зеленеющего храма, из земли, из сырой глины возросшего.
После премьеры в Малом Равенских уговорил Ильинского сыграть спектакль в Туле на фестивале памяти писателя - выйти Толстым на театральные подмостки в городе, где все полно памятью и знанием о великом земляке.
Мучась и отчаиваясь, прерывая репетиции и начиная их заново, Игорь Владимирович Ильинский - легендарный мейерхольдовец, давно ставший корифеем и столпом старейшей национальной щеп-кинской сцены, - догадывался, что играет последнюю в своей жизни роль. Но не знал, что сыграет великую роль.
Она была еще и самой тихой у актера. В зале Малого театра стояла такая тишина, что случайное покашливанье, шелест программки, стук оброненной сумочки казались кощунством.
...Очень знакомый человек с легкими седыми волосами и седой бородой, в черной подпоясаннной блузе, в сапогах с твердыми голенищами появлялся в осветившейся глубине сцены, шел по покатому настилу к рампе и останавливался у края ее, совсем близко к нам, зрителям. Ступая прочно и основательно, по-мужицки, он словно «пробовал» ступнями землю.
Бесстрастно и отрешенно произносил Игорь Ильинский слова притчи о старом Волке, пустившемся в свой самый трудный, последний путь. Тончайшая стилизация толстовской прозы - вот что такое была эта баллада, пронизавшая спектакль. Ничто не игралось, не изображалось. Звучало и жило в почти аскетическом слове. Достоинство и независимость Толстого, его жестокая правдивость, суровость поучающей морали.
В ясности рождавшихся фраз, в упорном обнажении смысла открывал актер масштаб Толстого - личности и художника.
А за спиной его, в глубине сцены, полукругом замыкая пространство, подымалась стена из ровных, свежеоструганных досок с проемами незатворенных дверей - прямоугольников пустоты. Тонкие стволы деревьев с голыми по-осеннему ветвями вырастали прямо из досок, тянулись вверх.
Что это была за стена? Яснополянского дома? Недаром на простых досках развесил художник Эдуард Кочергин драгоценные канделябры. Они зажигались и гасли, мерцали и, кажется, даже позванивали тонко.
Или это было живое ограждение бедного храма из ветвей и стволов, того, что встал над легендарной могилой?
Принцип, с которым художник и режиссер подошли к пьесе поэтичной и умной, но пригодной более для чтения, чем для игры, состоял в освобождении от всего отвлекающего, детального, частного.
И потому не яснополянский или хамовнический быт Толстого присутствовал в спектакле, а «формула» жизни великого человека, вместившего в себя свой век.
Вспоминая, мысленно видишь эту стену из досок медового цвета, эти прямоугольные проемы пустоты, густеющей, теряющей прозрачность, в финале не синей, а черной; видишь ветви в вышине, освобожденную от аксессуаров, почти пустую сцену и постоянно - Толстого-Ильинского на ней. Повторялась и повторялась главная, характерная поза: горделиво выпрямленная старческая фигура, руки, сомкнутые за спиной, и запрокинутая к небу седая голова Бога Саваофа.
Сложный портретный грим был отвергнут актером. Но осанка, постав головы, в которых «читались» несмиренность и вызов, мужицкое упорство шага, тихая, полная значительности речь рождали иллюзию абсолютного сходства.
Трудным для людей и страстным, бесконечно разным открывался в спектакле Толстой. Неутолимый в привязаности к живому, которое «всегда неповторимо» и «не приедается», он жадно и горестно ласкал коня Дэлира перед тем, как отослать от себя навсегда -в табун. На сцене Малого театра коня, разумеется, не было. Лишь поводья тянулись из-за досок. Но пронзительно и отчаянно играл Ильинский это прощание с любимцем, превозмогание себя, непреклонный отказ от радостей и соблазнов жизни «перед уходом».
Аристократически благовоспитанный, бесстрастный, Толстой был полон достоинства в унизительной сцене с врачом-психиатром, которого пригласили домашние, дабы убедиться, не безумен ли глава семьи?
Устав от людских восторгов, вдруг называл собственное толкование Евангелия «старческим дребезжанием». Тогда проступали опасное толстовское озорство, азарт великого спорщика, мальчишеское желание высунуть язык перед объективом надоевшего фотоаппарта.
В спектакле Толстой был запальчивым, капризным, деспотичным, неприятным - и изысканно любезным с посторонними, с гостями, по-мужски очаровательным с женщинами, нежным - с дочерьми, терпимым - с больной женой.
Он был беспощадным, когда рассказывал о крестьянине-бедняке Митрии Сударикове и павшем мерине. В яростном упорстве, нагнетая ужасные подробности, несмотря на протесты домашних, доводил рассказ до конца, рушил светскую трапезу с ее безмятежным и пустым щебетанием, равнодушием ко всему, кроме собственного комфорта. Становилось ясно, за что его называли страшным, а его правду - кричащей.
Всей жизнью артиста и чтеца связанный с великой русской литературой, Ильинский давал потрясающее ощущение речи Толстого, ее спокойных ритмов, скупых интонаций, в которых время от времени проступала привычка к публичным проповедям. Он воплощал мощь толстовского слова, добирающегося до сути.
Но и в раздумье, в самопогружении, молчаливый, неподвижный, слушающий музыку или наблюдающий людей, Толстой-Ильинский производил сильнейшее впечатление. Открывалась потаенная часть его жизни: беспокойный дух и несмиренная мысль «там, внутри». Рождалась особенная, внебытовая природа общения Толстого -не только с людьми и с самим собой, но со своим веком, вечностью, миром. Все были равными собеседниками.
Каждый раз возвращаясь от края сцены назад, в глубину, к темным проемам дверей, он подходил к ним все ближе, но медлил, собираясь с силами, как старый Волк из баллады перед прыжком. Так медлят люди на пороге небытия, дорожа последними мгновеньями жизни. Но в этих паузах Толстого-Ильинского страха смерти не было. Было сознание близкого конца и - неприятие конца. (Волк из притчи смирялся со смертью, лишь до дна израсходовав силы.)
Ильинский, Равенских и весь спектакль по-своему отвечали на вопрос, куда и зачем осенней ночью 1910-го ушел из дедовского дома его хозяин? Не исключая личных, семейных причин трагедии Толстого, спектакль не ограничивался ими.
Домашнее окружение было очерчено скупо. Каждой из фигур полагалась своя «миссия». Примиряющая - дочери Татьяне (М. Овчинникова). Союзническая, защитительная - младшей дочери Александре (Г. Кирюшина). И Софью Андреевну Толстую с ее жертвенностью, любовью, тяготами существования возле самого сложного человека эпохи, мучительными претензиями к мужу, раздражением, гневом и гордостью за него Татьяна Еремеева играла корректно и скромно, имея в виду драму и вину своей героини. Однако не от них уходил Толстой.
В спектакле, как старый могучий волк, он был «обложен» не семьей и даже не официальной царской Россией, боявшейся гения настолько, что она не решалась притеснять его.
Мукой и проклятьем Толстого был душевный разлад с собой, несовпадение идеального мечтания о скромном и чистом земном рае для людей, философии добровольного самосовершенствования с невозможностью осуществить идеал. Толстой был сыгран Ильинским не только страстно верующим, но страстно сомневающимся и приходящим в отчаянье от сомнений. Душа рвалась ввысь - мощный и трезвый разум не пускал. Вера оставалась неколебимой, а результаты ее ничтожны, смешны, осуществлены зачастую мелкими, корыстными, убогими людьми, жаждущими приобщения к славе всемирного гения. В спектакле, отделяя себя от своих последователей и толкователей, апостол говорил с высокомерием и гневом: «Я не толстовец. Я - Толстой».
С позиций толстовского всепонимания играл Ильинский большую сцену с крестьянами, с иронией принимая собственное поражение, чувствуя «тьмы и тьмы» этих Курносенковых и Клячкиных, их темноту, неистребимую в поколениях рабов корыстность, жалкую безнравственность и святой обман; тщету собственных усилий рублями и трешками, шитьем сапог и пахотой на мужицких скудных полях закрыть прорехи всенародной нищеты.
Уход был еще и последней, безнадежной попыткой проигравшего сражение бойца уже не томами проповедей, а собственным поступком достучаться до человечьих душ, доказать правоту идеи, на которую потрачена жизнь.
На протяжении всего спектакля актер и режиссер постоянно выводили своего героя за пределы, обозначенные стенами дома, -на волю, к людям, не святым, а живым и грешным. Помолодевшим и легким становился тогда Толстой.
При абсолютном отсутствии сил физических (у исполнителя и героя), Ильинский в финале играл Толстого мыслящим ясно и полным духовных сил, следуя известному его суждению о том, что человек «старится», но «не стареет».
В спектакле великий старец уходил не для того, чтобы жить, как желал, нищенствовать или трудиться в Оптиной пустыни, в поселениях толстовцев на юге России.
Толстой шел умирать, как желал. Во исполнение все еще могучей своей воли, подобно изнемогшему старому Волку, совершить последний рывок к людям, соединиться с ними и окончить земные дни не в тишине дедовской Ясной Поляны, а в миру, среди людей, в самом сердце России.
Дата публикации: 24.07.2011

ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Очерк из книги В.А.Максимовой «Театра радостные тени» (2006).
Когда Игорь Ильинский сыграл Толстого, ему было почти столько же лет, сколько русскому гению, ноябрьской ночью 1910 года совершившему загадочный уход - побег из дедовской Ясной Поляны. Ильинский уже плохо видел и слышал, боялся не запомнить текста пьесы Иона Друцэ, тем более что кроме диалогов там была пространная притча - баллада о старом Волке, который уходит из стаи; теряя силы, не хочет показать молодым свою слабость и выбирает смерть. Балладу предстояло читать Игорю Владимировичу.
Во время репетиций они ссорились - старый актер и режиссер-постановщик Равенских, человек бешеного темперамента, наивности и детскости, талантливый полубезумец, как считали в Малом театре, любя и не любя Бориса Ивановича.
Ильинский много раз просил его от роли освободить, ссылаясь на возраст и нездоровье, предупреждая, что здесь, на сцене, на репетиции, всего вероятнее, он и помрет.
Равенских уговаривал его «по-своему».
«Игорь Владимирович! - восторженно вопил он. - Вы только вспомните!.. Хмелев умер Иваном Грозным, накрытый красным царским кафтаном... Добронравов - во время спектакля в костюме и гриме царя Федора Иоановича. Вы умрете Толстым! Это же великолепно!..».
Когда ссора заходила далеко и разгневанный актер репетицию покидал, поклявшись, что ноги его здесь больше не будет, Равенских призывал «Володечку», единственного, обожаемого сына Игоря Владимировича. Шептал в темном закоулке: «Завтра еду в Ясную Поляну... Вот и билет купил... Пойду на могилу Толстого и прокляну твоего папашу, если он на репетицию не придет». Глубоко религиозный Ильинский, скрипя зубами от злости, к работе возвращался.
В Ясную Поляну они ездили вместе с Равенских и художником Кочергиным, шли знакомым путем - от знаменитых белых столбов на шоссе, округлых и крепких, чуть осевших в землю; сквозь частоту и белое мерцание березовых стволов к дому, чей силуэт известен всему миру; и дальше - к Заказу, к могиле без памятника и надгробного камня на краю оврага, под деревьями, ветви которых в вышине соединялись в купол нерукотворного, каждую весну зеленеющего храма, из земли, из сырой глины возросшего.
После премьеры в Малом Равенских уговорил Ильинского сыграть спектакль в Туле на фестивале памяти писателя - выйти Толстым на театральные подмостки в городе, где все полно памятью и знанием о великом земляке.
Мучась и отчаиваясь, прерывая репетиции и начиная их заново, Игорь Владимирович Ильинский - легендарный мейерхольдовец, давно ставший корифеем и столпом старейшей национальной щеп-кинской сцены, - догадывался, что играет последнюю в своей жизни роль. Но не знал, что сыграет великую роль.
Она была еще и самой тихой у актера. В зале Малого театра стояла такая тишина, что случайное покашливанье, шелест программки, стук оброненной сумочки казались кощунством.
...Очень знакомый человек с легкими седыми волосами и седой бородой, в черной подпоясаннной блузе, в сапогах с твердыми голенищами появлялся в осветившейся глубине сцены, шел по покатому настилу к рампе и останавливался у края ее, совсем близко к нам, зрителям. Ступая прочно и основательно, по-мужицки, он словно «пробовал» ступнями землю.
Бесстрастно и отрешенно произносил Игорь Ильинский слова притчи о старом Волке, пустившемся в свой самый трудный, последний путь. Тончайшая стилизация толстовской прозы - вот что такое была эта баллада, пронизавшая спектакль. Ничто не игралось, не изображалось. Звучало и жило в почти аскетическом слове. Достоинство и независимость Толстого, его жестокая правдивость, суровость поучающей морали.
В ясности рождавшихся фраз, в упорном обнажении смысла открывал актер масштаб Толстого - личности и художника.
А за спиной его, в глубине сцены, полукругом замыкая пространство, подымалась стена из ровных, свежеоструганных досок с проемами незатворенных дверей - прямоугольников пустоты. Тонкие стволы деревьев с голыми по-осеннему ветвями вырастали прямо из досок, тянулись вверх.
Что это была за стена? Яснополянского дома? Недаром на простых досках развесил художник Эдуард Кочергин драгоценные канделябры. Они зажигались и гасли, мерцали и, кажется, даже позванивали тонко.
Или это было живое ограждение бедного храма из ветвей и стволов, того, что встал над легендарной могилой?
Принцип, с которым художник и режиссер подошли к пьесе поэтичной и умной, но пригодной более для чтения, чем для игры, состоял в освобождении от всего отвлекающего, детального, частного.
И потому не яснополянский или хамовнический быт Толстого присутствовал в спектакле, а «формула» жизни великого человека, вместившего в себя свой век.
Вспоминая, мысленно видишь эту стену из досок медового цвета, эти прямоугольные проемы пустоты, густеющей, теряющей прозрачность, в финале не синей, а черной; видишь ветви в вышине, освобожденную от аксессуаров, почти пустую сцену и постоянно - Толстого-Ильинского на ней. Повторялась и повторялась главная, характерная поза: горделиво выпрямленная старческая фигура, руки, сомкнутые за спиной, и запрокинутая к небу седая голова Бога Саваофа.
Сложный портретный грим был отвергнут актером. Но осанка, постав головы, в которых «читались» несмиренность и вызов, мужицкое упорство шага, тихая, полная значительности речь рождали иллюзию абсолютного сходства.
Трудным для людей и страстным, бесконечно разным открывался в спектакле Толстой. Неутолимый в привязаности к живому, которое «всегда неповторимо» и «не приедается», он жадно и горестно ласкал коня Дэлира перед тем, как отослать от себя навсегда -в табун. На сцене Малого театра коня, разумеется, не было. Лишь поводья тянулись из-за досок. Но пронзительно и отчаянно играл Ильинский это прощание с любимцем, превозмогание себя, непреклонный отказ от радостей и соблазнов жизни «перед уходом».
Аристократически благовоспитанный, бесстрастный, Толстой был полон достоинства в унизительной сцене с врачом-психиатром, которого пригласили домашние, дабы убедиться, не безумен ли глава семьи?
Устав от людских восторгов, вдруг называл собственное толкование Евангелия «старческим дребезжанием». Тогда проступали опасное толстовское озорство, азарт великого спорщика, мальчишеское желание высунуть язык перед объективом надоевшего фотоаппарта.
В спектакле Толстой был запальчивым, капризным, деспотичным, неприятным - и изысканно любезным с посторонними, с гостями, по-мужски очаровательным с женщинами, нежным - с дочерьми, терпимым - с больной женой.
Он был беспощадным, когда рассказывал о крестьянине-бедняке Митрии Сударикове и павшем мерине. В яростном упорстве, нагнетая ужасные подробности, несмотря на протесты домашних, доводил рассказ до конца, рушил светскую трапезу с ее безмятежным и пустым щебетанием, равнодушием ко всему, кроме собственного комфорта. Становилось ясно, за что его называли страшным, а его правду - кричащей.
Всей жизнью артиста и чтеца связанный с великой русской литературой, Ильинский давал потрясающее ощущение речи Толстого, ее спокойных ритмов, скупых интонаций, в которых время от времени проступала привычка к публичным проповедям. Он воплощал мощь толстовского слова, добирающегося до сути.
Но и в раздумье, в самопогружении, молчаливый, неподвижный, слушающий музыку или наблюдающий людей, Толстой-Ильинский производил сильнейшее впечатление. Открывалась потаенная часть его жизни: беспокойный дух и несмиренная мысль «там, внутри». Рождалась особенная, внебытовая природа общения Толстого -не только с людьми и с самим собой, но со своим веком, вечностью, миром. Все были равными собеседниками.
Каждый раз возвращаясь от края сцены назад, в глубину, к темным проемам дверей, он подходил к ним все ближе, но медлил, собираясь с силами, как старый Волк из баллады перед прыжком. Так медлят люди на пороге небытия, дорожа последними мгновеньями жизни. Но в этих паузах Толстого-Ильинского страха смерти не было. Было сознание близкого конца и - неприятие конца. (Волк из притчи смирялся со смертью, лишь до дна израсходовав силы.)
Ильинский, Равенских и весь спектакль по-своему отвечали на вопрос, куда и зачем осенней ночью 1910-го ушел из дедовского дома его хозяин? Не исключая личных, семейных причин трагедии Толстого, спектакль не ограничивался ими.
Домашнее окружение было очерчено скупо. Каждой из фигур полагалась своя «миссия». Примиряющая - дочери Татьяне (М. Овчинникова). Союзническая, защитительная - младшей дочери Александре (Г. Кирюшина). И Софью Андреевну Толстую с ее жертвенностью, любовью, тяготами существования возле самого сложного человека эпохи, мучительными претензиями к мужу, раздражением, гневом и гордостью за него Татьяна Еремеева играла корректно и скромно, имея в виду драму и вину своей героини. Однако не от них уходил Толстой.
В спектакле, как старый могучий волк, он был «обложен» не семьей и даже не официальной царской Россией, боявшейся гения настолько, что она не решалась притеснять его.
Мукой и проклятьем Толстого был душевный разлад с собой, несовпадение идеального мечтания о скромном и чистом земном рае для людей, философии добровольного самосовершенствования с невозможностью осуществить идеал. Толстой был сыгран Ильинским не только страстно верующим, но страстно сомневающимся и приходящим в отчаянье от сомнений. Душа рвалась ввысь - мощный и трезвый разум не пускал. Вера оставалась неколебимой, а результаты ее ничтожны, смешны, осуществлены зачастую мелкими, корыстными, убогими людьми, жаждущими приобщения к славе всемирного гения. В спектакле, отделяя себя от своих последователей и толкователей, апостол говорил с высокомерием и гневом: «Я не толстовец. Я - Толстой».
С позиций толстовского всепонимания играл Ильинский большую сцену с крестьянами, с иронией принимая собственное поражение, чувствуя «тьмы и тьмы» этих Курносенковых и Клячкиных, их темноту, неистребимую в поколениях рабов корыстность, жалкую безнравственность и святой обман; тщету собственных усилий рублями и трешками, шитьем сапог и пахотой на мужицких скудных полях закрыть прорехи всенародной нищеты.
Уход был еще и последней, безнадежной попыткой проигравшего сражение бойца уже не томами проповедей, а собственным поступком достучаться до человечьих душ, доказать правоту идеи, на которую потрачена жизнь.
На протяжении всего спектакля актер и режиссер постоянно выводили своего героя за пределы, обозначенные стенами дома, -на волю, к людям, не святым, а живым и грешным. Помолодевшим и легким становился тогда Толстой.
При абсолютном отсутствии сил физических (у исполнителя и героя), Ильинский в финале играл Толстого мыслящим ясно и полным духовных сил, следуя известному его суждению о том, что человек «старится», но «не стареет».
В спектакле великий старец уходил не для того, чтобы жить, как желал, нищенствовать или трудиться в Оптиной пустыни, в поселениях толстовцев на юге России.
Толстой шел умирать, как желал. Во исполнение все еще могучей своей воли, подобно изнемогшему старому Волку, совершить последний рывок к людям, соединиться с ними и окончить земные дни не в тишине дедовской Ясной Поляны, а в миру, среди людей, в самом сердце России.
Очерк из книги В.А.Максимовой «Театра радостные тени» (2006).
Когда Игорь Ильинский сыграл Толстого, ему было почти столько же лет, сколько русскому гению, ноябрьской ночью 1910 года совершившему загадочный уход - побег из дедовской Ясной Поляны. Ильинский уже плохо видел и слышал, боялся не запомнить текста пьесы Иона Друцэ, тем более что кроме диалогов там была пространная притча - баллада о старом Волке, который уходит из стаи; теряя силы, не хочет показать молодым свою слабость и выбирает смерть. Балладу предстояло читать Игорю Владимировичу.
Во время репетиций они ссорились - старый актер и режиссер-постановщик Равенских, человек бешеного темперамента, наивности и детскости, талантливый полубезумец, как считали в Малом театре, любя и не любя Бориса Ивановича.
Ильинский много раз просил его от роли освободить, ссылаясь на возраст и нездоровье, предупреждая, что здесь, на сцене, на репетиции, всего вероятнее, он и помрет.
Равенских уговаривал его «по-своему».
«Игорь Владимирович! - восторженно вопил он. - Вы только вспомните!.. Хмелев умер Иваном Грозным, накрытый красным царским кафтаном... Добронравов - во время спектакля в костюме и гриме царя Федора Иоановича. Вы умрете Толстым! Это же великолепно!..».
Когда ссора заходила далеко и разгневанный актер репетицию покидал, поклявшись, что ноги его здесь больше не будет, Равенских призывал «Володечку», единственного, обожаемого сына Игоря Владимировича. Шептал в темном закоулке: «Завтра еду в Ясную Поляну... Вот и билет купил... Пойду на могилу Толстого и прокляну твоего папашу, если он на репетицию не придет». Глубоко религиозный Ильинский, скрипя зубами от злости, к работе возвращался.
В Ясную Поляну они ездили вместе с Равенских и художником Кочергиным, шли знакомым путем - от знаменитых белых столбов на шоссе, округлых и крепких, чуть осевших в землю; сквозь частоту и белое мерцание березовых стволов к дому, чей силуэт известен всему миру; и дальше - к Заказу, к могиле без памятника и надгробного камня на краю оврага, под деревьями, ветви которых в вышине соединялись в купол нерукотворного, каждую весну зеленеющего храма, из земли, из сырой глины возросшего.
После премьеры в Малом Равенских уговорил Ильинского сыграть спектакль в Туле на фестивале памяти писателя - выйти Толстым на театральные подмостки в городе, где все полно памятью и знанием о великом земляке.
Мучась и отчаиваясь, прерывая репетиции и начиная их заново, Игорь Владимирович Ильинский - легендарный мейерхольдовец, давно ставший корифеем и столпом старейшей национальной щеп-кинской сцены, - догадывался, что играет последнюю в своей жизни роль. Но не знал, что сыграет великую роль.
Она была еще и самой тихой у актера. В зале Малого театра стояла такая тишина, что случайное покашливанье, шелест программки, стук оброненной сумочки казались кощунством.
...Очень знакомый человек с легкими седыми волосами и седой бородой, в черной подпоясаннной блузе, в сапогах с твердыми голенищами появлялся в осветившейся глубине сцены, шел по покатому настилу к рампе и останавливался у края ее, совсем близко к нам, зрителям. Ступая прочно и основательно, по-мужицки, он словно «пробовал» ступнями землю.
Бесстрастно и отрешенно произносил Игорь Ильинский слова притчи о старом Волке, пустившемся в свой самый трудный, последний путь. Тончайшая стилизация толстовской прозы - вот что такое была эта баллада, пронизавшая спектакль. Ничто не игралось, не изображалось. Звучало и жило в почти аскетическом слове. Достоинство и независимость Толстого, его жестокая правдивость, суровость поучающей морали.
В ясности рождавшихся фраз, в упорном обнажении смысла открывал актер масштаб Толстого - личности и художника.
А за спиной его, в глубине сцены, полукругом замыкая пространство, подымалась стена из ровных, свежеоструганных досок с проемами незатворенных дверей - прямоугольников пустоты. Тонкие стволы деревьев с голыми по-осеннему ветвями вырастали прямо из досок, тянулись вверх.
Что это была за стена? Яснополянского дома? Недаром на простых досках развесил художник Эдуард Кочергин драгоценные канделябры. Они зажигались и гасли, мерцали и, кажется, даже позванивали тонко.
Или это было живое ограждение бедного храма из ветвей и стволов, того, что встал над легендарной могилой?
Принцип, с которым художник и режиссер подошли к пьесе поэтичной и умной, но пригодной более для чтения, чем для игры, состоял в освобождении от всего отвлекающего, детального, частного.
И потому не яснополянский или хамовнический быт Толстого присутствовал в спектакле, а «формула» жизни великого человека, вместившего в себя свой век.
Вспоминая, мысленно видишь эту стену из досок медового цвета, эти прямоугольные проемы пустоты, густеющей, теряющей прозрачность, в финале не синей, а черной; видишь ветви в вышине, освобожденную от аксессуаров, почти пустую сцену и постоянно - Толстого-Ильинского на ней. Повторялась и повторялась главная, характерная поза: горделиво выпрямленная старческая фигура, руки, сомкнутые за спиной, и запрокинутая к небу седая голова Бога Саваофа.
Сложный портретный грим был отвергнут актером. Но осанка, постав головы, в которых «читались» несмиренность и вызов, мужицкое упорство шага, тихая, полная значительности речь рождали иллюзию абсолютного сходства.
Трудным для людей и страстным, бесконечно разным открывался в спектакле Толстой. Неутолимый в привязаности к живому, которое «всегда неповторимо» и «не приедается», он жадно и горестно ласкал коня Дэлира перед тем, как отослать от себя навсегда -в табун. На сцене Малого театра коня, разумеется, не было. Лишь поводья тянулись из-за досок. Но пронзительно и отчаянно играл Ильинский это прощание с любимцем, превозмогание себя, непреклонный отказ от радостей и соблазнов жизни «перед уходом».
Аристократически благовоспитанный, бесстрастный, Толстой был полон достоинства в унизительной сцене с врачом-психиатром, которого пригласили домашние, дабы убедиться, не безумен ли глава семьи?
Устав от людских восторгов, вдруг называл собственное толкование Евангелия «старческим дребезжанием». Тогда проступали опасное толстовское озорство, азарт великого спорщика, мальчишеское желание высунуть язык перед объективом надоевшего фотоаппарта.
В спектакле Толстой был запальчивым, капризным, деспотичным, неприятным - и изысканно любезным с посторонними, с гостями, по-мужски очаровательным с женщинами, нежным - с дочерьми, терпимым - с больной женой.
Он был беспощадным, когда рассказывал о крестьянине-бедняке Митрии Сударикове и павшем мерине. В яростном упорстве, нагнетая ужасные подробности, несмотря на протесты домашних, доводил рассказ до конца, рушил светскую трапезу с ее безмятежным и пустым щебетанием, равнодушием ко всему, кроме собственного комфорта. Становилось ясно, за что его называли страшным, а его правду - кричащей.
Всей жизнью артиста и чтеца связанный с великой русской литературой, Ильинский давал потрясающее ощущение речи Толстого, ее спокойных ритмов, скупых интонаций, в которых время от времени проступала привычка к публичным проповедям. Он воплощал мощь толстовского слова, добирающегося до сути.
Но и в раздумье, в самопогружении, молчаливый, неподвижный, слушающий музыку или наблюдающий людей, Толстой-Ильинский производил сильнейшее впечатление. Открывалась потаенная часть его жизни: беспокойный дух и несмиренная мысль «там, внутри». Рождалась особенная, внебытовая природа общения Толстого -не только с людьми и с самим собой, но со своим веком, вечностью, миром. Все были равными собеседниками.
Каждый раз возвращаясь от края сцены назад, в глубину, к темным проемам дверей, он подходил к ним все ближе, но медлил, собираясь с силами, как старый Волк из баллады перед прыжком. Так медлят люди на пороге небытия, дорожа последними мгновеньями жизни. Но в этих паузах Толстого-Ильинского страха смерти не было. Было сознание близкого конца и - неприятие конца. (Волк из притчи смирялся со смертью, лишь до дна израсходовав силы.)
Ильинский, Равенских и весь спектакль по-своему отвечали на вопрос, куда и зачем осенней ночью 1910-го ушел из дедовского дома его хозяин? Не исключая личных, семейных причин трагедии Толстого, спектакль не ограничивался ими.
Домашнее окружение было очерчено скупо. Каждой из фигур полагалась своя «миссия». Примиряющая - дочери Татьяне (М. Овчинникова). Союзническая, защитительная - младшей дочери Александре (Г. Кирюшина). И Софью Андреевну Толстую с ее жертвенностью, любовью, тяготами существования возле самого сложного человека эпохи, мучительными претензиями к мужу, раздражением, гневом и гордостью за него Татьяна Еремеева играла корректно и скромно, имея в виду драму и вину своей героини. Однако не от них уходил Толстой.
В спектакле, как старый могучий волк, он был «обложен» не семьей и даже не официальной царской Россией, боявшейся гения настолько, что она не решалась притеснять его.
Мукой и проклятьем Толстого был душевный разлад с собой, несовпадение идеального мечтания о скромном и чистом земном рае для людей, философии добровольного самосовершенствования с невозможностью осуществить идеал. Толстой был сыгран Ильинским не только страстно верующим, но страстно сомневающимся и приходящим в отчаянье от сомнений. Душа рвалась ввысь - мощный и трезвый разум не пускал. Вера оставалась неколебимой, а результаты ее ничтожны, смешны, осуществлены зачастую мелкими, корыстными, убогими людьми, жаждущими приобщения к славе всемирного гения. В спектакле, отделяя себя от своих последователей и толкователей, апостол говорил с высокомерием и гневом: «Я не толстовец. Я - Толстой».
С позиций толстовского всепонимания играл Ильинский большую сцену с крестьянами, с иронией принимая собственное поражение, чувствуя «тьмы и тьмы» этих Курносенковых и Клячкиных, их темноту, неистребимую в поколениях рабов корыстность, жалкую безнравственность и святой обман; тщету собственных усилий рублями и трешками, шитьем сапог и пахотой на мужицких скудных полях закрыть прорехи всенародной нищеты.
Уход был еще и последней, безнадежной попыткой проигравшего сражение бойца уже не томами проповедей, а собственным поступком достучаться до человечьих душ, доказать правоту идеи, на которую потрачена жизнь.
На протяжении всего спектакля актер и режиссер постоянно выводили своего героя за пределы, обозначенные стенами дома, -на волю, к людям, не святым, а живым и грешным. Помолодевшим и легким становился тогда Толстой.
При абсолютном отсутствии сил физических (у исполнителя и героя), Ильинский в финале играл Толстого мыслящим ясно и полным духовных сил, следуя известному его суждению о том, что человек «старится», но «не стареет».
В спектакле великий старец уходил не для того, чтобы жить, как желал, нищенствовать или трудиться в Оптиной пустыни, в поселениях толстовцев на юге России.
Толстой шел умирать, как желал. Во исполнение все еще могучей своей воли, подобно изнемогшему старому Волку, совершить последний рывок к людям, соединиться с ними и окончить земные дни не в тишине дедовской Ясной Поляны, а в миру, среди людей, в самом сердце России.
Дата публикации: 24.07.2011