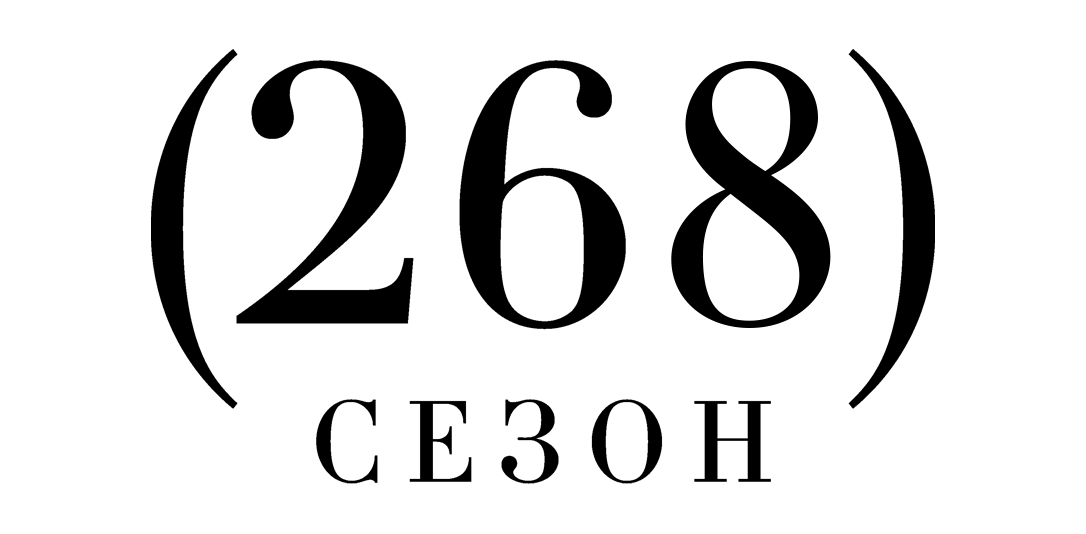Новости
«Листая старые подшивки»
КЕМ БЫЛ ЕГО ЧАЦКИЙ?

«Листая старые подшивки» КЕМ БЫЛ ЕГО ЧАЦКИЙ?
«Листая старые подшивки»
КЕМ БЫЛ ЕГО ЧАЦКИЙ?
...А сначала Никита Подгорный играл как-то застенчиво. Он играл так, будто бы не верил, что он — актер. Это актерское состояние замечательно определила Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова: по ее словам, она довольно долго чувствовала себя (на сцене) «как бы «застегнутой». Подгорный тоже застегивал себя на все «пуговицы». Играя «Привидения», он больше всего на свете опасался утратить душевное равновесие. Его эмоции выступали как «подстрочник» к словам, в облике Подгорного — Освальда, в его характере трудно было ощутить постоянную борьбу болезни и духа, которую сам Ибсен мстительно и игриво называл «драмой судьбы». Так Освальда играть не принято. Орленов и Моисеи, во всяком случае, играли именно «драму судьбы». А Подгорный спрашивал себя о другом: Освальд — талантливый человек, талантливый художник, но Художником, именно Художником, он все-таки не стал. Почему? Что помешало ему? Его жизнь (сам образ жизни)? Его болезнь?..
Запомнился финал спектакля: мрачноватый дом фру Альвинг, раннее утро, восход солнца и — Освальд, удивленно-подавленный,с молкнувший человек с оцепенелым, нелепо-мечтательным взглядом, в котором не трудно было заметить признаки начинающегося безумия. «Жизнь отошла — и, покорясь судьбе, В каком-то забытьи изнеможенья, Здесь человек лишь снится сам себе...» — очнулась в подсознании заученная когда-то строка-мысль Тютчева. Этот взгляд Освальда — Подгорного со мною до сих пор. Он просил пощады. (У кого? Зачем?) Он возвращался к переживаниям детства. Казалось даже, что Подгорный намеренно играет один из тех характеров, которые, по словам Стефана Цвейга, «недоверчиво отстраняют всякие внешние импульсы и только изнутри, из искони насажденных ростков, развивают свой духовный облик». Самое удивительное: Освальд — Подгорный стеснялся многословия. Было ощущение, что вот-вот раздастся исповедь. А он был к исповеди не готов. Не предрасположен. Отвлекусь: Софья Владимировна Гиацинтова писала, что Ганя Иволгин в исполнении Подгорного (эта роль — его кинематографический дебют) производит впечатление человека, «который украдкой смотрит на себя в зеркало». Это сам Подгорный как бы украдкой смотрел на себя в зеркало. Все они — и Освальд, и Ганя Иволгин, и, чуть позже, Чацкий -—в какой-тб мере стали его двойниками. Подгорный никогда не играл сам себя. Но он, если так можно сказать, играл через себя. Он использовал материалы своей биографии. Чтобы так тихо, с такой грустью сыграть Чацкого, надо прочесть десятки поэтических книг. Чтобы так легко, так доверчиво сыграть Угиса из пьесы «Лето младшего брата» или, скажем, Безайса в спектакле «Когда горит сердце», надо быть счастливчиком и не верить, не признаваться себе в том, что жизнь полна драматизма. И — наоборот: чтобы спустя всего несколько лет так обреченно, так... молчаливо сыграть Освальда, надо пережить переоценку ценностей, многое увидеть и многое открыть. Воистину:
С мерцающих строк бытия
Ловлю я забытую фразу...
По-другому Подгорный не умел.
Ах какой это был Чацкий! Его не с кем сравнить. С ним трудно поставить кого-нибудь рядом. «О нет, Подгорный не сумел нам рассказать о Чацком любовнике, о Чацком страстном и наивном,— писала тогда Т. Чеботаревская.— И становления этого юного характера мы не увидели... В романтическом по трактовке спектакле герой, наверное, должен был бы обладать большой романтической окрыленностью, более открытым взлетом чувств!» Да, конечно, должен был бы. Барышев и Бабятинский — дублеры Подгорного — так и играли: красноречиво, энергично, эффектно. А Подгорный был задумчив и тих. Тревожен. Слова плакали в его устах. Кем был его Чацкий? Изгоем личного счастья? Снобом? Меланхоликом? Борцом? Нет и нет. Он жил как романтический герой — ожиданием гибели. Он чувствовал, знал, что «всему конец», что жизнь близка к кульминации. Он хотел сказать последние слова. Кому? Фамусову? Молчалину? Софье? Неправда! Обращаясь к обитателям фамусовского дома, он говорил как бы сам с собой, его мысли уходили далеко-далеко, в этом доме он находился как бы формально, до поры до времени, но куда же, куда он мог бежать?..
А годы шли. Смолоду, по складу ума, Подгорный был противником «всего вулканического». Работая над ролью, он интуитивно заставлял себя «выйти за пределы непосредственного актерского переживания для того, чтобы его объяснить» (пользуюсь определением Л. С. Выготского). А чувство ответственности заставляло вдумчиво и хладнокровно относиться к тому, что поэты называли «свободным самораскрытием души».
Подгорный был наделен своеобразным конкретно-образным мышлением. Жизнь он имитировал мастерски. Любую жизненную деталь мог без труда перелить в образ своей фантазии. Когда И. Ильинский предложил ему сыграть в «Ярмарке тщеславия» роль старого генерала Тафто, Подгорный, не раздумывая, согласился. Даже обрадовался. В «Ярмарке тщеславия» он стремился к полному перевоплощению. Как никогда прежде, его волновала формальная сторона роли.
Тафто выглядел забавно, будто игрушка из папье-маше. Теперь такие куклы уже не делают. Теперь дети их презирают. Еще бы! Дремучая образина, у которой с лицом сходства едва ли не больше, чем с орнаментом на газоне в городском саду, руки ватные, ненастоящие, нога, перед каждым новым шагом выписывающая в воздухе шальные «треугольники»,— эту игрушку было жаль, ее механизм работал как-то вымученно, и она уже ни на что не годилась. Нет, Подгорный играл не плохо. Он даже не сразу узнавался. И все-таки чего-то не хватало — чего? не знаю, может быть — одухотворенности. Его, лично его, Подгорного, не хватало на сцене: его глаз, его лица, скрытого под толстым слоем грима.
Вот парадокс: если бы не было прежде Угиса, Николая («Карточный домик»), Безайса, то и жалеть, наверное, было бы не о чем. Но он с ними простился. Раз и навсегда. Шел естественный и закономерный процесс: Подгорный искал себя в новом амплуа, в новой драматургии. Сразу после «Ярмарки тщеславия» еще одна эпизодическая роль, лорд Сесил в «Веере леди Уиндермиер», потом «Маскарад», но не князь Звездич, как ждали, а — Шприх. Ремесло в своих высших проявлениях затрагивает те же струны души, что и творчество. Тафто, Сесил, Шприх — они быстро увлекли Подгорного (он не мог не увлечься), они иначе раскрыли перед ним сущность театра, сущность игры. Подгорный легко переключался из одного стиля в другой. Но чувствовалось, что ему не все дается легко, что есть минуты, за которые он платит дорогой ценой. Принципы игры почти не менялись. Подгорный не пользовался техникой перевоплощения, он пользовался техникой преображения. Он хорошо владел внешним мастерством. Он знал каким путем достигается стройность, размеренность игры, отлично чувствовал зрительный зал. И очень часто обращался со своими героями запанибрата.
Изменился с годами и Чацкий. В нем появились признаки внутренней усталости и духовной слом-ленности. Произнося в тиши ночи свой прощальный монолог, стремглав убегая из фамусовского дома, Чацкий — Подгорный уже не бежал «вон из Москвы»: с Москвой он свыкся.
Странное дело: Подгорного наперебой хвалили за характерность, которую он нашел, работая над ролью Боркина в «Иванове» (хотя сам же он признавал, что характерность ему не удалась), его хвалили за юмор, сарказм, с которым он играл щеголей-вертопрахов: Мурзавецкого в «Волках и овцах», Телятева в «Бешеных деньгах». Когда же он сыграл роль Николая Львовича Рюмина в «Дачниках», его работа почему-то прошла стороной, и в прессе не осталось ни строчки. (Толковой строчки, я имею в виду. Подгорный морщился, когда на страницах газет и журналов рядом с его фотографиями мелькали заголовки: «Загадочный мир перевоплощения», «Чудеса актера» и т.д. и т. п. Он относился к этим статьям с беспощадной иронией, он знал, что на самом деле многим из «чудес» грош цена, и поэтому не особенно жаловал театроведов, сторонился личной дружбы. Словом, недоверял.)
Подгорный дорожил ролью Рюмина. Он был ему по-человечески близок. Напоминал о прожитом.
Былое — было ли когда! Что ныне — будет ли всегда!
— вот мотив, проходивший через все сцены Рюмина — Подгорного. Мотив, рождавший ощущение трагического, которое принималось как расплата за минувшее счастье.
Снова, как прежде, Подгорный переводил роль в автобиографический план. Рюмин и сыгранный в те же годы Освальд — самые «личные» работы Подгорного. Но они застали . его уже на новом этапе. Шестидесятые годы шли на убыль. И он тоже не мог не измениться.
Но старые спектакли Подгорного не забывались. Есть такое свойство у нашей памяти: спектакли, нравившиеся когда-то, с годами становятся милее. Очаровательнее.
А когда Малый театр вернул на сцену «Горе от ума», когда в спектакле появлялся Никита Подгорный, вдруг — на секунду, на миг — забывалось, что — это другой спектакль и что теперь он играет не Чацкого, а уже Репетилова...
А.КАРАУЛОВ
«Театральная жизнь» январь 1985 г.
КЕМ БЫЛ ЕГО ЧАЦКИЙ?
...А сначала Никита Подгорный играл как-то застенчиво. Он играл так, будто бы не верил, что он — актер. Это актерское состояние замечательно определила Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова: по ее словам, она довольно долго чувствовала себя (на сцене) «как бы «застегнутой». Подгорный тоже застегивал себя на все «пуговицы». Играя «Привидения», он больше всего на свете опасался утратить душевное равновесие. Его эмоции выступали как «подстрочник» к словам, в облике Подгорного — Освальда, в его характере трудно было ощутить постоянную борьбу болезни и духа, которую сам Ибсен мстительно и игриво называл «драмой судьбы». Так Освальда играть не принято. Орленов и Моисеи, во всяком случае, играли именно «драму судьбы». А Подгорный спрашивал себя о другом: Освальд — талантливый человек, талантливый художник, но Художником, именно Художником, он все-таки не стал. Почему? Что помешало ему? Его жизнь (сам образ жизни)? Его болезнь?..
Запомнился финал спектакля: мрачноватый дом фру Альвинг, раннее утро, восход солнца и — Освальд, удивленно-подавленный,с молкнувший человек с оцепенелым, нелепо-мечтательным взглядом, в котором не трудно было заметить признаки начинающегося безумия. «Жизнь отошла — и, покорясь судьбе, В каком-то забытьи изнеможенья, Здесь человек лишь снится сам себе...» — очнулась в подсознании заученная когда-то строка-мысль Тютчева. Этот взгляд Освальда — Подгорного со мною до сих пор. Он просил пощады. (У кого? Зачем?) Он возвращался к переживаниям детства. Казалось даже, что Подгорный намеренно играет один из тех характеров, которые, по словам Стефана Цвейга, «недоверчиво отстраняют всякие внешние импульсы и только изнутри, из искони насажденных ростков, развивают свой духовный облик». Самое удивительное: Освальд — Подгорный стеснялся многословия. Было ощущение, что вот-вот раздастся исповедь. А он был к исповеди не готов. Не предрасположен. Отвлекусь: Софья Владимировна Гиацинтова писала, что Ганя Иволгин в исполнении Подгорного (эта роль — его кинематографический дебют) производит впечатление человека, «который украдкой смотрит на себя в зеркало». Это сам Подгорный как бы украдкой смотрел на себя в зеркало. Все они — и Освальд, и Ганя Иволгин, и, чуть позже, Чацкий -—в какой-тб мере стали его двойниками. Подгорный никогда не играл сам себя. Но он, если так можно сказать, играл через себя. Он использовал материалы своей биографии. Чтобы так тихо, с такой грустью сыграть Чацкого, надо прочесть десятки поэтических книг. Чтобы так легко, так доверчиво сыграть Угиса из пьесы «Лето младшего брата» или, скажем, Безайса в спектакле «Когда горит сердце», надо быть счастливчиком и не верить, не признаваться себе в том, что жизнь полна драматизма. И — наоборот: чтобы спустя всего несколько лет так обреченно, так... молчаливо сыграть Освальда, надо пережить переоценку ценностей, многое увидеть и многое открыть. Воистину:
С мерцающих строк бытия
Ловлю я забытую фразу...
По-другому Подгорный не умел.
Ах какой это был Чацкий! Его не с кем сравнить. С ним трудно поставить кого-нибудь рядом. «О нет, Подгорный не сумел нам рассказать о Чацком любовнике, о Чацком страстном и наивном,— писала тогда Т. Чеботаревская.— И становления этого юного характера мы не увидели... В романтическом по трактовке спектакле герой, наверное, должен был бы обладать большой романтической окрыленностью, более открытым взлетом чувств!» Да, конечно, должен был бы. Барышев и Бабятинский — дублеры Подгорного — так и играли: красноречиво, энергично, эффектно. А Подгорный был задумчив и тих. Тревожен. Слова плакали в его устах. Кем был его Чацкий? Изгоем личного счастья? Снобом? Меланхоликом? Борцом? Нет и нет. Он жил как романтический герой — ожиданием гибели. Он чувствовал, знал, что «всему конец», что жизнь близка к кульминации. Он хотел сказать последние слова. Кому? Фамусову? Молчалину? Софье? Неправда! Обращаясь к обитателям фамусовского дома, он говорил как бы сам с собой, его мысли уходили далеко-далеко, в этом доме он находился как бы формально, до поры до времени, но куда же, куда он мог бежать?..
А годы шли. Смолоду, по складу ума, Подгорный был противником «всего вулканического». Работая над ролью, он интуитивно заставлял себя «выйти за пределы непосредственного актерского переживания для того, чтобы его объяснить» (пользуюсь определением Л. С. Выготского). А чувство ответственности заставляло вдумчиво и хладнокровно относиться к тому, что поэты называли «свободным самораскрытием души».
Подгорный был наделен своеобразным конкретно-образным мышлением. Жизнь он имитировал мастерски. Любую жизненную деталь мог без труда перелить в образ своей фантазии. Когда И. Ильинский предложил ему сыграть в «Ярмарке тщеславия» роль старого генерала Тафто, Подгорный, не раздумывая, согласился. Даже обрадовался. В «Ярмарке тщеславия» он стремился к полному перевоплощению. Как никогда прежде, его волновала формальная сторона роли.
Тафто выглядел забавно, будто игрушка из папье-маше. Теперь такие куклы уже не делают. Теперь дети их презирают. Еще бы! Дремучая образина, у которой с лицом сходства едва ли не больше, чем с орнаментом на газоне в городском саду, руки ватные, ненастоящие, нога, перед каждым новым шагом выписывающая в воздухе шальные «треугольники»,— эту игрушку было жаль, ее механизм работал как-то вымученно, и она уже ни на что не годилась. Нет, Подгорный играл не плохо. Он даже не сразу узнавался. И все-таки чего-то не хватало — чего? не знаю, может быть — одухотворенности. Его, лично его, Подгорного, не хватало на сцене: его глаз, его лица, скрытого под толстым слоем грима.
Вот парадокс: если бы не было прежде Угиса, Николая («Карточный домик»), Безайса, то и жалеть, наверное, было бы не о чем. Но он с ними простился. Раз и навсегда. Шел естественный и закономерный процесс: Подгорный искал себя в новом амплуа, в новой драматургии. Сразу после «Ярмарки тщеславия» еще одна эпизодическая роль, лорд Сесил в «Веере леди Уиндермиер», потом «Маскарад», но не князь Звездич, как ждали, а — Шприх. Ремесло в своих высших проявлениях затрагивает те же струны души, что и творчество. Тафто, Сесил, Шприх — они быстро увлекли Подгорного (он не мог не увлечься), они иначе раскрыли перед ним сущность театра, сущность игры. Подгорный легко переключался из одного стиля в другой. Но чувствовалось, что ему не все дается легко, что есть минуты, за которые он платит дорогой ценой. Принципы игры почти не менялись. Подгорный не пользовался техникой перевоплощения, он пользовался техникой преображения. Он хорошо владел внешним мастерством. Он знал каким путем достигается стройность, размеренность игры, отлично чувствовал зрительный зал. И очень часто обращался со своими героями запанибрата.
Изменился с годами и Чацкий. В нем появились признаки внутренней усталости и духовной слом-ленности. Произнося в тиши ночи свой прощальный монолог, стремглав убегая из фамусовского дома, Чацкий — Подгорный уже не бежал «вон из Москвы»: с Москвой он свыкся.
Странное дело: Подгорного наперебой хвалили за характерность, которую он нашел, работая над ролью Боркина в «Иванове» (хотя сам же он признавал, что характерность ему не удалась), его хвалили за юмор, сарказм, с которым он играл щеголей-вертопрахов: Мурзавецкого в «Волках и овцах», Телятева в «Бешеных деньгах». Когда же он сыграл роль Николая Львовича Рюмина в «Дачниках», его работа почему-то прошла стороной, и в прессе не осталось ни строчки. (Толковой строчки, я имею в виду. Подгорный морщился, когда на страницах газет и журналов рядом с его фотографиями мелькали заголовки: «Загадочный мир перевоплощения», «Чудеса актера» и т.д. и т. п. Он относился к этим статьям с беспощадной иронией, он знал, что на самом деле многим из «чудес» грош цена, и поэтому не особенно жаловал театроведов, сторонился личной дружбы. Словом, недоверял.)
Подгорный дорожил ролью Рюмина. Он был ему по-человечески близок. Напоминал о прожитом.
Былое — было ли когда! Что ныне — будет ли всегда!
— вот мотив, проходивший через все сцены Рюмина — Подгорного. Мотив, рождавший ощущение трагического, которое принималось как расплата за минувшее счастье.
Снова, как прежде, Подгорный переводил роль в автобиографический план. Рюмин и сыгранный в те же годы Освальд — самые «личные» работы Подгорного. Но они застали . его уже на новом этапе. Шестидесятые годы шли на убыль. И он тоже не мог не измениться.
Но старые спектакли Подгорного не забывались. Есть такое свойство у нашей памяти: спектакли, нравившиеся когда-то, с годами становятся милее. Очаровательнее.
А когда Малый театр вернул на сцену «Горе от ума», когда в спектакле появлялся Никита Подгорный, вдруг — на секунду, на миг — забывалось, что — это другой спектакль и что теперь он играет не Чацкого, а уже Репетилова...
А.КАРАУЛОВ
«Театральная жизнь» январь 1985 г.
Дата публикации: 12.07.2007

«Листая старые подшивки»
КЕМ БЫЛ ЕГО ЧАЦКИЙ?
...А сначала Никита Подгорный играл как-то застенчиво. Он играл так, будто бы не верил, что он — актер. Это актерское состояние замечательно определила Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова: по ее словам, она довольно долго чувствовала себя (на сцене) «как бы «застегнутой». Подгорный тоже застегивал себя на все «пуговицы». Играя «Привидения», он больше всего на свете опасался утратить душевное равновесие. Его эмоции выступали как «подстрочник» к словам, в облике Подгорного — Освальда, в его характере трудно было ощутить постоянную борьбу болезни и духа, которую сам Ибсен мстительно и игриво называл «драмой судьбы». Так Освальда играть не принято. Орленов и Моисеи, во всяком случае, играли именно «драму судьбы». А Подгорный спрашивал себя о другом: Освальд — талантливый человек, талантливый художник, но Художником, именно Художником, он все-таки не стал. Почему? Что помешало ему? Его жизнь (сам образ жизни)? Его болезнь?..
Запомнился финал спектакля: мрачноватый дом фру Альвинг, раннее утро, восход солнца и — Освальд, удивленно-подавленный,с молкнувший человек с оцепенелым, нелепо-мечтательным взглядом, в котором не трудно было заметить признаки начинающегося безумия. «Жизнь отошла — и, покорясь судьбе, В каком-то забытьи изнеможенья, Здесь человек лишь снится сам себе...» — очнулась в подсознании заученная когда-то строка-мысль Тютчева. Этот взгляд Освальда — Подгорного со мною до сих пор. Он просил пощады. (У кого? Зачем?) Он возвращался к переживаниям детства. Казалось даже, что Подгорный намеренно играет один из тех характеров, которые, по словам Стефана Цвейга, «недоверчиво отстраняют всякие внешние импульсы и только изнутри, из искони насажденных ростков, развивают свой духовный облик». Самое удивительное: Освальд — Подгорный стеснялся многословия. Было ощущение, что вот-вот раздастся исповедь. А он был к исповеди не готов. Не предрасположен. Отвлекусь: Софья Владимировна Гиацинтова писала, что Ганя Иволгин в исполнении Подгорного (эта роль — его кинематографический дебют) производит впечатление человека, «который украдкой смотрит на себя в зеркало». Это сам Подгорный как бы украдкой смотрел на себя в зеркало. Все они — и Освальд, и Ганя Иволгин, и, чуть позже, Чацкий -—в какой-тб мере стали его двойниками. Подгорный никогда не играл сам себя. Но он, если так можно сказать, играл через себя. Он использовал материалы своей биографии. Чтобы так тихо, с такой грустью сыграть Чацкого, надо прочесть десятки поэтических книг. Чтобы так легко, так доверчиво сыграть Угиса из пьесы «Лето младшего брата» или, скажем, Безайса в спектакле «Когда горит сердце», надо быть счастливчиком и не верить, не признаваться себе в том, что жизнь полна драматизма. И — наоборот: чтобы спустя всего несколько лет так обреченно, так... молчаливо сыграть Освальда, надо пережить переоценку ценностей, многое увидеть и многое открыть. Воистину:
С мерцающих строк бытия
Ловлю я забытую фразу...
По-другому Подгорный не умел.
Ах какой это был Чацкий! Его не с кем сравнить. С ним трудно поставить кого-нибудь рядом. «О нет, Подгорный не сумел нам рассказать о Чацком любовнике, о Чацком страстном и наивном,— писала тогда Т. Чеботаревская.— И становления этого юного характера мы не увидели... В романтическом по трактовке спектакле герой, наверное, должен был бы обладать большой романтической окрыленностью, более открытым взлетом чувств!» Да, конечно, должен был бы. Барышев и Бабятинский — дублеры Подгорного — так и играли: красноречиво, энергично, эффектно. А Подгорный был задумчив и тих. Тревожен. Слова плакали в его устах. Кем был его Чацкий? Изгоем личного счастья? Снобом? Меланхоликом? Борцом? Нет и нет. Он жил как романтический герой — ожиданием гибели. Он чувствовал, знал, что «всему конец», что жизнь близка к кульминации. Он хотел сказать последние слова. Кому? Фамусову? Молчалину? Софье? Неправда! Обращаясь к обитателям фамусовского дома, он говорил как бы сам с собой, его мысли уходили далеко-далеко, в этом доме он находился как бы формально, до поры до времени, но куда же, куда он мог бежать?..
А годы шли. Смолоду, по складу ума, Подгорный был противником «всего вулканического». Работая над ролью, он интуитивно заставлял себя «выйти за пределы непосредственного актерского переживания для того, чтобы его объяснить» (пользуюсь определением Л. С. Выготского). А чувство ответственности заставляло вдумчиво и хладнокровно относиться к тому, что поэты называли «свободным самораскрытием души».
Подгорный был наделен своеобразным конкретно-образным мышлением. Жизнь он имитировал мастерски. Любую жизненную деталь мог без труда перелить в образ своей фантазии. Когда И. Ильинский предложил ему сыграть в «Ярмарке тщеславия» роль старого генерала Тафто, Подгорный, не раздумывая, согласился. Даже обрадовался. В «Ярмарке тщеславия» он стремился к полному перевоплощению. Как никогда прежде, его волновала формальная сторона роли.
Тафто выглядел забавно, будто игрушка из папье-маше. Теперь такие куклы уже не делают. Теперь дети их презирают. Еще бы! Дремучая образина, у которой с лицом сходства едва ли не больше, чем с орнаментом на газоне в городском саду, руки ватные, ненастоящие, нога, перед каждым новым шагом выписывающая в воздухе шальные «треугольники»,— эту игрушку было жаль, ее механизм работал как-то вымученно, и она уже ни на что не годилась. Нет, Подгорный играл не плохо. Он даже не сразу узнавался. И все-таки чего-то не хватало — чего? не знаю, может быть — одухотворенности. Его, лично его, Подгорного, не хватало на сцене: его глаз, его лица, скрытого под толстым слоем грима.
Вот парадокс: если бы не было прежде Угиса, Николая («Карточный домик»), Безайса, то и жалеть, наверное, было бы не о чем. Но он с ними простился. Раз и навсегда. Шел естественный и закономерный процесс: Подгорный искал себя в новом амплуа, в новой драматургии. Сразу после «Ярмарки тщеславия» еще одна эпизодическая роль, лорд Сесил в «Веере леди Уиндермиер», потом «Маскарад», но не князь Звездич, как ждали, а — Шприх. Ремесло в своих высших проявлениях затрагивает те же струны души, что и творчество. Тафто, Сесил, Шприх — они быстро увлекли Подгорного (он не мог не увлечься), они иначе раскрыли перед ним сущность театра, сущность игры. Подгорный легко переключался из одного стиля в другой. Но чувствовалось, что ему не все дается легко, что есть минуты, за которые он платит дорогой ценой. Принципы игры почти не менялись. Подгорный не пользовался техникой перевоплощения, он пользовался техникой преображения. Он хорошо владел внешним мастерством. Он знал каким путем достигается стройность, размеренность игры, отлично чувствовал зрительный зал. И очень часто обращался со своими героями запанибрата.
Изменился с годами и Чацкий. В нем появились признаки внутренней усталости и духовной слом-ленности. Произнося в тиши ночи свой прощальный монолог, стремглав убегая из фамусовского дома, Чацкий — Подгорный уже не бежал «вон из Москвы»: с Москвой он свыкся.
Странное дело: Подгорного наперебой хвалили за характерность, которую он нашел, работая над ролью Боркина в «Иванове» (хотя сам же он признавал, что характерность ему не удалась), его хвалили за юмор, сарказм, с которым он играл щеголей-вертопрахов: Мурзавецкого в «Волках и овцах», Телятева в «Бешеных деньгах». Когда же он сыграл роль Николая Львовича Рюмина в «Дачниках», его работа почему-то прошла стороной, и в прессе не осталось ни строчки. (Толковой строчки, я имею в виду. Подгорный морщился, когда на страницах газет и журналов рядом с его фотографиями мелькали заголовки: «Загадочный мир перевоплощения», «Чудеса актера» и т.д. и т. п. Он относился к этим статьям с беспощадной иронией, он знал, что на самом деле многим из «чудес» грош цена, и поэтому не особенно жаловал театроведов, сторонился личной дружбы. Словом, недоверял.)
Подгорный дорожил ролью Рюмина. Он был ему по-человечески близок. Напоминал о прожитом.
Былое — было ли когда! Что ныне — будет ли всегда!
— вот мотив, проходивший через все сцены Рюмина — Подгорного. Мотив, рождавший ощущение трагического, которое принималось как расплата за минувшее счастье.
Снова, как прежде, Подгорный переводил роль в автобиографический план. Рюмин и сыгранный в те же годы Освальд — самые «личные» работы Подгорного. Но они застали . его уже на новом этапе. Шестидесятые годы шли на убыль. И он тоже не мог не измениться.
Но старые спектакли Подгорного не забывались. Есть такое свойство у нашей памяти: спектакли, нравившиеся когда-то, с годами становятся милее. Очаровательнее.
А когда Малый театр вернул на сцену «Горе от ума», когда в спектакле появлялся Никита Подгорный, вдруг — на секунду, на миг — забывалось, что — это другой спектакль и что теперь он играет не Чацкого, а уже Репетилова...
А.КАРАУЛОВ
«Театральная жизнь» январь 1985 г.
КЕМ БЫЛ ЕГО ЧАЦКИЙ?
...А сначала Никита Подгорный играл как-то застенчиво. Он играл так, будто бы не верил, что он — актер. Это актерское состояние замечательно определила Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова: по ее словам, она довольно долго чувствовала себя (на сцене) «как бы «застегнутой». Подгорный тоже застегивал себя на все «пуговицы». Играя «Привидения», он больше всего на свете опасался утратить душевное равновесие. Его эмоции выступали как «подстрочник» к словам, в облике Подгорного — Освальда, в его характере трудно было ощутить постоянную борьбу болезни и духа, которую сам Ибсен мстительно и игриво называл «драмой судьбы». Так Освальда играть не принято. Орленов и Моисеи, во всяком случае, играли именно «драму судьбы». А Подгорный спрашивал себя о другом: Освальд — талантливый человек, талантливый художник, но Художником, именно Художником, он все-таки не стал. Почему? Что помешало ему? Его жизнь (сам образ жизни)? Его болезнь?..
Запомнился финал спектакля: мрачноватый дом фру Альвинг, раннее утро, восход солнца и — Освальд, удивленно-подавленный,с молкнувший человек с оцепенелым, нелепо-мечтательным взглядом, в котором не трудно было заметить признаки начинающегося безумия. «Жизнь отошла — и, покорясь судьбе, В каком-то забытьи изнеможенья, Здесь человек лишь снится сам себе...» — очнулась в подсознании заученная когда-то строка-мысль Тютчева. Этот взгляд Освальда — Подгорного со мною до сих пор. Он просил пощады. (У кого? Зачем?) Он возвращался к переживаниям детства. Казалось даже, что Подгорный намеренно играет один из тех характеров, которые, по словам Стефана Цвейга, «недоверчиво отстраняют всякие внешние импульсы и только изнутри, из искони насажденных ростков, развивают свой духовный облик». Самое удивительное: Освальд — Подгорный стеснялся многословия. Было ощущение, что вот-вот раздастся исповедь. А он был к исповеди не готов. Не предрасположен. Отвлекусь: Софья Владимировна Гиацинтова писала, что Ганя Иволгин в исполнении Подгорного (эта роль — его кинематографический дебют) производит впечатление человека, «который украдкой смотрит на себя в зеркало». Это сам Подгорный как бы украдкой смотрел на себя в зеркало. Все они — и Освальд, и Ганя Иволгин, и, чуть позже, Чацкий -—в какой-тб мере стали его двойниками. Подгорный никогда не играл сам себя. Но он, если так можно сказать, играл через себя. Он использовал материалы своей биографии. Чтобы так тихо, с такой грустью сыграть Чацкого, надо прочесть десятки поэтических книг. Чтобы так легко, так доверчиво сыграть Угиса из пьесы «Лето младшего брата» или, скажем, Безайса в спектакле «Когда горит сердце», надо быть счастливчиком и не верить, не признаваться себе в том, что жизнь полна драматизма. И — наоборот: чтобы спустя всего несколько лет так обреченно, так... молчаливо сыграть Освальда, надо пережить переоценку ценностей, многое увидеть и многое открыть. Воистину:
С мерцающих строк бытия
Ловлю я забытую фразу...
По-другому Подгорный не умел.
Ах какой это был Чацкий! Его не с кем сравнить. С ним трудно поставить кого-нибудь рядом. «О нет, Подгорный не сумел нам рассказать о Чацком любовнике, о Чацком страстном и наивном,— писала тогда Т. Чеботаревская.— И становления этого юного характера мы не увидели... В романтическом по трактовке спектакле герой, наверное, должен был бы обладать большой романтической окрыленностью, более открытым взлетом чувств!» Да, конечно, должен был бы. Барышев и Бабятинский — дублеры Подгорного — так и играли: красноречиво, энергично, эффектно. А Подгорный был задумчив и тих. Тревожен. Слова плакали в его устах. Кем был его Чацкий? Изгоем личного счастья? Снобом? Меланхоликом? Борцом? Нет и нет. Он жил как романтический герой — ожиданием гибели. Он чувствовал, знал, что «всему конец», что жизнь близка к кульминации. Он хотел сказать последние слова. Кому? Фамусову? Молчалину? Софье? Неправда! Обращаясь к обитателям фамусовского дома, он говорил как бы сам с собой, его мысли уходили далеко-далеко, в этом доме он находился как бы формально, до поры до времени, но куда же, куда он мог бежать?..
А годы шли. Смолоду, по складу ума, Подгорный был противником «всего вулканического». Работая над ролью, он интуитивно заставлял себя «выйти за пределы непосредственного актерского переживания для того, чтобы его объяснить» (пользуюсь определением Л. С. Выготского). А чувство ответственности заставляло вдумчиво и хладнокровно относиться к тому, что поэты называли «свободным самораскрытием души».
Подгорный был наделен своеобразным конкретно-образным мышлением. Жизнь он имитировал мастерски. Любую жизненную деталь мог без труда перелить в образ своей фантазии. Когда И. Ильинский предложил ему сыграть в «Ярмарке тщеславия» роль старого генерала Тафто, Подгорный, не раздумывая, согласился. Даже обрадовался. В «Ярмарке тщеславия» он стремился к полному перевоплощению. Как никогда прежде, его волновала формальная сторона роли.
Тафто выглядел забавно, будто игрушка из папье-маше. Теперь такие куклы уже не делают. Теперь дети их презирают. Еще бы! Дремучая образина, у которой с лицом сходства едва ли не больше, чем с орнаментом на газоне в городском саду, руки ватные, ненастоящие, нога, перед каждым новым шагом выписывающая в воздухе шальные «треугольники»,— эту игрушку было жаль, ее механизм работал как-то вымученно, и она уже ни на что не годилась. Нет, Подгорный играл не плохо. Он даже не сразу узнавался. И все-таки чего-то не хватало — чего? не знаю, может быть — одухотворенности. Его, лично его, Подгорного, не хватало на сцене: его глаз, его лица, скрытого под толстым слоем грима.
Вот парадокс: если бы не было прежде Угиса, Николая («Карточный домик»), Безайса, то и жалеть, наверное, было бы не о чем. Но он с ними простился. Раз и навсегда. Шел естественный и закономерный процесс: Подгорный искал себя в новом амплуа, в новой драматургии. Сразу после «Ярмарки тщеславия» еще одна эпизодическая роль, лорд Сесил в «Веере леди Уиндермиер», потом «Маскарад», но не князь Звездич, как ждали, а — Шприх. Ремесло в своих высших проявлениях затрагивает те же струны души, что и творчество. Тафто, Сесил, Шприх — они быстро увлекли Подгорного (он не мог не увлечься), они иначе раскрыли перед ним сущность театра, сущность игры. Подгорный легко переключался из одного стиля в другой. Но чувствовалось, что ему не все дается легко, что есть минуты, за которые он платит дорогой ценой. Принципы игры почти не менялись. Подгорный не пользовался техникой перевоплощения, он пользовался техникой преображения. Он хорошо владел внешним мастерством. Он знал каким путем достигается стройность, размеренность игры, отлично чувствовал зрительный зал. И очень часто обращался со своими героями запанибрата.
Изменился с годами и Чацкий. В нем появились признаки внутренней усталости и духовной слом-ленности. Произнося в тиши ночи свой прощальный монолог, стремглав убегая из фамусовского дома, Чацкий — Подгорный уже не бежал «вон из Москвы»: с Москвой он свыкся.
Странное дело: Подгорного наперебой хвалили за характерность, которую он нашел, работая над ролью Боркина в «Иванове» (хотя сам же он признавал, что характерность ему не удалась), его хвалили за юмор, сарказм, с которым он играл щеголей-вертопрахов: Мурзавецкого в «Волках и овцах», Телятева в «Бешеных деньгах». Когда же он сыграл роль Николая Львовича Рюмина в «Дачниках», его работа почему-то прошла стороной, и в прессе не осталось ни строчки. (Толковой строчки, я имею в виду. Подгорный морщился, когда на страницах газет и журналов рядом с его фотографиями мелькали заголовки: «Загадочный мир перевоплощения», «Чудеса актера» и т.д. и т. п. Он относился к этим статьям с беспощадной иронией, он знал, что на самом деле многим из «чудес» грош цена, и поэтому не особенно жаловал театроведов, сторонился личной дружбы. Словом, недоверял.)
Подгорный дорожил ролью Рюмина. Он был ему по-человечески близок. Напоминал о прожитом.
Былое — было ли когда! Что ныне — будет ли всегда!
— вот мотив, проходивший через все сцены Рюмина — Подгорного. Мотив, рождавший ощущение трагического, которое принималось как расплата за минувшее счастье.
Снова, как прежде, Подгорный переводил роль в автобиографический план. Рюмин и сыгранный в те же годы Освальд — самые «личные» работы Подгорного. Но они застали . его уже на новом этапе. Шестидесятые годы шли на убыль. И он тоже не мог не измениться.
Но старые спектакли Подгорного не забывались. Есть такое свойство у нашей памяти: спектакли, нравившиеся когда-то, с годами становятся милее. Очаровательнее.
А когда Малый театр вернул на сцену «Горе от ума», когда в спектакле появлялся Никита Подгорный, вдруг — на секунду, на миг — забывалось, что — это другой спектакль и что теперь он играет не Чацкого, а уже Репетилова...
А.КАРАУЛОВ
«Театральная жизнь» январь 1985 г.
Дата публикации: 12.07.2007