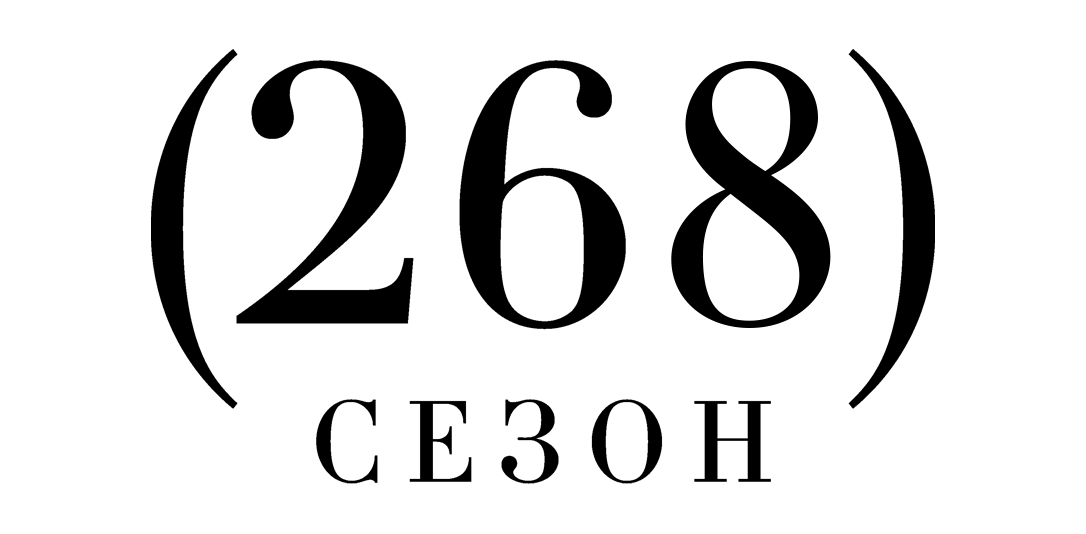Новости
СВЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ

СВЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
СВЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
«Мнимый больной» в Малом театре
Станиславский, готовясь к роли Аргана, считал, что играть её надо с задачей «хочу быть больным». Потом уточнил: «хочу, чтобы меня считали больным». Разница есть.
В первом варианте Арган - ипохондрик, желчный зануда (каким его и до и после Станиславского играли многие) — всецело сосредоточен на своих недугах. Объектом смеха становится его беспочвенная мнительность. Во втором — хитрец, притвора, сознательно испытывающий терпение домочадцев. Здесь комична не сама по себе мнимая болезнь, но мнимая проницательность обманутого обманщика. И в том и в другом варианте он остаётся несносным себялюбцем, домашним тираном, заслуживающим недвусмысленного морального урока. Это, конечно, не более чем схема. Внятная, но, как всякая схема, неживая.
У режиссёра Сергея Женовача и актёра Василия Бочкарёва мнимый больной и хочет быть больным, и хочет, чтобы его считали больным, но его себялюбие тираническим не назовёшь. Больше того. Как мотив поведения себялюбие не доминирует. Персонажем движет что-то ещё, неуловимо привлекательное.
Что именно, понимаешь не сразу. Роль развивается уклончиво, с захватывающими обертонами, и захват обеспечен оттеночной выделкой, техникой полунамёка, которую демонстрирует Бочкарёв. Оказывается, внятность, расчисленность образа-маски, законная для мольеровского театра, не исключает психологически многогранных, скользящих мотивировок и характеристик.
В том и прелесть этой актёрской работы и спектакля в целом. Живая прелесть, как сказали бы рецензенты канувших в лету времён.
Стоит лишь увериться, что Арган маниакально поглощён болезнью и чувствует себя несчастным, как он обнаруживает свойство болеть победоносно и радостно: со вкусом к жизни. Подобно полоумному Журдену, Арган обманываться рад. Только он не полоумный. Его идея-фикс — такая органическая смесь переживания и представления, что чёрт его знает, что у него на уме; где он искренен и доверчив, а где прикидывается и провоцирует; где запутался сам, а где запутывает других. Его медицинский фетишизм, его прожекты (выдать дочь за доктора против её воли, чтоб было удобнее и дешевле лечиться; самому сделаться доктором или аптекарем), разумеется, вздор. Но не бессердечная агрессия, а скорее причуда человека с живым умом и живым воображением. В иные моменты этот фантазёр способен и отвлечься от своих благоглупостей, проявить отзывчивость к близким. Мнимая болезнь подточила, но не разрушила в нём здравые основания семьянина. Другое дело, что этих оснований ему недостаточно. Аргану по-видимому наскучил бессобытийный ритуал отлаженной семейной жизни (уж такая жизнь в его доме: все вроде вместе, но врозь). А болезнь - событие. И новый ритуал, обязывающий к восстановлению остроты совместных переживаний. Глава семейства нуждается в партнёрах, в зрителях-соучастниках, чтобы разыгрывать своё представление-переживание не только для себя и не только для них. Но вместе с ними.
Иными словами, Арган — человек играющий. Что бы ни замышлял, что бы ни вытворял, практическая целесообразность его намерений и действий уступают чувству игры, азарту игры, имеющей цель только в себе самой. Вот почему он так счастлив болеть. И вот почему недвусмысленного морального урока такой Арган не очень-то заслуживает и в финале получает урок с учётом обстоятельства, если не оправдывающего все его заскоки, то по крайней мере смягчающего возмездие: поведение Аргана двусмысленно, но не двулично.
По логике спектакля (о логике жизни как-нибудь потом) двуличие с чувством игры несовместимо. А недвусмысленность как раз удел двуличных персонажей; чувство игры у них отсутствует, и никакими ухищрениями замаскировать такой изъян им не дано.
Посмотрим, как маскируется Белина, жена Аргана. На выход Евгении Глушенко, исполняющей роль этой сладкой, искренне фальшивой дамы, сочинён бессловесный променад из кулисы в кулису, эффектный и слегка шаржированный. Белина идёт долго, размеренно. И строго по прямой (в противоположность воодушевлённо-порывистым и хаотичным ритмам существования Аргана). Не идёт, а несёт себя, подаёт. Сама искусственность, расчётливость, воплощённое приличие-безразличие. Такую ничем не проймёшь, она уверена, что сама обхитрит кого угодно. Однако на игровую провокацию - мнимую смерть мужа - попадается мгновенно, пренебрегая даже видимостью скорби. Стремительность и прямолинейность, с какой она себя разоблачает, — посрамление интриганки, но и свидетельство её неспособности к игре. Не всякое притворство - игровое.
В той же ситуации Анжелика и Клеант, дочь Аргана и её возлюбленный, также не подозревающие подвоха, ведут себя совершенно иначе. Их реакция, как и у Белины, стремительна, но, в отличие от неё, внутренне подвижна, многоступенчата. Актёры Ольга Молочная и Глеб Подгородинский демонстрируют целую гамму быстрых эмоций. Сначала внезапной кончиной Аргана влюблённые искренне потрясены. Потом, когда Арган «оживает», следует взрыв столь же искренней радости, которая в конечном счёте сменяется радостью преувеличенной, игровой, свидетельствующей, что они Аргану под стать.
Чувством игры поверяется подлинность чистосердечия и здравомыслия персонажей. Те, в ком эти качества действительно есть, урезонивают мнимого больного, подшучивают над ним, но раздражаются не слишком. Не воевать же всерьёз с ребёнком, расшалившимся не в меру, переступившим черту, за которой игра неуместна. Лучше ему подыграть. И обыграть - с его же участием и по его же правилам: опять-таки вместе.
Апофеоз общего розыгрыша - финальная сцена, лжепосвящение Аргана в доктора. В обмане себя самого он участвует с тем же воодушевлением, с каким прежде
защищал свою болезнь. Ставя в роли последнюю точку, актёр - деликатно, не плюсуя - даёт отыгрыш на публику, как бы призывая не сомневаться, что завтра Арган выдумает что-нибудь новенькое.
Действие ещё не кончилось, но уже покинуло пределы сюжета пьесы, которому, впрочем, и раньше сюжет сценический не был равен; включал его в себя, не пренебрегая возможностями его интриги, но примешивая к ней свою. Так вот, на той едва уловимой грани, когда актёры, готовясь к поклонам и постановочно кланяясь, ещё находятся на территории спектакля, но всё-таки уже принадлежат себе самим, можно окончательно убедиться: игровая двусмысленность одерживает чистую победу. В чём, собственно, и заключается истинное назначение морального урока; урока, адресованного не Аргану, а нам с вами.
Игра игре рознь, однако. Да и двусмысленности разными бывают, иногда вполне отвратительными. Сколько мы видели классических комедий (хоть мольеровских, хоть каких), воплощённых на сцене с фальшивым, назойливым драйвом, с той беспричинной и беспредметной игривостью, какая способна литься только из вульгарной души. Вульгарными бывают и небесталанные, и мастеровитые люди. Умеющие завести публику, рассмешить во что бы то ни стало. Но то, что они позволяют себе на публике, - с известной отвагой и самоотдачей, - к творчеству отношения не имеет. Отвага вульгарной души не знает огранки: добровольных ограничений. Её самоотдача - не цель, а средство; когда самоотдача - цель, путь к цели предусматривает систему самозапретов. В так называемом игровом театре, да ещё если в пьесе действительно ощутимы признаки фарсовой, площадной традиции; если она и впрямь допускает элемент «турандотского» дуракаваляния, - в таком театре отсутствие самозапретов обычно проявляется более рельефно и беззастенчиво, нежели там, где притязают на серьезность и глубину. Будто сама природа комедии готова оправдать и всякий болевой приём, применённый режиссёром к пьесе, и манеру актёров шакалить, выдавая свою распущенность за раскрепощённость (якобы сегодня мы импровизируем).
В спектакле Женовача ничего подобного и близко нет. Он даже не очень смешной. То есть смешной, конечно. Но не так, чтобы очень. На каком-нибудь «№1 3», чистокровной комедии положений, смеёшься гораздо чаще и громче. А тут в основном улыбаешься.
Почему?
Есть ответ, который всегда наготове: а вот потому, что режиссёр обладает чувством меры. Ответ, однако, так себе. Не вполне удовлетворительный. Чем эту меру измерить-то7
Там, где одному достаточно улыбаться и не требовать иной эмоциональной температуры, другому чудится недобор, а третьему - так вообще перебор. Марину Тимашеву, чьё мнение мы уважаем, спектакль не очень завёл. Зато другую представительницу нашего цеха до того завёл, что был заклеймён ею как образцовая пошлость. (Не будем называть фамилию этой представительницы, поскольку её мнение, высказанное в ответах на анкету газеты «Культура» и никак не объяснённое, на фоне остальных отзывов прессы о спектакле Малого театра выглядит казусом.)
Так что же такое мера в этом конкретном случае и почему эта мера нам пришлась по душе?
Немирович-Данченко считал, что в «Мнимом больном» «всякий трюк, всякий талантливый фортель приемлем! Надо непременно смело, в стиле шалить. Хоть с импровизациями! Каскад фортелей!». В Малом так и шалят. И с фортелями, и смело. Но именно что в стиле.
Приглядимся к двум актёрам - к Людмиле Титовой и Александру Клюквину.
Титова предстаёт идеальной субреткой, можно сказать, во французском вкусе. Её служанка Туанетта чего только не вытворяет, но при этом будто сошла со старинной гравюры. Она классична. В ней и здравость, и авантюрность, и деятельная доброта, и быстрый ум. Смех, который вызывают её слова и поступки, - не животный, осмысленный. Удовольствие получаешь не столько от реприз или ситуаций, сколько от того, как они подаются актрисой, — с благородством тона. (Надо ли пояснять что такое благородный сценический тон? Теперь, наверное, надо. Хотя старик Кугель, как и другие почтенные тени русской критики, какой-нибудь Васильев-Флёров, к примеру, - завсегдатай Малого театра, коли уж писали, что у актёра благородный тон, так это и значило, что тон - благородный.) У Титовой, как и у Бочкарёва, всё решают оттенки, при очевидной масочности характера, типажа. Служанка - типаж простушки, вышедшей из низов; из простонародья, из простонародного, ярмарочного театра. Но у Мольера и после него это не совсем простолюдинка и совсем не плебейка. Века театральной практики так отшлифовали всех этих Фигаро (и в штанах, и в юбке), что их корневое и неутраченное свойство — нравственное здоровье — уже неотделимо от благоприобретённой утонченности. От тонкой игры. В Малом театре это почувствовали и передали. Такая Туанетта, какую сыграла Титова, очень подходит такому Аргану, какого сыграл Бочкарёв. Будь она хоть немного развязней, их партнёрство перестало бы отвечать требованиям игрового, сценического сюжета, стало бы уплощённым, грубым.
Хотелось написать: грубым, как в фарсе. Но это было бы неточно. Возвращение к народной органике фарса, к домолье-ровским временам, в принципе невозможная задача. Такие примеры, как «Король Убю» или «Великолепный рогоносец», не должны сбивать с толку. Что у Жарри, что у Кроммелинка фарсовое начало нельзя принимать за Чистую монету; у этих авторов, как, скажем, и в фильмах Чаплина, оно присутствует только в качестве примеси, парадоксально обостряющей как раз ту рефлексию взгляда на мир и на человека, которая фарсу в его изначальном виде не свойственна. И даже противоположна ему. В XX веке у художника-эксцентрика, художника-абсурдиста фарс - всегда трагифарс. По этой причине попытки представить сегодня на сцене любого классического комедиографа в обход художественного опыта, которым одарил нас XX век (а это происходит сплошь и рядом); попытки вернуться к смеху беспримесному, не обеспеченному рефлексией, - тонкой игрой, -неминуемо ведут к театральной пошлости.
Александра Клюквина - он играет брата Аргана, здравомыслящего Беральда, - режиссёр наделяет правом применять приём, который после Брехта стали называть остранением, но который охотно, пусть и простодушно, применяли ещё в старину; и в Александрынском, и в том же Малом театре. Тогда это называлось «выводы из плана». Хорошие актёры уже и в те времена понимали, что «вывод из плана» - не просто апарт, не просто обращение персонажа к публике, предусмотренное автором пьесы. Но и не отсебятина, когда актёр несёт в публику всё, что ему в голову взбредет, лишь бы только рассмешить. Хорошие актёры понимали, что «вывод из плана» - не приостановка роли, но только смена ракурса, способ обострить восприятие ее скрытых свойств. Не зная таких умных слов, как «зона импровизации» и «художественная целостность спектакля», зато имея четкое понятие о благородном тоне, они умели держать себя в разумных пределах даже там, где актёрской натуре страсть как хочется распоясаться. Так держит себя и Александр Клюквин. Его «шутки, свойственные театру», линию роли не прерывают, не дают усомниться в здравомыслии Беральда, в положительном обаянии его ума. Надо же (думаешь о персонаже), как иному человеку удаётся быть и таким рассудительным, правильным, и таким нескучным, живым! (Господин Клюквин, стоит отметить, выступает в спектакле и как литератор. Его коррективы старого перевода Н.М. Минского, равно как заметные вставки-отсебятины, — не капустный самострок, но умелая литературная стилизация.)
Одни актёры, как водится, ярче, другие бледнее, но без огранки, без самоограничения не существует никто.
Теперь попробуем дать представление о характере общего ритмического рисунка, предполагающем свободу, но исключающем своеволие.
Впечатляет безупречное умение фиксировать позы, мимически обозначать ключевые моменты (попутно заигрывая с публикой, откровенно ожидая ее одобрения), чтобы затем эту статуарную пластику сменить (контрастно) вихрем водевильных пробежек. Из кулисы в кулису несётся Арган; бежит, чуть не падая, Клеант, челноком снует Туанетта... А слуги, расставляющие канделябры, медлительны, как глубоководные рыбы. Получив приказание, не бросаются его исполнять, как бы обдумывая: а стоит ли? Режиссёр составляет из них живописную группу, то возникающую, то исчезающую за стеклом парадной двери. Арган посмотрит - они стоят; посмотрит ещё раз - их нет. Ему кажется, что это наваждение. Это и есть наваждение. Сугубо театральное. Такое двуединство реальности и мнимости, такой кордебалет, движение и мимика которого включены в постановочную партитуру, при том, что на внешний ход событий эта группа в париках и ливреях не влияет никоим образом. Зато уже одним своим существованием подтверждает сверхсюжетное устремление всей затеи, претендующей быть и комедией характеров, и комедией положений, и, разумеется, комедией-балетом. А в целом — высокой комедией. То есть такой, где у комического всегда есть драматическая подоплёка. Где одно без другого не существует.
Размышляя на примере Гольдони о природе высокой комедии, Джорджо Стрелер говорит о «трепете вечности», которого необходимо добиваться на сцене. И поэтому с подозрением относится к «заведённому механизму» сценической интриги, находя, что Гольдони и сам намеренно прячет этот механизм, обволакивает действие атмосферой печали и меланхолии, «которая обычно живёт рядом с добротой». Мольер в этом отношении, конечно, не так воздушен, как венецианец. Но Женовач подходит к нему со стрелеровским ключиком.
Когда впервые открывается занавес, мы видим человека в шлафроке, сидящего в кресле у горящего камина, и тень этого человека, пляшущую на высоких дубовых стенах. Трудно вообразить, что это и есть тот самый мнимый больной, которому предстоит ломать комедию. Картина магическая, завораживающая. Не сулящая ничего смехотворного. Напротив, в ней сразу же читается отказ обслуживать «заведённый механизм» комических ситуаций. Сценическое пространство решено художником Александром Боровским с неожиданным архитектурным размахом. При том никакой помпезности, самодовольной и бессмысленной декорированности, как в провинциальной опере. Не иллюстрируя сюжет, но и не контрастируя с ним, не выдавая жанр, это пространство, напоённое воздухом и светом, устремлённое ввысь, вбирает в себя всю совокупность переливчатых настроений спектакля. Здесь можно затеряться, предаться уединённым фантазиям... Почувствовать «трепет вечности».
Сергея Женовача пресса в последнее время хвалит с редким единодушием. И с благодушием, ещё более редким для наших дней. Тут и «гармонический дар», и какая-то «особая теплота», и «милота» (тоже, видно, особая), и «лёгкое приятие жизни»... Этими ласковыми словами, этими совокупными усилиями вылеплен образ режиссёра, приятного во всех отношениях. Но таких режиссёров не бывает в природе. Блаженных среди них нет. В основе всякого лёгкого приятия, всякого лёгкого дыхания, явленного художником миру, всегда таится что-то нелёгкое. Таится, но и проступает. Светит изнутри.
Что же это светит? Как это назвать?
Поневоле вспомнишь несчастного Арто, глубоко опечаленного невозможностью улавливать и передавать словами, передавать с исчерпывающей адекватностью, всю полноту и текучесть собственных мыслей и душевных движений. Все их оттенки. Все оттенки оттенков. Его пытались утешить: месье, такое недоступно никому, это выше человеческих возможностей. Он понимал: да, выше. Но смириться всё равно не мог. И навсегда остался опечален. Арто был безумец, и безумец яростный. Но такие, как он, сжигающие себя, лишь в более концентрированном и демонстративном виде проявляют универсальность внутренней печали (и меланхолии, как добавил бы Стрелер), неотъемлемой от любого, сколь угодно гармонического дара. Надо ли в качестве примера называть «Реквием» и Сороковую симфонию Моцарта? А может быть, лучше вспомнить «Жизнь артиста», вальс Иоганна Штрауса, чьё приятие жизни уж такое, казалось бы, лёгкое, легче вроде и не бывает, всё равно обнаруживает чуткость к её диссонансам.
Когда-то, много лет назад, мы, молодые сотрудники журнала «Театр», скептически относились к тому требованию, с которым Наталья Крымова считала нужным подходить к спектаклю: спектакль должен быть художественным, а его создатели должны быть художниками. Нам казалось, что это требование не то что неправильное, а какое-то слишком правильное. Слишком простое и потому уязвимое. Теперь такой простоты стало не хватать. Теперь отмечать художественность результата, а тем более художественность намерений, не очень принято. Считается, что это манера замшелой критики, со всеми её «отражениями» и «ликованиями», критики, вычитывающей из сценического текста не формулу спектакля и не вердикт, но возможность объясниться с собеседником — художником и читателем, вывести из своего впечатления какие-то «лишние» смыслы. Между тем художественность, при всей .неотчётливости этого критерия, на чувственном уровне запечатлевается очень даже отчётливо. Вопрос лишь в том, насколько ты способен воодушевить своим чувством других. И нужно ли это тебе самому. Крымовой было нужно.
В сезоне 1992/1993 она едва ли не первой определила характер одарённости молодого режиссёра Женовача. Сначала написала у нас в «Московском наблюдателе» о его «Владимире III степени», поставленном с «фоменка-ми», тогда ещё студентами. А вскоре, испытывая к режиссёру живой интерес, ради его спектаклей «Король Лир» и «Русский свет» (трилогии по «Идиоту» Достоевского) решилась переступить порог Театра на Малой Бронной («нечистое место», по её словам).
«Роман Достоевского, - пишет Крымова, - прочитан режиссёром-художником (вот опять! Это у неё постоянно: художник или нехудожник. - Примеч. авт.), не склонным к бунту, протесту и душевному хаосу». Но, не ограничиваясь констатацией гармоничности его мировосприятия, она рассуждает как раз о цене гармоничности, которую режиссёру-художнику предстоит заплатить. Она замечает некоторые совпадения между характером персонажа (князя Мышкина) и характером режиссёра и говорит об этом как о возможном «залоге трагедии» последнего: «... взгляд Мышкина может лишь до поры до времени утишить и примирить то, что в обществе и в человеческих натурах непримиримо... Дай Бог здоровья и успеха режиссёру, но судьбой князя все же управляет Достоевский, художник беспощадный, жутковатый». Это очень верно. Ни один князь Мышкин на свете не напишет о себе хорошего романа и не поставит хорошего спектакля.
В чём же отличие гармоничности Женовача от гармоничности его героя?
Ответ Крымовой опять-таки прост: ни одна положительная идея не способна пройти те тупики и лабиринты, сквозь которые проникает свет художественности. «Еспи название «Русский свет» следует понимать как многозначительное указание на географию, на определённый национальный источник и характер света, мне это кажется указанием... по существу бессмысленным. Но гораздо важнее кажется, что и в унылых сумерках, и в блистании огней современной рыночной, рекламы сами спектакли Сергея Женовача светятся ровным, сильным светом искусства и серьёзного труда, который всякому искусству предшествует».
Многое за эти годы пережив и преодолев, сегодня Сергей Женовач, кажется, готов к чему-то такому, что и с наскока поостерегутся назвать милым.
И последнее, о чём хотелось бы сказать.
Тема болезни — болезни, возвышающей человеческий дух и обостряющей его чувствительность к непримиримым противоречиям бытия, - в современном искусстве разработана, кажется, до отказа, до пародийного вырождения. По той дороге, что проложена Достоевским, Ницше, Ван Гогом, Арто, Томасом Манном (в «Докторе Фаустусе»), сегодня бродит множество мнимых больных, в том числе драматургов и режиссёров. Эти предприимчивые симулянты слишком хорошо усвоили, что быть здоровым — некрасиво, а красиво - делать арт-бизнес, вываливая перед публикой свои грошовые психоанализы, свою бесформенную кучу подсознания. (Нечто подобное наблюдалось в десятые годы прошлого века, когда идеи серьёзных мыслителей и поэтов подхватил «уличный символизм». Когда, по словам Мандельштама, даже «половой, отражённый двойными зеркалами ресторана «Прага», воспринимался как мистическое явление».) Так вот, спектакль Женовача тем ещё хорош, что оппозиции «здоровое—больное», спекулятивно вывернутой наизнанку, возвращает её естественный смысл. Без пафоса, без полемической запрограммированности. Не специально. Что лишний раз говорит об отсутствии в этом режиссере нехудожественного расчёта.
Александра Заславская, Валерий Семеновский
«Театр», №1, 2006
«Мнимый больной» в Малом театре
Станиславский, готовясь к роли Аргана, считал, что играть её надо с задачей «хочу быть больным». Потом уточнил: «хочу, чтобы меня считали больным». Разница есть.
В первом варианте Арган - ипохондрик, желчный зануда (каким его и до и после Станиславского играли многие) — всецело сосредоточен на своих недугах. Объектом смеха становится его беспочвенная мнительность. Во втором — хитрец, притвора, сознательно испытывающий терпение домочадцев. Здесь комична не сама по себе мнимая болезнь, но мнимая проницательность обманутого обманщика. И в том и в другом варианте он остаётся несносным себялюбцем, домашним тираном, заслуживающим недвусмысленного морального урока. Это, конечно, не более чем схема. Внятная, но, как всякая схема, неживая.
У режиссёра Сергея Женовача и актёра Василия Бочкарёва мнимый больной и хочет быть больным, и хочет, чтобы его считали больным, но его себялюбие тираническим не назовёшь. Больше того. Как мотив поведения себялюбие не доминирует. Персонажем движет что-то ещё, неуловимо привлекательное.
Что именно, понимаешь не сразу. Роль развивается уклончиво, с захватывающими обертонами, и захват обеспечен оттеночной выделкой, техникой полунамёка, которую демонстрирует Бочкарёв. Оказывается, внятность, расчисленность образа-маски, законная для мольеровского театра, не исключает психологически многогранных, скользящих мотивировок и характеристик.
В том и прелесть этой актёрской работы и спектакля в целом. Живая прелесть, как сказали бы рецензенты канувших в лету времён.
Стоит лишь увериться, что Арган маниакально поглощён болезнью и чувствует себя несчастным, как он обнаруживает свойство болеть победоносно и радостно: со вкусом к жизни. Подобно полоумному Журдену, Арган обманываться рад. Только он не полоумный. Его идея-фикс — такая органическая смесь переживания и представления, что чёрт его знает, что у него на уме; где он искренен и доверчив, а где прикидывается и провоцирует; где запутался сам, а где запутывает других. Его медицинский фетишизм, его прожекты (выдать дочь за доктора против её воли, чтоб было удобнее и дешевле лечиться; самому сделаться доктором или аптекарем), разумеется, вздор. Но не бессердечная агрессия, а скорее причуда человека с живым умом и живым воображением. В иные моменты этот фантазёр способен и отвлечься от своих благоглупостей, проявить отзывчивость к близким. Мнимая болезнь подточила, но не разрушила в нём здравые основания семьянина. Другое дело, что этих оснований ему недостаточно. Аргану по-видимому наскучил бессобытийный ритуал отлаженной семейной жизни (уж такая жизнь в его доме: все вроде вместе, но врозь). А болезнь - событие. И новый ритуал, обязывающий к восстановлению остроты совместных переживаний. Глава семейства нуждается в партнёрах, в зрителях-соучастниках, чтобы разыгрывать своё представление-переживание не только для себя и не только для них. Но вместе с ними.
Иными словами, Арган — человек играющий. Что бы ни замышлял, что бы ни вытворял, практическая целесообразность его намерений и действий уступают чувству игры, азарту игры, имеющей цель только в себе самой. Вот почему он так счастлив болеть. И вот почему недвусмысленного морального урока такой Арган не очень-то заслуживает и в финале получает урок с учётом обстоятельства, если не оправдывающего все его заскоки, то по крайней мере смягчающего возмездие: поведение Аргана двусмысленно, но не двулично.
По логике спектакля (о логике жизни как-нибудь потом) двуличие с чувством игры несовместимо. А недвусмысленность как раз удел двуличных персонажей; чувство игры у них отсутствует, и никакими ухищрениями замаскировать такой изъян им не дано.
Посмотрим, как маскируется Белина, жена Аргана. На выход Евгении Глушенко, исполняющей роль этой сладкой, искренне фальшивой дамы, сочинён бессловесный променад из кулисы в кулису, эффектный и слегка шаржированный. Белина идёт долго, размеренно. И строго по прямой (в противоположность воодушевлённо-порывистым и хаотичным ритмам существования Аргана). Не идёт, а несёт себя, подаёт. Сама искусственность, расчётливость, воплощённое приличие-безразличие. Такую ничем не проймёшь, она уверена, что сама обхитрит кого угодно. Однако на игровую провокацию - мнимую смерть мужа - попадается мгновенно, пренебрегая даже видимостью скорби. Стремительность и прямолинейность, с какой она себя разоблачает, — посрамление интриганки, но и свидетельство её неспособности к игре. Не всякое притворство - игровое.
В той же ситуации Анжелика и Клеант, дочь Аргана и её возлюбленный, также не подозревающие подвоха, ведут себя совершенно иначе. Их реакция, как и у Белины, стремительна, но, в отличие от неё, внутренне подвижна, многоступенчата. Актёры Ольга Молочная и Глеб Подгородинский демонстрируют целую гамму быстрых эмоций. Сначала внезапной кончиной Аргана влюблённые искренне потрясены. Потом, когда Арган «оживает», следует взрыв столь же искренней радости, которая в конечном счёте сменяется радостью преувеличенной, игровой, свидетельствующей, что они Аргану под стать.
Чувством игры поверяется подлинность чистосердечия и здравомыслия персонажей. Те, в ком эти качества действительно есть, урезонивают мнимого больного, подшучивают над ним, но раздражаются не слишком. Не воевать же всерьёз с ребёнком, расшалившимся не в меру, переступившим черту, за которой игра неуместна. Лучше ему подыграть. И обыграть - с его же участием и по его же правилам: опять-таки вместе.
Апофеоз общего розыгрыша - финальная сцена, лжепосвящение Аргана в доктора. В обмане себя самого он участвует с тем же воодушевлением, с каким прежде
защищал свою болезнь. Ставя в роли последнюю точку, актёр - деликатно, не плюсуя - даёт отыгрыш на публику, как бы призывая не сомневаться, что завтра Арган выдумает что-нибудь новенькое.
Действие ещё не кончилось, но уже покинуло пределы сюжета пьесы, которому, впрочем, и раньше сюжет сценический не был равен; включал его в себя, не пренебрегая возможностями его интриги, но примешивая к ней свою. Так вот, на той едва уловимой грани, когда актёры, готовясь к поклонам и постановочно кланяясь, ещё находятся на территории спектакля, но всё-таки уже принадлежат себе самим, можно окончательно убедиться: игровая двусмысленность одерживает чистую победу. В чём, собственно, и заключается истинное назначение морального урока; урока, адресованного не Аргану, а нам с вами.
Игра игре рознь, однако. Да и двусмысленности разными бывают, иногда вполне отвратительными. Сколько мы видели классических комедий (хоть мольеровских, хоть каких), воплощённых на сцене с фальшивым, назойливым драйвом, с той беспричинной и беспредметной игривостью, какая способна литься только из вульгарной души. Вульгарными бывают и небесталанные, и мастеровитые люди. Умеющие завести публику, рассмешить во что бы то ни стало. Но то, что они позволяют себе на публике, - с известной отвагой и самоотдачей, - к творчеству отношения не имеет. Отвага вульгарной души не знает огранки: добровольных ограничений. Её самоотдача - не цель, а средство; когда самоотдача - цель, путь к цели предусматривает систему самозапретов. В так называемом игровом театре, да ещё если в пьесе действительно ощутимы признаки фарсовой, площадной традиции; если она и впрямь допускает элемент «турандотского» дуракаваляния, - в таком театре отсутствие самозапретов обычно проявляется более рельефно и беззастенчиво, нежели там, где притязают на серьезность и глубину. Будто сама природа комедии готова оправдать и всякий болевой приём, применённый режиссёром к пьесе, и манеру актёров шакалить, выдавая свою распущенность за раскрепощённость (якобы сегодня мы импровизируем).
В спектакле Женовача ничего подобного и близко нет. Он даже не очень смешной. То есть смешной, конечно. Но не так, чтобы очень. На каком-нибудь «№1 3», чистокровной комедии положений, смеёшься гораздо чаще и громче. А тут в основном улыбаешься.
Почему?
Есть ответ, который всегда наготове: а вот потому, что режиссёр обладает чувством меры. Ответ, однако, так себе. Не вполне удовлетворительный. Чем эту меру измерить-то7
Там, где одному достаточно улыбаться и не требовать иной эмоциональной температуры, другому чудится недобор, а третьему - так вообще перебор. Марину Тимашеву, чьё мнение мы уважаем, спектакль не очень завёл. Зато другую представительницу нашего цеха до того завёл, что был заклеймён ею как образцовая пошлость. (Не будем называть фамилию этой представительницы, поскольку её мнение, высказанное в ответах на анкету газеты «Культура» и никак не объяснённое, на фоне остальных отзывов прессы о спектакле Малого театра выглядит казусом.)
Так что же такое мера в этом конкретном случае и почему эта мера нам пришлась по душе?
Немирович-Данченко считал, что в «Мнимом больном» «всякий трюк, всякий талантливый фортель приемлем! Надо непременно смело, в стиле шалить. Хоть с импровизациями! Каскад фортелей!». В Малом так и шалят. И с фортелями, и смело. Но именно что в стиле.
Приглядимся к двум актёрам - к Людмиле Титовой и Александру Клюквину.
Титова предстаёт идеальной субреткой, можно сказать, во французском вкусе. Её служанка Туанетта чего только не вытворяет, но при этом будто сошла со старинной гравюры. Она классична. В ней и здравость, и авантюрность, и деятельная доброта, и быстрый ум. Смех, который вызывают её слова и поступки, - не животный, осмысленный. Удовольствие получаешь не столько от реприз или ситуаций, сколько от того, как они подаются актрисой, — с благородством тона. (Надо ли пояснять что такое благородный сценический тон? Теперь, наверное, надо. Хотя старик Кугель, как и другие почтенные тени русской критики, какой-нибудь Васильев-Флёров, к примеру, - завсегдатай Малого театра, коли уж писали, что у актёра благородный тон, так это и значило, что тон - благородный.) У Титовой, как и у Бочкарёва, всё решают оттенки, при очевидной масочности характера, типажа. Служанка - типаж простушки, вышедшей из низов; из простонародья, из простонародного, ярмарочного театра. Но у Мольера и после него это не совсем простолюдинка и совсем не плебейка. Века театральной практики так отшлифовали всех этих Фигаро (и в штанах, и в юбке), что их корневое и неутраченное свойство — нравственное здоровье — уже неотделимо от благоприобретённой утонченности. От тонкой игры. В Малом театре это почувствовали и передали. Такая Туанетта, какую сыграла Титова, очень подходит такому Аргану, какого сыграл Бочкарёв. Будь она хоть немного развязней, их партнёрство перестало бы отвечать требованиям игрового, сценического сюжета, стало бы уплощённым, грубым.
Хотелось написать: грубым, как в фарсе. Но это было бы неточно. Возвращение к народной органике фарса, к домолье-ровским временам, в принципе невозможная задача. Такие примеры, как «Король Убю» или «Великолепный рогоносец», не должны сбивать с толку. Что у Жарри, что у Кроммелинка фарсовое начало нельзя принимать за Чистую монету; у этих авторов, как, скажем, и в фильмах Чаплина, оно присутствует только в качестве примеси, парадоксально обостряющей как раз ту рефлексию взгляда на мир и на человека, которая фарсу в его изначальном виде не свойственна. И даже противоположна ему. В XX веке у художника-эксцентрика, художника-абсурдиста фарс - всегда трагифарс. По этой причине попытки представить сегодня на сцене любого классического комедиографа в обход художественного опыта, которым одарил нас XX век (а это происходит сплошь и рядом); попытки вернуться к смеху беспримесному, не обеспеченному рефлексией, - тонкой игрой, -неминуемо ведут к театральной пошлости.
Александра Клюквина - он играет брата Аргана, здравомыслящего Беральда, - режиссёр наделяет правом применять приём, который после Брехта стали называть остранением, но который охотно, пусть и простодушно, применяли ещё в старину; и в Александрынском, и в том же Малом театре. Тогда это называлось «выводы из плана». Хорошие актёры уже и в те времена понимали, что «вывод из плана» - не просто апарт, не просто обращение персонажа к публике, предусмотренное автором пьесы. Но и не отсебятина, когда актёр несёт в публику всё, что ему в голову взбредет, лишь бы только рассмешить. Хорошие актёры понимали, что «вывод из плана» - не приостановка роли, но только смена ракурса, способ обострить восприятие ее скрытых свойств. Не зная таких умных слов, как «зона импровизации» и «художественная целостность спектакля», зато имея четкое понятие о благородном тоне, они умели держать себя в разумных пределах даже там, где актёрской натуре страсть как хочется распоясаться. Так держит себя и Александр Клюквин. Его «шутки, свойственные театру», линию роли не прерывают, не дают усомниться в здравомыслии Беральда, в положительном обаянии его ума. Надо же (думаешь о персонаже), как иному человеку удаётся быть и таким рассудительным, правильным, и таким нескучным, живым! (Господин Клюквин, стоит отметить, выступает в спектакле и как литератор. Его коррективы старого перевода Н.М. Минского, равно как заметные вставки-отсебятины, — не капустный самострок, но умелая литературная стилизация.)
Одни актёры, как водится, ярче, другие бледнее, но без огранки, без самоограничения не существует никто.
Теперь попробуем дать представление о характере общего ритмического рисунка, предполагающем свободу, но исключающем своеволие.
Впечатляет безупречное умение фиксировать позы, мимически обозначать ключевые моменты (попутно заигрывая с публикой, откровенно ожидая ее одобрения), чтобы затем эту статуарную пластику сменить (контрастно) вихрем водевильных пробежек. Из кулисы в кулису несётся Арган; бежит, чуть не падая, Клеант, челноком снует Туанетта... А слуги, расставляющие канделябры, медлительны, как глубоководные рыбы. Получив приказание, не бросаются его исполнять, как бы обдумывая: а стоит ли? Режиссёр составляет из них живописную группу, то возникающую, то исчезающую за стеклом парадной двери. Арган посмотрит - они стоят; посмотрит ещё раз - их нет. Ему кажется, что это наваждение. Это и есть наваждение. Сугубо театральное. Такое двуединство реальности и мнимости, такой кордебалет, движение и мимика которого включены в постановочную партитуру, при том, что на внешний ход событий эта группа в париках и ливреях не влияет никоим образом. Зато уже одним своим существованием подтверждает сверхсюжетное устремление всей затеи, претендующей быть и комедией характеров, и комедией положений, и, разумеется, комедией-балетом. А в целом — высокой комедией. То есть такой, где у комического всегда есть драматическая подоплёка. Где одно без другого не существует.
Размышляя на примере Гольдони о природе высокой комедии, Джорджо Стрелер говорит о «трепете вечности», которого необходимо добиваться на сцене. И поэтому с подозрением относится к «заведённому механизму» сценической интриги, находя, что Гольдони и сам намеренно прячет этот механизм, обволакивает действие атмосферой печали и меланхолии, «которая обычно живёт рядом с добротой». Мольер в этом отношении, конечно, не так воздушен, как венецианец. Но Женовач подходит к нему со стрелеровским ключиком.
Когда впервые открывается занавес, мы видим человека в шлафроке, сидящего в кресле у горящего камина, и тень этого человека, пляшущую на высоких дубовых стенах. Трудно вообразить, что это и есть тот самый мнимый больной, которому предстоит ломать комедию. Картина магическая, завораживающая. Не сулящая ничего смехотворного. Напротив, в ней сразу же читается отказ обслуживать «заведённый механизм» комических ситуаций. Сценическое пространство решено художником Александром Боровским с неожиданным архитектурным размахом. При том никакой помпезности, самодовольной и бессмысленной декорированности, как в провинциальной опере. Не иллюстрируя сюжет, но и не контрастируя с ним, не выдавая жанр, это пространство, напоённое воздухом и светом, устремлённое ввысь, вбирает в себя всю совокупность переливчатых настроений спектакля. Здесь можно затеряться, предаться уединённым фантазиям... Почувствовать «трепет вечности».
Сергея Женовача пресса в последнее время хвалит с редким единодушием. И с благодушием, ещё более редким для наших дней. Тут и «гармонический дар», и какая-то «особая теплота», и «милота» (тоже, видно, особая), и «лёгкое приятие жизни»... Этими ласковыми словами, этими совокупными усилиями вылеплен образ режиссёра, приятного во всех отношениях. Но таких режиссёров не бывает в природе. Блаженных среди них нет. В основе всякого лёгкого приятия, всякого лёгкого дыхания, явленного художником миру, всегда таится что-то нелёгкое. Таится, но и проступает. Светит изнутри.
Что же это светит? Как это назвать?
Поневоле вспомнишь несчастного Арто, глубоко опечаленного невозможностью улавливать и передавать словами, передавать с исчерпывающей адекватностью, всю полноту и текучесть собственных мыслей и душевных движений. Все их оттенки. Все оттенки оттенков. Его пытались утешить: месье, такое недоступно никому, это выше человеческих возможностей. Он понимал: да, выше. Но смириться всё равно не мог. И навсегда остался опечален. Арто был безумец, и безумец яростный. Но такие, как он, сжигающие себя, лишь в более концентрированном и демонстративном виде проявляют универсальность внутренней печали (и меланхолии, как добавил бы Стрелер), неотъемлемой от любого, сколь угодно гармонического дара. Надо ли в качестве примера называть «Реквием» и Сороковую симфонию Моцарта? А может быть, лучше вспомнить «Жизнь артиста», вальс Иоганна Штрауса, чьё приятие жизни уж такое, казалось бы, лёгкое, легче вроде и не бывает, всё равно обнаруживает чуткость к её диссонансам.
Когда-то, много лет назад, мы, молодые сотрудники журнала «Театр», скептически относились к тому требованию, с которым Наталья Крымова считала нужным подходить к спектаклю: спектакль должен быть художественным, а его создатели должны быть художниками. Нам казалось, что это требование не то что неправильное, а какое-то слишком правильное. Слишком простое и потому уязвимое. Теперь такой простоты стало не хватать. Теперь отмечать художественность результата, а тем более художественность намерений, не очень принято. Считается, что это манера замшелой критики, со всеми её «отражениями» и «ликованиями», критики, вычитывающей из сценического текста не формулу спектакля и не вердикт, но возможность объясниться с собеседником — художником и читателем, вывести из своего впечатления какие-то «лишние» смыслы. Между тем художественность, при всей .неотчётливости этого критерия, на чувственном уровне запечатлевается очень даже отчётливо. Вопрос лишь в том, насколько ты способен воодушевить своим чувством других. И нужно ли это тебе самому. Крымовой было нужно.
В сезоне 1992/1993 она едва ли не первой определила характер одарённости молодого режиссёра Женовача. Сначала написала у нас в «Московском наблюдателе» о его «Владимире III степени», поставленном с «фоменка-ми», тогда ещё студентами. А вскоре, испытывая к режиссёру живой интерес, ради его спектаклей «Король Лир» и «Русский свет» (трилогии по «Идиоту» Достоевского) решилась переступить порог Театра на Малой Бронной («нечистое место», по её словам).
«Роман Достоевского, - пишет Крымова, - прочитан режиссёром-художником (вот опять! Это у неё постоянно: художник или нехудожник. - Примеч. авт.), не склонным к бунту, протесту и душевному хаосу». Но, не ограничиваясь констатацией гармоничности его мировосприятия, она рассуждает как раз о цене гармоничности, которую режиссёру-художнику предстоит заплатить. Она замечает некоторые совпадения между характером персонажа (князя Мышкина) и характером режиссёра и говорит об этом как о возможном «залоге трагедии» последнего: «... взгляд Мышкина может лишь до поры до времени утишить и примирить то, что в обществе и в человеческих натурах непримиримо... Дай Бог здоровья и успеха режиссёру, но судьбой князя все же управляет Достоевский, художник беспощадный, жутковатый». Это очень верно. Ни один князь Мышкин на свете не напишет о себе хорошего романа и не поставит хорошего спектакля.
В чём же отличие гармоничности Женовача от гармоничности его героя?
Ответ Крымовой опять-таки прост: ни одна положительная идея не способна пройти те тупики и лабиринты, сквозь которые проникает свет художественности. «Еспи название «Русский свет» следует понимать как многозначительное указание на географию, на определённый национальный источник и характер света, мне это кажется указанием... по существу бессмысленным. Но гораздо важнее кажется, что и в унылых сумерках, и в блистании огней современной рыночной, рекламы сами спектакли Сергея Женовача светятся ровным, сильным светом искусства и серьёзного труда, который всякому искусству предшествует».
Многое за эти годы пережив и преодолев, сегодня Сергей Женовач, кажется, готов к чему-то такому, что и с наскока поостерегутся назвать милым.
И последнее, о чём хотелось бы сказать.
Тема болезни — болезни, возвышающей человеческий дух и обостряющей его чувствительность к непримиримым противоречиям бытия, - в современном искусстве разработана, кажется, до отказа, до пародийного вырождения. По той дороге, что проложена Достоевским, Ницше, Ван Гогом, Арто, Томасом Манном (в «Докторе Фаустусе»), сегодня бродит множество мнимых больных, в том числе драматургов и режиссёров. Эти предприимчивые симулянты слишком хорошо усвоили, что быть здоровым — некрасиво, а красиво - делать арт-бизнес, вываливая перед публикой свои грошовые психоанализы, свою бесформенную кучу подсознания. (Нечто подобное наблюдалось в десятые годы прошлого века, когда идеи серьёзных мыслителей и поэтов подхватил «уличный символизм». Когда, по словам Мандельштама, даже «половой, отражённый двойными зеркалами ресторана «Прага», воспринимался как мистическое явление».) Так вот, спектакль Женовача тем ещё хорош, что оппозиции «здоровое—больное», спекулятивно вывернутой наизнанку, возвращает её естественный смысл. Без пафоса, без полемической запрограммированности. Не специально. Что лишний раз говорит об отсутствии в этом режиссере нехудожественного расчёта.
Александра Заславская, Валерий Семеновский
«Театр», №1, 2006
Дата публикации: 28.09.2006

СВЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ
«Мнимый больной» в Малом театре
Станиславский, готовясь к роли Аргана, считал, что играть её надо с задачей «хочу быть больным». Потом уточнил: «хочу, чтобы меня считали больным». Разница есть.
В первом варианте Арган - ипохондрик, желчный зануда (каким его и до и после Станиславского играли многие) — всецело сосредоточен на своих недугах. Объектом смеха становится его беспочвенная мнительность. Во втором — хитрец, притвора, сознательно испытывающий терпение домочадцев. Здесь комична не сама по себе мнимая болезнь, но мнимая проницательность обманутого обманщика. И в том и в другом варианте он остаётся несносным себялюбцем, домашним тираном, заслуживающим недвусмысленного морального урока. Это, конечно, не более чем схема. Внятная, но, как всякая схема, неживая.
У режиссёра Сергея Женовача и актёра Василия Бочкарёва мнимый больной и хочет быть больным, и хочет, чтобы его считали больным, но его себялюбие тираническим не назовёшь. Больше того. Как мотив поведения себялюбие не доминирует. Персонажем движет что-то ещё, неуловимо привлекательное.
Что именно, понимаешь не сразу. Роль развивается уклончиво, с захватывающими обертонами, и захват обеспечен оттеночной выделкой, техникой полунамёка, которую демонстрирует Бочкарёв. Оказывается, внятность, расчисленность образа-маски, законная для мольеровского театра, не исключает психологически многогранных, скользящих мотивировок и характеристик.
В том и прелесть этой актёрской работы и спектакля в целом. Живая прелесть, как сказали бы рецензенты канувших в лету времён.
Стоит лишь увериться, что Арган маниакально поглощён болезнью и чувствует себя несчастным, как он обнаруживает свойство болеть победоносно и радостно: со вкусом к жизни. Подобно полоумному Журдену, Арган обманываться рад. Только он не полоумный. Его идея-фикс — такая органическая смесь переживания и представления, что чёрт его знает, что у него на уме; где он искренен и доверчив, а где прикидывается и провоцирует; где запутался сам, а где запутывает других. Его медицинский фетишизм, его прожекты (выдать дочь за доктора против её воли, чтоб было удобнее и дешевле лечиться; самому сделаться доктором или аптекарем), разумеется, вздор. Но не бессердечная агрессия, а скорее причуда человека с живым умом и живым воображением. В иные моменты этот фантазёр способен и отвлечься от своих благоглупостей, проявить отзывчивость к близким. Мнимая болезнь подточила, но не разрушила в нём здравые основания семьянина. Другое дело, что этих оснований ему недостаточно. Аргану по-видимому наскучил бессобытийный ритуал отлаженной семейной жизни (уж такая жизнь в его доме: все вроде вместе, но врозь). А болезнь - событие. И новый ритуал, обязывающий к восстановлению остроты совместных переживаний. Глава семейства нуждается в партнёрах, в зрителях-соучастниках, чтобы разыгрывать своё представление-переживание не только для себя и не только для них. Но вместе с ними.
Иными словами, Арган — человек играющий. Что бы ни замышлял, что бы ни вытворял, практическая целесообразность его намерений и действий уступают чувству игры, азарту игры, имеющей цель только в себе самой. Вот почему он так счастлив болеть. И вот почему недвусмысленного морального урока такой Арган не очень-то заслуживает и в финале получает урок с учётом обстоятельства, если не оправдывающего все его заскоки, то по крайней мере смягчающего возмездие: поведение Аргана двусмысленно, но не двулично.
По логике спектакля (о логике жизни как-нибудь потом) двуличие с чувством игры несовместимо. А недвусмысленность как раз удел двуличных персонажей; чувство игры у них отсутствует, и никакими ухищрениями замаскировать такой изъян им не дано.
Посмотрим, как маскируется Белина, жена Аргана. На выход Евгении Глушенко, исполняющей роль этой сладкой, искренне фальшивой дамы, сочинён бессловесный променад из кулисы в кулису, эффектный и слегка шаржированный. Белина идёт долго, размеренно. И строго по прямой (в противоположность воодушевлённо-порывистым и хаотичным ритмам существования Аргана). Не идёт, а несёт себя, подаёт. Сама искусственность, расчётливость, воплощённое приличие-безразличие. Такую ничем не проймёшь, она уверена, что сама обхитрит кого угодно. Однако на игровую провокацию - мнимую смерть мужа - попадается мгновенно, пренебрегая даже видимостью скорби. Стремительность и прямолинейность, с какой она себя разоблачает, — посрамление интриганки, но и свидетельство её неспособности к игре. Не всякое притворство - игровое.
В той же ситуации Анжелика и Клеант, дочь Аргана и её возлюбленный, также не подозревающие подвоха, ведут себя совершенно иначе. Их реакция, как и у Белины, стремительна, но, в отличие от неё, внутренне подвижна, многоступенчата. Актёры Ольга Молочная и Глеб Подгородинский демонстрируют целую гамму быстрых эмоций. Сначала внезапной кончиной Аргана влюблённые искренне потрясены. Потом, когда Арган «оживает», следует взрыв столь же искренней радости, которая в конечном счёте сменяется радостью преувеличенной, игровой, свидетельствующей, что они Аргану под стать.
Чувством игры поверяется подлинность чистосердечия и здравомыслия персонажей. Те, в ком эти качества действительно есть, урезонивают мнимого больного, подшучивают над ним, но раздражаются не слишком. Не воевать же всерьёз с ребёнком, расшалившимся не в меру, переступившим черту, за которой игра неуместна. Лучше ему подыграть. И обыграть - с его же участием и по его же правилам: опять-таки вместе.
Апофеоз общего розыгрыша - финальная сцена, лжепосвящение Аргана в доктора. В обмане себя самого он участвует с тем же воодушевлением, с каким прежде
защищал свою болезнь. Ставя в роли последнюю точку, актёр - деликатно, не плюсуя - даёт отыгрыш на публику, как бы призывая не сомневаться, что завтра Арган выдумает что-нибудь новенькое.
Действие ещё не кончилось, но уже покинуло пределы сюжета пьесы, которому, впрочем, и раньше сюжет сценический не был равен; включал его в себя, не пренебрегая возможностями его интриги, но примешивая к ней свою. Так вот, на той едва уловимой грани, когда актёры, готовясь к поклонам и постановочно кланяясь, ещё находятся на территории спектакля, но всё-таки уже принадлежат себе самим, можно окончательно убедиться: игровая двусмысленность одерживает чистую победу. В чём, собственно, и заключается истинное назначение морального урока; урока, адресованного не Аргану, а нам с вами.
Игра игре рознь, однако. Да и двусмысленности разными бывают, иногда вполне отвратительными. Сколько мы видели классических комедий (хоть мольеровских, хоть каких), воплощённых на сцене с фальшивым, назойливым драйвом, с той беспричинной и беспредметной игривостью, какая способна литься только из вульгарной души. Вульгарными бывают и небесталанные, и мастеровитые люди. Умеющие завести публику, рассмешить во что бы то ни стало. Но то, что они позволяют себе на публике, - с известной отвагой и самоотдачей, - к творчеству отношения не имеет. Отвага вульгарной души не знает огранки: добровольных ограничений. Её самоотдача - не цель, а средство; когда самоотдача - цель, путь к цели предусматривает систему самозапретов. В так называемом игровом театре, да ещё если в пьесе действительно ощутимы признаки фарсовой, площадной традиции; если она и впрямь допускает элемент «турандотского» дуракаваляния, - в таком театре отсутствие самозапретов обычно проявляется более рельефно и беззастенчиво, нежели там, где притязают на серьезность и глубину. Будто сама природа комедии готова оправдать и всякий болевой приём, применённый режиссёром к пьесе, и манеру актёров шакалить, выдавая свою распущенность за раскрепощённость (якобы сегодня мы импровизируем).
В спектакле Женовача ничего подобного и близко нет. Он даже не очень смешной. То есть смешной, конечно. Но не так, чтобы очень. На каком-нибудь «№1 3», чистокровной комедии положений, смеёшься гораздо чаще и громче. А тут в основном улыбаешься.
Почему?
Есть ответ, который всегда наготове: а вот потому, что режиссёр обладает чувством меры. Ответ, однако, так себе. Не вполне удовлетворительный. Чем эту меру измерить-то7
Там, где одному достаточно улыбаться и не требовать иной эмоциональной температуры, другому чудится недобор, а третьему - так вообще перебор. Марину Тимашеву, чьё мнение мы уважаем, спектакль не очень завёл. Зато другую представительницу нашего цеха до того завёл, что был заклеймён ею как образцовая пошлость. (Не будем называть фамилию этой представительницы, поскольку её мнение, высказанное в ответах на анкету газеты «Культура» и никак не объяснённое, на фоне остальных отзывов прессы о спектакле Малого театра выглядит казусом.)
Так что же такое мера в этом конкретном случае и почему эта мера нам пришлась по душе?
Немирович-Данченко считал, что в «Мнимом больном» «всякий трюк, всякий талантливый фортель приемлем! Надо непременно смело, в стиле шалить. Хоть с импровизациями! Каскад фортелей!». В Малом так и шалят. И с фортелями, и смело. Но именно что в стиле.
Приглядимся к двум актёрам - к Людмиле Титовой и Александру Клюквину.
Титова предстаёт идеальной субреткой, можно сказать, во французском вкусе. Её служанка Туанетта чего только не вытворяет, но при этом будто сошла со старинной гравюры. Она классична. В ней и здравость, и авантюрность, и деятельная доброта, и быстрый ум. Смех, который вызывают её слова и поступки, - не животный, осмысленный. Удовольствие получаешь не столько от реприз или ситуаций, сколько от того, как они подаются актрисой, — с благородством тона. (Надо ли пояснять что такое благородный сценический тон? Теперь, наверное, надо. Хотя старик Кугель, как и другие почтенные тени русской критики, какой-нибудь Васильев-Флёров, к примеру, - завсегдатай Малого театра, коли уж писали, что у актёра благородный тон, так это и значило, что тон - благородный.) У Титовой, как и у Бочкарёва, всё решают оттенки, при очевидной масочности характера, типажа. Служанка - типаж простушки, вышедшей из низов; из простонародья, из простонародного, ярмарочного театра. Но у Мольера и после него это не совсем простолюдинка и совсем не плебейка. Века театральной практики так отшлифовали всех этих Фигаро (и в штанах, и в юбке), что их корневое и неутраченное свойство — нравственное здоровье — уже неотделимо от благоприобретённой утонченности. От тонкой игры. В Малом театре это почувствовали и передали. Такая Туанетта, какую сыграла Титова, очень подходит такому Аргану, какого сыграл Бочкарёв. Будь она хоть немного развязней, их партнёрство перестало бы отвечать требованиям игрового, сценического сюжета, стало бы уплощённым, грубым.
Хотелось написать: грубым, как в фарсе. Но это было бы неточно. Возвращение к народной органике фарса, к домолье-ровским временам, в принципе невозможная задача. Такие примеры, как «Король Убю» или «Великолепный рогоносец», не должны сбивать с толку. Что у Жарри, что у Кроммелинка фарсовое начало нельзя принимать за Чистую монету; у этих авторов, как, скажем, и в фильмах Чаплина, оно присутствует только в качестве примеси, парадоксально обостряющей как раз ту рефлексию взгляда на мир и на человека, которая фарсу в его изначальном виде не свойственна. И даже противоположна ему. В XX веке у художника-эксцентрика, художника-абсурдиста фарс - всегда трагифарс. По этой причине попытки представить сегодня на сцене любого классического комедиографа в обход художественного опыта, которым одарил нас XX век (а это происходит сплошь и рядом); попытки вернуться к смеху беспримесному, не обеспеченному рефлексией, - тонкой игрой, -неминуемо ведут к театральной пошлости.
Александра Клюквина - он играет брата Аргана, здравомыслящего Беральда, - режиссёр наделяет правом применять приём, который после Брехта стали называть остранением, но который охотно, пусть и простодушно, применяли ещё в старину; и в Александрынском, и в том же Малом театре. Тогда это называлось «выводы из плана». Хорошие актёры уже и в те времена понимали, что «вывод из плана» - не просто апарт, не просто обращение персонажа к публике, предусмотренное автором пьесы. Но и не отсебятина, когда актёр несёт в публику всё, что ему в голову взбредет, лишь бы только рассмешить. Хорошие актёры понимали, что «вывод из плана» - не приостановка роли, но только смена ракурса, способ обострить восприятие ее скрытых свойств. Не зная таких умных слов, как «зона импровизации» и «художественная целостность спектакля», зато имея четкое понятие о благородном тоне, они умели держать себя в разумных пределах даже там, где актёрской натуре страсть как хочется распоясаться. Так держит себя и Александр Клюквин. Его «шутки, свойственные театру», линию роли не прерывают, не дают усомниться в здравомыслии Беральда, в положительном обаянии его ума. Надо же (думаешь о персонаже), как иному человеку удаётся быть и таким рассудительным, правильным, и таким нескучным, живым! (Господин Клюквин, стоит отметить, выступает в спектакле и как литератор. Его коррективы старого перевода Н.М. Минского, равно как заметные вставки-отсебятины, — не капустный самострок, но умелая литературная стилизация.)
Одни актёры, как водится, ярче, другие бледнее, но без огранки, без самоограничения не существует никто.
Теперь попробуем дать представление о характере общего ритмического рисунка, предполагающем свободу, но исключающем своеволие.
Впечатляет безупречное умение фиксировать позы, мимически обозначать ключевые моменты (попутно заигрывая с публикой, откровенно ожидая ее одобрения), чтобы затем эту статуарную пластику сменить (контрастно) вихрем водевильных пробежек. Из кулисы в кулису несётся Арган; бежит, чуть не падая, Клеант, челноком снует Туанетта... А слуги, расставляющие канделябры, медлительны, как глубоководные рыбы. Получив приказание, не бросаются его исполнять, как бы обдумывая: а стоит ли? Режиссёр составляет из них живописную группу, то возникающую, то исчезающую за стеклом парадной двери. Арган посмотрит - они стоят; посмотрит ещё раз - их нет. Ему кажется, что это наваждение. Это и есть наваждение. Сугубо театральное. Такое двуединство реальности и мнимости, такой кордебалет, движение и мимика которого включены в постановочную партитуру, при том, что на внешний ход событий эта группа в париках и ливреях не влияет никоим образом. Зато уже одним своим существованием подтверждает сверхсюжетное устремление всей затеи, претендующей быть и комедией характеров, и комедией положений, и, разумеется, комедией-балетом. А в целом — высокой комедией. То есть такой, где у комического всегда есть драматическая подоплёка. Где одно без другого не существует.
Размышляя на примере Гольдони о природе высокой комедии, Джорджо Стрелер говорит о «трепете вечности», которого необходимо добиваться на сцене. И поэтому с подозрением относится к «заведённому механизму» сценической интриги, находя, что Гольдони и сам намеренно прячет этот механизм, обволакивает действие атмосферой печали и меланхолии, «которая обычно живёт рядом с добротой». Мольер в этом отношении, конечно, не так воздушен, как венецианец. Но Женовач подходит к нему со стрелеровским ключиком.
Когда впервые открывается занавес, мы видим человека в шлафроке, сидящего в кресле у горящего камина, и тень этого человека, пляшущую на высоких дубовых стенах. Трудно вообразить, что это и есть тот самый мнимый больной, которому предстоит ломать комедию. Картина магическая, завораживающая. Не сулящая ничего смехотворного. Напротив, в ней сразу же читается отказ обслуживать «заведённый механизм» комических ситуаций. Сценическое пространство решено художником Александром Боровским с неожиданным архитектурным размахом. При том никакой помпезности, самодовольной и бессмысленной декорированности, как в провинциальной опере. Не иллюстрируя сюжет, но и не контрастируя с ним, не выдавая жанр, это пространство, напоённое воздухом и светом, устремлённое ввысь, вбирает в себя всю совокупность переливчатых настроений спектакля. Здесь можно затеряться, предаться уединённым фантазиям... Почувствовать «трепет вечности».
Сергея Женовача пресса в последнее время хвалит с редким единодушием. И с благодушием, ещё более редким для наших дней. Тут и «гармонический дар», и какая-то «особая теплота», и «милота» (тоже, видно, особая), и «лёгкое приятие жизни»... Этими ласковыми словами, этими совокупными усилиями вылеплен образ режиссёра, приятного во всех отношениях. Но таких режиссёров не бывает в природе. Блаженных среди них нет. В основе всякого лёгкого приятия, всякого лёгкого дыхания, явленного художником миру, всегда таится что-то нелёгкое. Таится, но и проступает. Светит изнутри.
Что же это светит? Как это назвать?
Поневоле вспомнишь несчастного Арто, глубоко опечаленного невозможностью улавливать и передавать словами, передавать с исчерпывающей адекватностью, всю полноту и текучесть собственных мыслей и душевных движений. Все их оттенки. Все оттенки оттенков. Его пытались утешить: месье, такое недоступно никому, это выше человеческих возможностей. Он понимал: да, выше. Но смириться всё равно не мог. И навсегда остался опечален. Арто был безумец, и безумец яростный. Но такие, как он, сжигающие себя, лишь в более концентрированном и демонстративном виде проявляют универсальность внутренней печали (и меланхолии, как добавил бы Стрелер), неотъемлемой от любого, сколь угодно гармонического дара. Надо ли в качестве примера называть «Реквием» и Сороковую симфонию Моцарта? А может быть, лучше вспомнить «Жизнь артиста», вальс Иоганна Штрауса, чьё приятие жизни уж такое, казалось бы, лёгкое, легче вроде и не бывает, всё равно обнаруживает чуткость к её диссонансам.
Когда-то, много лет назад, мы, молодые сотрудники журнала «Театр», скептически относились к тому требованию, с которым Наталья Крымова считала нужным подходить к спектаклю: спектакль должен быть художественным, а его создатели должны быть художниками. Нам казалось, что это требование не то что неправильное, а какое-то слишком правильное. Слишком простое и потому уязвимое. Теперь такой простоты стало не хватать. Теперь отмечать художественность результата, а тем более художественность намерений, не очень принято. Считается, что это манера замшелой критики, со всеми её «отражениями» и «ликованиями», критики, вычитывающей из сценического текста не формулу спектакля и не вердикт, но возможность объясниться с собеседником — художником и читателем, вывести из своего впечатления какие-то «лишние» смыслы. Между тем художественность, при всей .неотчётливости этого критерия, на чувственном уровне запечатлевается очень даже отчётливо. Вопрос лишь в том, насколько ты способен воодушевить своим чувством других. И нужно ли это тебе самому. Крымовой было нужно.
В сезоне 1992/1993 она едва ли не первой определила характер одарённости молодого режиссёра Женовача. Сначала написала у нас в «Московском наблюдателе» о его «Владимире III степени», поставленном с «фоменка-ми», тогда ещё студентами. А вскоре, испытывая к режиссёру живой интерес, ради его спектаклей «Король Лир» и «Русский свет» (трилогии по «Идиоту» Достоевского) решилась переступить порог Театра на Малой Бронной («нечистое место», по её словам).
«Роман Достоевского, - пишет Крымова, - прочитан режиссёром-художником (вот опять! Это у неё постоянно: художник или нехудожник. - Примеч. авт.), не склонным к бунту, протесту и душевному хаосу». Но, не ограничиваясь констатацией гармоничности его мировосприятия, она рассуждает как раз о цене гармоничности, которую режиссёру-художнику предстоит заплатить. Она замечает некоторые совпадения между характером персонажа (князя Мышкина) и характером режиссёра и говорит об этом как о возможном «залоге трагедии» последнего: «... взгляд Мышкина может лишь до поры до времени утишить и примирить то, что в обществе и в человеческих натурах непримиримо... Дай Бог здоровья и успеха режиссёру, но судьбой князя все же управляет Достоевский, художник беспощадный, жутковатый». Это очень верно. Ни один князь Мышкин на свете не напишет о себе хорошего романа и не поставит хорошего спектакля.
В чём же отличие гармоничности Женовача от гармоничности его героя?
Ответ Крымовой опять-таки прост: ни одна положительная идея не способна пройти те тупики и лабиринты, сквозь которые проникает свет художественности. «Еспи название «Русский свет» следует понимать как многозначительное указание на географию, на определённый национальный источник и характер света, мне это кажется указанием... по существу бессмысленным. Но гораздо важнее кажется, что и в унылых сумерках, и в блистании огней современной рыночной, рекламы сами спектакли Сергея Женовача светятся ровным, сильным светом искусства и серьёзного труда, который всякому искусству предшествует».
Многое за эти годы пережив и преодолев, сегодня Сергей Женовач, кажется, готов к чему-то такому, что и с наскока поостерегутся назвать милым.
И последнее, о чём хотелось бы сказать.
Тема болезни — болезни, возвышающей человеческий дух и обостряющей его чувствительность к непримиримым противоречиям бытия, - в современном искусстве разработана, кажется, до отказа, до пародийного вырождения. По той дороге, что проложена Достоевским, Ницше, Ван Гогом, Арто, Томасом Манном (в «Докторе Фаустусе»), сегодня бродит множество мнимых больных, в том числе драматургов и режиссёров. Эти предприимчивые симулянты слишком хорошо усвоили, что быть здоровым — некрасиво, а красиво - делать арт-бизнес, вываливая перед публикой свои грошовые психоанализы, свою бесформенную кучу подсознания. (Нечто подобное наблюдалось в десятые годы прошлого века, когда идеи серьёзных мыслителей и поэтов подхватил «уличный символизм». Когда, по словам Мандельштама, даже «половой, отражённый двойными зеркалами ресторана «Прага», воспринимался как мистическое явление».) Так вот, спектакль Женовача тем ещё хорош, что оппозиции «здоровое—больное», спекулятивно вывернутой наизнанку, возвращает её естественный смысл. Без пафоса, без полемической запрограммированности. Не специально. Что лишний раз говорит об отсутствии в этом режиссере нехудожественного расчёта.
Александра Заславская, Валерий Семеновский
«Театр», №1, 2006
«Мнимый больной» в Малом театре
Станиславский, готовясь к роли Аргана, считал, что играть её надо с задачей «хочу быть больным». Потом уточнил: «хочу, чтобы меня считали больным». Разница есть.
В первом варианте Арган - ипохондрик, желчный зануда (каким его и до и после Станиславского играли многие) — всецело сосредоточен на своих недугах. Объектом смеха становится его беспочвенная мнительность. Во втором — хитрец, притвора, сознательно испытывающий терпение домочадцев. Здесь комична не сама по себе мнимая болезнь, но мнимая проницательность обманутого обманщика. И в том и в другом варианте он остаётся несносным себялюбцем, домашним тираном, заслуживающим недвусмысленного морального урока. Это, конечно, не более чем схема. Внятная, но, как всякая схема, неживая.
У режиссёра Сергея Женовача и актёра Василия Бочкарёва мнимый больной и хочет быть больным, и хочет, чтобы его считали больным, но его себялюбие тираническим не назовёшь. Больше того. Как мотив поведения себялюбие не доминирует. Персонажем движет что-то ещё, неуловимо привлекательное.
Что именно, понимаешь не сразу. Роль развивается уклончиво, с захватывающими обертонами, и захват обеспечен оттеночной выделкой, техникой полунамёка, которую демонстрирует Бочкарёв. Оказывается, внятность, расчисленность образа-маски, законная для мольеровского театра, не исключает психологически многогранных, скользящих мотивировок и характеристик.
В том и прелесть этой актёрской работы и спектакля в целом. Живая прелесть, как сказали бы рецензенты канувших в лету времён.
Стоит лишь увериться, что Арган маниакально поглощён болезнью и чувствует себя несчастным, как он обнаруживает свойство болеть победоносно и радостно: со вкусом к жизни. Подобно полоумному Журдену, Арган обманываться рад. Только он не полоумный. Его идея-фикс — такая органическая смесь переживания и представления, что чёрт его знает, что у него на уме; где он искренен и доверчив, а где прикидывается и провоцирует; где запутался сам, а где запутывает других. Его медицинский фетишизм, его прожекты (выдать дочь за доктора против её воли, чтоб было удобнее и дешевле лечиться; самому сделаться доктором или аптекарем), разумеется, вздор. Но не бессердечная агрессия, а скорее причуда человека с живым умом и живым воображением. В иные моменты этот фантазёр способен и отвлечься от своих благоглупостей, проявить отзывчивость к близким. Мнимая болезнь подточила, но не разрушила в нём здравые основания семьянина. Другое дело, что этих оснований ему недостаточно. Аргану по-видимому наскучил бессобытийный ритуал отлаженной семейной жизни (уж такая жизнь в его доме: все вроде вместе, но врозь). А болезнь - событие. И новый ритуал, обязывающий к восстановлению остроты совместных переживаний. Глава семейства нуждается в партнёрах, в зрителях-соучастниках, чтобы разыгрывать своё представление-переживание не только для себя и не только для них. Но вместе с ними.
Иными словами, Арган — человек играющий. Что бы ни замышлял, что бы ни вытворял, практическая целесообразность его намерений и действий уступают чувству игры, азарту игры, имеющей цель только в себе самой. Вот почему он так счастлив болеть. И вот почему недвусмысленного морального урока такой Арган не очень-то заслуживает и в финале получает урок с учётом обстоятельства, если не оправдывающего все его заскоки, то по крайней мере смягчающего возмездие: поведение Аргана двусмысленно, но не двулично.
По логике спектакля (о логике жизни как-нибудь потом) двуличие с чувством игры несовместимо. А недвусмысленность как раз удел двуличных персонажей; чувство игры у них отсутствует, и никакими ухищрениями замаскировать такой изъян им не дано.
Посмотрим, как маскируется Белина, жена Аргана. На выход Евгении Глушенко, исполняющей роль этой сладкой, искренне фальшивой дамы, сочинён бессловесный променад из кулисы в кулису, эффектный и слегка шаржированный. Белина идёт долго, размеренно. И строго по прямой (в противоположность воодушевлённо-порывистым и хаотичным ритмам существования Аргана). Не идёт, а несёт себя, подаёт. Сама искусственность, расчётливость, воплощённое приличие-безразличие. Такую ничем не проймёшь, она уверена, что сама обхитрит кого угодно. Однако на игровую провокацию - мнимую смерть мужа - попадается мгновенно, пренебрегая даже видимостью скорби. Стремительность и прямолинейность, с какой она себя разоблачает, — посрамление интриганки, но и свидетельство её неспособности к игре. Не всякое притворство - игровое.
В той же ситуации Анжелика и Клеант, дочь Аргана и её возлюбленный, также не подозревающие подвоха, ведут себя совершенно иначе. Их реакция, как и у Белины, стремительна, но, в отличие от неё, внутренне подвижна, многоступенчата. Актёры Ольга Молочная и Глеб Подгородинский демонстрируют целую гамму быстрых эмоций. Сначала внезапной кончиной Аргана влюблённые искренне потрясены. Потом, когда Арган «оживает», следует взрыв столь же искренней радости, которая в конечном счёте сменяется радостью преувеличенной, игровой, свидетельствующей, что они Аргану под стать.
Чувством игры поверяется подлинность чистосердечия и здравомыслия персонажей. Те, в ком эти качества действительно есть, урезонивают мнимого больного, подшучивают над ним, но раздражаются не слишком. Не воевать же всерьёз с ребёнком, расшалившимся не в меру, переступившим черту, за которой игра неуместна. Лучше ему подыграть. И обыграть - с его же участием и по его же правилам: опять-таки вместе.
Апофеоз общего розыгрыша - финальная сцена, лжепосвящение Аргана в доктора. В обмане себя самого он участвует с тем же воодушевлением, с каким прежде
защищал свою болезнь. Ставя в роли последнюю точку, актёр - деликатно, не плюсуя - даёт отыгрыш на публику, как бы призывая не сомневаться, что завтра Арган выдумает что-нибудь новенькое.
Действие ещё не кончилось, но уже покинуло пределы сюжета пьесы, которому, впрочем, и раньше сюжет сценический не был равен; включал его в себя, не пренебрегая возможностями его интриги, но примешивая к ней свою. Так вот, на той едва уловимой грани, когда актёры, готовясь к поклонам и постановочно кланяясь, ещё находятся на территории спектакля, но всё-таки уже принадлежат себе самим, можно окончательно убедиться: игровая двусмысленность одерживает чистую победу. В чём, собственно, и заключается истинное назначение морального урока; урока, адресованного не Аргану, а нам с вами.
Игра игре рознь, однако. Да и двусмысленности разными бывают, иногда вполне отвратительными. Сколько мы видели классических комедий (хоть мольеровских, хоть каких), воплощённых на сцене с фальшивым, назойливым драйвом, с той беспричинной и беспредметной игривостью, какая способна литься только из вульгарной души. Вульгарными бывают и небесталанные, и мастеровитые люди. Умеющие завести публику, рассмешить во что бы то ни стало. Но то, что они позволяют себе на публике, - с известной отвагой и самоотдачей, - к творчеству отношения не имеет. Отвага вульгарной души не знает огранки: добровольных ограничений. Её самоотдача - не цель, а средство; когда самоотдача - цель, путь к цели предусматривает систему самозапретов. В так называемом игровом театре, да ещё если в пьесе действительно ощутимы признаки фарсовой, площадной традиции; если она и впрямь допускает элемент «турандотского» дуракаваляния, - в таком театре отсутствие самозапретов обычно проявляется более рельефно и беззастенчиво, нежели там, где притязают на серьезность и глубину. Будто сама природа комедии готова оправдать и всякий болевой приём, применённый режиссёром к пьесе, и манеру актёров шакалить, выдавая свою распущенность за раскрепощённость (якобы сегодня мы импровизируем).
В спектакле Женовача ничего подобного и близко нет. Он даже не очень смешной. То есть смешной, конечно. Но не так, чтобы очень. На каком-нибудь «№1 3», чистокровной комедии положений, смеёшься гораздо чаще и громче. А тут в основном улыбаешься.
Почему?
Есть ответ, который всегда наготове: а вот потому, что режиссёр обладает чувством меры. Ответ, однако, так себе. Не вполне удовлетворительный. Чем эту меру измерить-то7
Там, где одному достаточно улыбаться и не требовать иной эмоциональной температуры, другому чудится недобор, а третьему - так вообще перебор. Марину Тимашеву, чьё мнение мы уважаем, спектакль не очень завёл. Зато другую представительницу нашего цеха до того завёл, что был заклеймён ею как образцовая пошлость. (Не будем называть фамилию этой представительницы, поскольку её мнение, высказанное в ответах на анкету газеты «Культура» и никак не объяснённое, на фоне остальных отзывов прессы о спектакле Малого театра выглядит казусом.)
Так что же такое мера в этом конкретном случае и почему эта мера нам пришлась по душе?
Немирович-Данченко считал, что в «Мнимом больном» «всякий трюк, всякий талантливый фортель приемлем! Надо непременно смело, в стиле шалить. Хоть с импровизациями! Каскад фортелей!». В Малом так и шалят. И с фортелями, и смело. Но именно что в стиле.
Приглядимся к двум актёрам - к Людмиле Титовой и Александру Клюквину.
Титова предстаёт идеальной субреткой, можно сказать, во французском вкусе. Её служанка Туанетта чего только не вытворяет, но при этом будто сошла со старинной гравюры. Она классична. В ней и здравость, и авантюрность, и деятельная доброта, и быстрый ум. Смех, который вызывают её слова и поступки, - не животный, осмысленный. Удовольствие получаешь не столько от реприз или ситуаций, сколько от того, как они подаются актрисой, — с благородством тона. (Надо ли пояснять что такое благородный сценический тон? Теперь, наверное, надо. Хотя старик Кугель, как и другие почтенные тени русской критики, какой-нибудь Васильев-Флёров, к примеру, - завсегдатай Малого театра, коли уж писали, что у актёра благородный тон, так это и значило, что тон - благородный.) У Титовой, как и у Бочкарёва, всё решают оттенки, при очевидной масочности характера, типажа. Служанка - типаж простушки, вышедшей из низов; из простонародья, из простонародного, ярмарочного театра. Но у Мольера и после него это не совсем простолюдинка и совсем не плебейка. Века театральной практики так отшлифовали всех этих Фигаро (и в штанах, и в юбке), что их корневое и неутраченное свойство — нравственное здоровье — уже неотделимо от благоприобретённой утонченности. От тонкой игры. В Малом театре это почувствовали и передали. Такая Туанетта, какую сыграла Титова, очень подходит такому Аргану, какого сыграл Бочкарёв. Будь она хоть немного развязней, их партнёрство перестало бы отвечать требованиям игрового, сценического сюжета, стало бы уплощённым, грубым.
Хотелось написать: грубым, как в фарсе. Но это было бы неточно. Возвращение к народной органике фарса, к домолье-ровским временам, в принципе невозможная задача. Такие примеры, как «Король Убю» или «Великолепный рогоносец», не должны сбивать с толку. Что у Жарри, что у Кроммелинка фарсовое начало нельзя принимать за Чистую монету; у этих авторов, как, скажем, и в фильмах Чаплина, оно присутствует только в качестве примеси, парадоксально обостряющей как раз ту рефлексию взгляда на мир и на человека, которая фарсу в его изначальном виде не свойственна. И даже противоположна ему. В XX веке у художника-эксцентрика, художника-абсурдиста фарс - всегда трагифарс. По этой причине попытки представить сегодня на сцене любого классического комедиографа в обход художественного опыта, которым одарил нас XX век (а это происходит сплошь и рядом); попытки вернуться к смеху беспримесному, не обеспеченному рефлексией, - тонкой игрой, -неминуемо ведут к театральной пошлости.
Александра Клюквина - он играет брата Аргана, здравомыслящего Беральда, - режиссёр наделяет правом применять приём, который после Брехта стали называть остранением, но который охотно, пусть и простодушно, применяли ещё в старину; и в Александрынском, и в том же Малом театре. Тогда это называлось «выводы из плана». Хорошие актёры уже и в те времена понимали, что «вывод из плана» - не просто апарт, не просто обращение персонажа к публике, предусмотренное автором пьесы. Но и не отсебятина, когда актёр несёт в публику всё, что ему в голову взбредет, лишь бы только рассмешить. Хорошие актёры понимали, что «вывод из плана» - не приостановка роли, но только смена ракурса, способ обострить восприятие ее скрытых свойств. Не зная таких умных слов, как «зона импровизации» и «художественная целостность спектакля», зато имея четкое понятие о благородном тоне, они умели держать себя в разумных пределах даже там, где актёрской натуре страсть как хочется распоясаться. Так держит себя и Александр Клюквин. Его «шутки, свойственные театру», линию роли не прерывают, не дают усомниться в здравомыслии Беральда, в положительном обаянии его ума. Надо же (думаешь о персонаже), как иному человеку удаётся быть и таким рассудительным, правильным, и таким нескучным, живым! (Господин Клюквин, стоит отметить, выступает в спектакле и как литератор. Его коррективы старого перевода Н.М. Минского, равно как заметные вставки-отсебятины, — не капустный самострок, но умелая литературная стилизация.)
Одни актёры, как водится, ярче, другие бледнее, но без огранки, без самоограничения не существует никто.
Теперь попробуем дать представление о характере общего ритмического рисунка, предполагающем свободу, но исключающем своеволие.
Впечатляет безупречное умение фиксировать позы, мимически обозначать ключевые моменты (попутно заигрывая с публикой, откровенно ожидая ее одобрения), чтобы затем эту статуарную пластику сменить (контрастно) вихрем водевильных пробежек. Из кулисы в кулису несётся Арган; бежит, чуть не падая, Клеант, челноком снует Туанетта... А слуги, расставляющие канделябры, медлительны, как глубоководные рыбы. Получив приказание, не бросаются его исполнять, как бы обдумывая: а стоит ли? Режиссёр составляет из них живописную группу, то возникающую, то исчезающую за стеклом парадной двери. Арган посмотрит - они стоят; посмотрит ещё раз - их нет. Ему кажется, что это наваждение. Это и есть наваждение. Сугубо театральное. Такое двуединство реальности и мнимости, такой кордебалет, движение и мимика которого включены в постановочную партитуру, при том, что на внешний ход событий эта группа в париках и ливреях не влияет никоим образом. Зато уже одним своим существованием подтверждает сверхсюжетное устремление всей затеи, претендующей быть и комедией характеров, и комедией положений, и, разумеется, комедией-балетом. А в целом — высокой комедией. То есть такой, где у комического всегда есть драматическая подоплёка. Где одно без другого не существует.
Размышляя на примере Гольдони о природе высокой комедии, Джорджо Стрелер говорит о «трепете вечности», которого необходимо добиваться на сцене. И поэтому с подозрением относится к «заведённому механизму» сценической интриги, находя, что Гольдони и сам намеренно прячет этот механизм, обволакивает действие атмосферой печали и меланхолии, «которая обычно живёт рядом с добротой». Мольер в этом отношении, конечно, не так воздушен, как венецианец. Но Женовач подходит к нему со стрелеровским ключиком.
Когда впервые открывается занавес, мы видим человека в шлафроке, сидящего в кресле у горящего камина, и тень этого человека, пляшущую на высоких дубовых стенах. Трудно вообразить, что это и есть тот самый мнимый больной, которому предстоит ломать комедию. Картина магическая, завораживающая. Не сулящая ничего смехотворного. Напротив, в ней сразу же читается отказ обслуживать «заведённый механизм» комических ситуаций. Сценическое пространство решено художником Александром Боровским с неожиданным архитектурным размахом. При том никакой помпезности, самодовольной и бессмысленной декорированности, как в провинциальной опере. Не иллюстрируя сюжет, но и не контрастируя с ним, не выдавая жанр, это пространство, напоённое воздухом и светом, устремлённое ввысь, вбирает в себя всю совокупность переливчатых настроений спектакля. Здесь можно затеряться, предаться уединённым фантазиям... Почувствовать «трепет вечности».
Сергея Женовача пресса в последнее время хвалит с редким единодушием. И с благодушием, ещё более редким для наших дней. Тут и «гармонический дар», и какая-то «особая теплота», и «милота» (тоже, видно, особая), и «лёгкое приятие жизни»... Этими ласковыми словами, этими совокупными усилиями вылеплен образ режиссёра, приятного во всех отношениях. Но таких режиссёров не бывает в природе. Блаженных среди них нет. В основе всякого лёгкого приятия, всякого лёгкого дыхания, явленного художником миру, всегда таится что-то нелёгкое. Таится, но и проступает. Светит изнутри.
Что же это светит? Как это назвать?
Поневоле вспомнишь несчастного Арто, глубоко опечаленного невозможностью улавливать и передавать словами, передавать с исчерпывающей адекватностью, всю полноту и текучесть собственных мыслей и душевных движений. Все их оттенки. Все оттенки оттенков. Его пытались утешить: месье, такое недоступно никому, это выше человеческих возможностей. Он понимал: да, выше. Но смириться всё равно не мог. И навсегда остался опечален. Арто был безумец, и безумец яростный. Но такие, как он, сжигающие себя, лишь в более концентрированном и демонстративном виде проявляют универсальность внутренней печали (и меланхолии, как добавил бы Стрелер), неотъемлемой от любого, сколь угодно гармонического дара. Надо ли в качестве примера называть «Реквием» и Сороковую симфонию Моцарта? А может быть, лучше вспомнить «Жизнь артиста», вальс Иоганна Штрауса, чьё приятие жизни уж такое, казалось бы, лёгкое, легче вроде и не бывает, всё равно обнаруживает чуткость к её диссонансам.
Когда-то, много лет назад, мы, молодые сотрудники журнала «Театр», скептически относились к тому требованию, с которым Наталья Крымова считала нужным подходить к спектаклю: спектакль должен быть художественным, а его создатели должны быть художниками. Нам казалось, что это требование не то что неправильное, а какое-то слишком правильное. Слишком простое и потому уязвимое. Теперь такой простоты стало не хватать. Теперь отмечать художественность результата, а тем более художественность намерений, не очень принято. Считается, что это манера замшелой критики, со всеми её «отражениями» и «ликованиями», критики, вычитывающей из сценического текста не формулу спектакля и не вердикт, но возможность объясниться с собеседником — художником и читателем, вывести из своего впечатления какие-то «лишние» смыслы. Между тем художественность, при всей .неотчётливости этого критерия, на чувственном уровне запечатлевается очень даже отчётливо. Вопрос лишь в том, насколько ты способен воодушевить своим чувством других. И нужно ли это тебе самому. Крымовой было нужно.
В сезоне 1992/1993 она едва ли не первой определила характер одарённости молодого режиссёра Женовача. Сначала написала у нас в «Московском наблюдателе» о его «Владимире III степени», поставленном с «фоменка-ми», тогда ещё студентами. А вскоре, испытывая к режиссёру живой интерес, ради его спектаклей «Король Лир» и «Русский свет» (трилогии по «Идиоту» Достоевского) решилась переступить порог Театра на Малой Бронной («нечистое место», по её словам).
«Роман Достоевского, - пишет Крымова, - прочитан режиссёром-художником (вот опять! Это у неё постоянно: художник или нехудожник. - Примеч. авт.), не склонным к бунту, протесту и душевному хаосу». Но, не ограничиваясь констатацией гармоничности его мировосприятия, она рассуждает как раз о цене гармоничности, которую режиссёру-художнику предстоит заплатить. Она замечает некоторые совпадения между характером персонажа (князя Мышкина) и характером режиссёра и говорит об этом как о возможном «залоге трагедии» последнего: «... взгляд Мышкина может лишь до поры до времени утишить и примирить то, что в обществе и в человеческих натурах непримиримо... Дай Бог здоровья и успеха режиссёру, но судьбой князя все же управляет Достоевский, художник беспощадный, жутковатый». Это очень верно. Ни один князь Мышкин на свете не напишет о себе хорошего романа и не поставит хорошего спектакля.
В чём же отличие гармоничности Женовача от гармоничности его героя?
Ответ Крымовой опять-таки прост: ни одна положительная идея не способна пройти те тупики и лабиринты, сквозь которые проникает свет художественности. «Еспи название «Русский свет» следует понимать как многозначительное указание на географию, на определённый национальный источник и характер света, мне это кажется указанием... по существу бессмысленным. Но гораздо важнее кажется, что и в унылых сумерках, и в блистании огней современной рыночной, рекламы сами спектакли Сергея Женовача светятся ровным, сильным светом искусства и серьёзного труда, который всякому искусству предшествует».
Многое за эти годы пережив и преодолев, сегодня Сергей Женовач, кажется, готов к чему-то такому, что и с наскока поостерегутся назвать милым.
И последнее, о чём хотелось бы сказать.
Тема болезни — болезни, возвышающей человеческий дух и обостряющей его чувствительность к непримиримым противоречиям бытия, - в современном искусстве разработана, кажется, до отказа, до пародийного вырождения. По той дороге, что проложена Достоевским, Ницше, Ван Гогом, Арто, Томасом Манном (в «Докторе Фаустусе»), сегодня бродит множество мнимых больных, в том числе драматургов и режиссёров. Эти предприимчивые симулянты слишком хорошо усвоили, что быть здоровым — некрасиво, а красиво - делать арт-бизнес, вываливая перед публикой свои грошовые психоанализы, свою бесформенную кучу подсознания. (Нечто подобное наблюдалось в десятые годы прошлого века, когда идеи серьёзных мыслителей и поэтов подхватил «уличный символизм». Когда, по словам Мандельштама, даже «половой, отражённый двойными зеркалами ресторана «Прага», воспринимался как мистическое явление».) Так вот, спектакль Женовача тем ещё хорош, что оппозиции «здоровое—больное», спекулятивно вывернутой наизнанку, возвращает её естественный смысл. Без пафоса, без полемической запрограммированности. Не специально. Что лишний раз говорит об отсутствии в этом режиссере нехудожественного расчёта.
Александра Заславская, Валерий Семеновский
«Театр», №1, 2006
Дата публикации: 28.09.2006