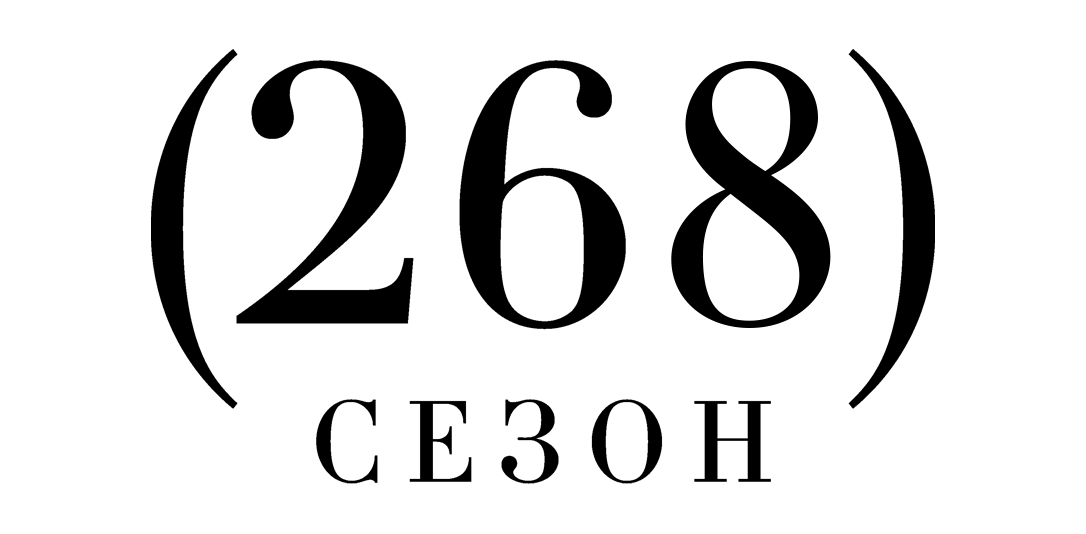Новости
«К 140-летию со дня рождения Александры Александровны Яблочкиной»
А.А.ЯБЛОЧКИНА «75 ЛЕТ В ТЕАТРЕ»

«К 140-летию со дня рождения Александры Александровны Яблочкиной» А.А.ЯБЛОЧКИНА «75 ЛЕТ В ТЕАТРЕ»
«К 140-летию со дня рождения Александры Александровны Яблочкиной»
А.А.ЯБЛОЧКИНА «75 ЛЕТ В ТЕАТРЕ»
ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА. МАРИЯ ЕРМОЛОВА
К ЧИТАТЕЛЮ
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (начало)
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (продолжение)
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (окончание)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (начало)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (продолжение)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (продолжение)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (окончание)
ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА. ГЛИКЕРИЯ ФЕДОТОВА
Мне довелось видеть игру многих первоклассных актеров как русских, так и иностранных.
В первые годы моей работы в Малом театре группа лучших актеров пропагандировала пьесы русских и западных классиков. Во главе этого течения стояли такие артисты-гиганты, как Ермолова, Ленский, Южин, Горев, которые пользовались каждым случаем, чтобы добиться постановки на сцене пьес Островского, Шекспира, Шиллера, Гюго. И сколько незабываемой радости давали они нам своей игрой! Сила, красота и благородство их исполнения, умение раскрыть глубокое значение сложных образов, реалистическая правдивая игра одинаково волновали людей и по ту и по эту сторону рампы. Мы уходили из театра потрясенными и просветленными.
Среди них самой великой силой обладала незабвенная Мария Николаевна Ермолова.
Я с трепетом приступаю к рассказу о величайшем художнике русской сцены, артистке, которая была моим недостижимым идеалом и олицетворением всего лучшего и светлого в искусстве.
Среди самых счастливых дней моей жизни я назову те, когда я играла с Ермоловой.
Вспоминать и рассказывать, как Мария Николаевна создавала свои образы, трудно. Нет таких слов, которыми можно было бы хоть приблизительно верно восстановить ее несравненное искусство, рассказать о силе ее благотворного воздействия на зрительный зал. И все же я попытаюсь это сделать.
Каждый спектакль с участием Марии Николаевны Ермоловой был праздником для меня — играла ли я в нем или была простым зрителем. Когда приближались часы спектакля, мной овладевала лихорадка. Стоило мне услышать звуки ее голоса — и по спине пробегал как бы электрический ток, горло сжималось. Ее низкий грудной голос, проникнутый трепетом нарастающей страсти, ударял по нервам. Вопль страдания оскорбленной души или могучий призыв к свободе, к борьбе заставляли сердце замирать. Где тут было судить, критиковать, запоминать детали! Можно было только отдаваться безраздельно тем чувствам, которые вызывала в зрителях Ермолова.
Уже в своей первой роли, в трагедии Лессинга «Эмилия Галотти», Ермолова подняла знамя утверждения человеческого достоинства, силы духа свободного человека.
В дневнике Ермоловой, найденном не так давно, есть запись (она относится к первым годам ее артистической жизни) о том, что ее цель—приносить пользу, звать зрителей к другой жизни. И она звала! И это понимали не только мы, ее товарищи, не только студенческая молодежь и лучшая часть зрителей, но и... власти. «Овечий источник» был запрещен к представлению, так как призыв Ермоловой — Лаурен-сии к отмщению, к свободе воодушевлял не только артистов, изображавших жителей Фуенте Овехуна, но, и это главное, зрителей.
Первое же представление «Овечьего источника» обнаружило поистине небывалую силу редчайшего в истории театра дарования Ермоловой. На втором представлении театр был оцеплен полицией, переодетые шпики наводнили зрительный зал.
Постановка «Овечьего источника» вырастала в подлинно общественное явление. Немудрено, что власти, которые еще в 1858 году устами московского генерал-губернатора заявляли, что «к элементам, которые могут послужить неблагонамеренным людям, чтобы произвести переворот в государстве, должны быть отнесены, между прочим, и театральные представления», поспешили вовсе запретить этот спектакль.
Подлинным чудом была игра Ермоловой в роли Иоанны д\\\'Арк в трагедии Шиллера «Орлеанская дева».
В Иоанне д\\\'Арк, легендарной героине французского народа, Ермолова с огромной поэтической силой выразила свои чаяния, мечты о свободе и лучшем будущем для своей родины.
Ермолова всегда шла дальше драматурга. Она наполняла свои образы живым, современным содержанием и непременно русским. Поэтому в роли Иоанны ее слова разили, призывали к борьбе, вселяли в людей дух доблести и храбрости. Я играла в этом спектакле Агнесу Сорель. И оттого, что я участвовала в этом спектакле вместе с Марией Николаевной, он навсегда врезался мне в память. Постараюсь передать свои воспоминания.
Я была молода, не искушена сценически, все воспринимала непосредственно. Не анализируя, я упивалась счастьем быть с ней на сцене, слушать ее необыкновенный голос, видеть ее нервное одухотворенное лицо... Наша общая сцена — в первом акте. Перед приходом Иоанны все мои нервы напряжены: я жду ее выхода... Ее появление и затем первые звуки ее голоса, низкие, грудные, отдающиеся в вашем сердце... Могу сравнить их со звуками виолончели, когда она вступает в общий ансамбль инструментов...
Ермолова — Иоанна предстает перед зрителями в деревенской одежде, и только шлем, который она берет у Бертранда, говорит о ее необычайном для женщины намерении.
Удивительно, как разгадывала она три молитвы короля. Эти три молитвы были тайные, а Иоанна открывала всем их смысл. И Ермолова проводила эту сцену так, что вы, зритель или ее партнер, одинаково начинали верить, что перед, вами — пророчица. Это было похоже на иллюзию. Ты знаешь, что это игра, что перед тобой актриса, но это знает твой рассудок: воспринимаешь же ты все происходящее как полную реальность.
И самое главное — никакого пафоса в этих сценах нет, И разговор с королем о его трех молитвах, затем рассказ, о себе, о своем предназначении, о видениях... все было необыкновенно просто и вместе с тем так значительно, что навсегда запало в душу. Рассказывая о видении, артистка вся преображалась, голос ее переходил на еще более низкие ноты, не только глаза ее сияли, она вся как бы светилась. Ее экстаз и трепет передавались зрителям, и мне, Агнесе, было легко следовать ремарке автора: «в слезах закрывает лицо руками».
Просто и безо всякого напряжения ведет она себя и после, когда придворные короля приходят в восторг, в неистовство и изъявляют готовность следовать за этой крестьянской девушкой, покоряться во всем ее слову. Да, простота и естественность были свойственны Ермоловой, но какой сокровенный смысл заключался в ермоловской простоте и естественности! В самом тишайшем ее слове таилась сила большая, чем в монологе иного трагика. Когда голос Ермоловой звучал на сцене тихо, каждый из нас боялся шелохнуться, чтобы не проронить ни одной интонации...
Но вот к французскому королю явился посол английской державы, он произносит дерзкие слова, он словно жаждет принизить Францию в лице ее воинов — и тогда кончаются покой и тишина в поведении Иоанны. Попросив разрешения ответить послу, она оборачивается к нам, и мы видим разительную перемену во всем ее существе. Так бывает, когда плывущая по светлому небу туча вдруг закрывает солнце,— все остается как будто тем же, но меняется настроение дня. Так по лицу Ермоловой — Иоанны словно проходила туча: менялось все. Теплое, близкое нам, окружающим Иоанну, излучение ее глаз становилось суровым. Холодом и величием веяло от всего ее лица, от строгой позы. Она произносила: «Кто говорит, герольд, в твоем лице?»
Тон, которым сказана эта фраза, заставлял нас удивленно переглянуться, ибо говорила ее совсем иная Иоанна, дальше сила в ее словах нарастала неотступно, как лава клокочущем вулкане. Перед этой силой отступали все, казалось, замирала и сама природа. На самых страстных, на самых могучих нотах заканчивала Ермолова монолог. После этого шел занавес, начиналась другая буря — в зрительном зале. Вот этот монолог:
...Внимай, герольд, внимай и повтори
Мои слова британским полководцам:
Ты, английский король, ты, гордый Глостер,
И ты, Бедфорд, бичи моей страны,
Готовьтесь дать всевышнему отчет
За кровь пролитую; готовьтесь выдать
Ключи градов, отъятых вопреки
Святейшего божественного права.
От господа предъизбранная дева
Несет вам мир иль гибель — выбирайте.
Вещаю здесь, и ведомо да будет:
Не вам, не вам всевышний завещал
Святую Францию,— но моему
Владыке, Карлу; он от бога избран;
И вступит он в столицу с торжеством,
Любовию народа окруженный...
Теперь, герольд, спеши к твоим вождям;
Но знай, когда с сей вестию до стана
Достигнешь ты — уж дева будет там,
С кровавою свободой Орлеана.
Когда меня спрашивают теперь, что было главное в этом монологе,— я отвечаю всегда твердо и уверенно: боль за родину и гнев на ее захватчиков. Ибо до сих пор в моих ушах звучит фраза: «Бичи моей страны...», определявшая весь монолог. «Бичи моей страны...» — тут было множество эмоциональных красок, словно в фразе из фуги Баха. Тут собиралось воедино все: боль, упрек, возмущение, грозное предупреждение завоевателям и великая человеческая скорбь о людях, чье достоинство стремится подавить злая воля кровавых чужеземцев, которым стали тесны границы своей земли... Тут было, конечно, еще больше красок и оттенков, чем я могу пересказать. Вся она, Иоанна — Ермолова, была в этот момент соединением чего-то очень высокого, даже возвышенного (ведь роль написана Шиллером!) с чрезвычайно простым, реальным, глубоко жизненным и современным.
К концу монолога ее голос звучал, как набат, ее слова разили, призывали к отмщению, возрождали дух доблести и храбрости в окружающих ее воинах...
За ермоловскими «военными» сценами я следила из-за кулис, не пропуская ни одного мгновения. Тут сила ее темперамента и заразительность вдохновения достигали крайних размеров. Все мы, ее товарищи по сцене, признавались друг другу, что предел актерских сил ею перейден. Очевидно, ее духовные нервные силы как бы поднимались над силами физическими, вообще были неизмеримо велики, если их хватало на столь трудные сцены, где много монологов, много движения. Ермолова двигалась по сцене легко и стремительно, и так было всегда — и в ее молодости, и в ее старости.
Захватывала она не только нас, артистов, но и статистов, которых набирали для батальных сцен. Кто были эти статисты? Солдаты, свободные от учения. Наши режиссеры уже знали, что для участия в «Орлеанской деве» солдат можно почти ничему не обучать; более того, им можно ничего не объяснять, потому что все они, до последнего, самого наивного и неграмотного, бывали захвачены тем, что говорит им дева-воительница, и шли туда, куда указывал один ее жест. Очень часто они приходили в настоящий экстаз и шумели больше чем следует. Словом, Ермолова в этих людях пробуждала настоящее солдатское мужество и желание действовать.
Помню хорошо и великолепную сцену Иоанны с Филиппом Бургундским. Филиппа играл Федор Горев, играл, как всегда, вдохновенно и сильно. Филипп Бургундский в трагедии, как известно, долго не хотел признать в Иоанне д\\\'Арк героиню и спасительницу родины — он считал ее колдуньей. Эпизод, где Филипп под видом британца хочет убить Иоанну,— один из самых сложных и психологически глубоких моментов трагедии.
Ермолова очень тонко вела ту часть сцены, когда ее героиня, сражаясь с воином в одежде британца, как бы уклоняется от решительного удара. Она словно предчувствует, что ее противник совсем не тот, за кого он себя выдает. И вот она обнаруживает, что не ошиблась. На щите Филиппа бургундский герб.
Она опускает меч. Она велит опустить мечи и тем, кто вступился за нее,— Ла Гиру и Дюнуа. Сейчас она не хочет быть воительницей и побеждать силой. В ее душе загорается другой огонь: Иоанна хочет победить Филиппа Бургундского силой разума. Это трудная задача, если вспомнить, как Горев изображал Филиппа: само упорство, сама гордость и что-то косное соединялось в этом характере.
И вот в течение сцены, недолгой по времени, но насыщенной внутренним движением, Ермолова и Горев играли блистательный поединок двух сильных и непреклонных людей. На стороне Иоанны — молодая вера в людей, вера в чудеса, которые можно с ними совершать. Недоверие и сухость Филиппа отступают перед этой всеохватывающей добротой, бесконечным человеколюбием и верностью призванию.
Что ж человечески прекрасней, чище
Святой борьбы за родину? —
спрашивает Иоанна Филиппа, желая убедить его вступить в ряды защитников Франции, стать с нею, Иоанной, заодно.
Потом наступает долгая пауза, во время которой герцог переживает какую-то напряженную внутреннюю борьбу, смущенный прямотой и чистотой помыслов Иоанны. Он говорит:
Что я? И что со мной?.. Какая сила
Мой смутный дух внезапно усмирила?..
Это не только итог паузы, великолепно «пережитой» Горевым, это итог глубоких размышлений его героя.
Иоанна, сияющая каким-то новым светом, с выражением необычайной мягкости и доброты, призывает Дюнуа и Ла Гира убедиться в ее духовной победе, в том, что герцог
...плачет... он смиряется... он наш!
События третьего акта шли непосредственно за этим эпизодом примирения. Иоанна вела Филиппа Бургундского во дворец, чтобы помирить с ним короля.
Я снова на сцене и снова с волнением жду Иоанну. Появляется Ермолова. Странно! Каждый раз, когда она выходила, сцена словно заполнялась ею — остальные действующие лица бледнели, стушевывались, и все как бы сосредоточивалось на Иоанне — Ермоловой. К ней приковывалось всеобщее внимание, обращались все взоры. В этой сцене великая артистка казалась умиленной, задумчивой, ушедшей в себя. Но напрасно было бы думать, что это умиление родилось из-за каких-либо верноподданнических чувств к монарху. Нет, за этим состоянием — глубокий подтекст, который вскоре раскрывался и становился ясным в ответе Иоанны королю.
Король спрашивает, чем он может наградить ее за все сделанное. Тут-то Иоанна Ермоловой и поражала всех еще одной новой стороной своей души. Вот что она отвечает королю:
Будь в счастье человек, как был в несчастье;
На высоте величия земного
Не позабудь, что значит друг в беде...
...К беднейшему в народе правосудным
И милостивым будь...
Казалось, что эта дева, много пережившая за время жестоких битв, познала в своей мудрости нечто более глубокое и значительное, чем все, что было прежде.
Иоанну посвящают в рыцарство. Думаю, что для такого писателя и мыслителя, как Шиллер, сцена посвящения в рыцарство Иоанны не была эпизодом дворцового ритуала. Это был символический знак признания ее права быть «рыцарем свободы родины».
А вот и неожиданный поворот действия — сватовство Дюнуа и Ла Гира. Я, Агнеса, впервые, чувствую, что Иоанна становится мне ближе, понятней, ибо в этой суровой воительнице пробуждается чувство нежности, чувство любви.
Ермолова показывала тончайшие нюансы того неожиданного для самой Иоанны пробуждения особого чувства — женственности.
Я чувствую ее смущение, и вижу, что она сделалась проще, доступнее моему пониманию — слабой, любящей женщины. Я произношу монолог:
Ее душа внезапностью смутилась,
И девственным стыдом она краснеет.
О! дайте ей спроситься с сердцем, тайну
С подругой верной разделить и душу
Передо мной открыть непринужденно;
Теперь мой час; как нежная сестра
Приблизиться могу я к строгой деве,
Чтоб женское с заботливостью женской
Размыслить вместе с ней. Оставьте нас
Решить наедине.
И я, Агнеса, жду с тайным трепетом, что мне ответит эта строгая дева, я заранее предвкушаю радость от мысли, что пойму наконец ее.
Но вдруг Иоанна обрывает мои попытки к сближению, все в ней восстает против любви, которая может ослабить ее волю и страсть воина.
И я снова ощущаю себя, Агнесу, беспомощной в сравнении с этой необычайной женщиной, снова она отходит, отдаляется от меня внутренне, и мне стыдно за то, что я надеялась на пробуждение в ней слабости...
Вот ее слова, которые наполняют меня стыдом, но и преклонением перед Иоанной:
Но разве я для суетных величий
Покинула отеческую паству?
Для брачного ль венца я грудь младую
Одела в сталь и панцирь боевой?
Нет, призвана я к подвигу иному...
Я на земле воительница бога;
Я на земле супруга не найду.
И все увещевания окружающих, которые выражают надежду, что, быть может, после окончательной победы Иоанна будет «с любовью искать земного друга», вызывают только вспышку ее негодования.
Тут она казалась нам похожей на валькирию:
...мщенье
Нося в руке, я суетную душу
Отдам любви, от бога запрещенной;
О нет! тогда мне лучше б не родиться;
Ни слова более; не раздражайте
Моей душой владеющего духа...
И, наконец, замечательный стих, который Ермолова произносила с силой, словно намеренно сбереженной для последнего ударного места всей сцены:
Вели, вели греметь трубе военной;
Спокойствие меня теснит и мучит;
Стремительно зовет моя судьба...
...Теперь душа от уз своих свободна...
Друзья, к мечам, а я устрою войско.
Эти фразы, пламенные интонации которых я слышу еще и сейчас, заставляют всех действующих лиц внутренне откликнуться ей. Даже я, слабая, бесконечно любящая Агнеса, делаюсь сильной и смелой, словно у меня вырастают крылья мужества, и я становлюсь способной на героический подвиг.
Четвертый акт. Я за кулисами ожидаю своего выхода, и с волнением слушаю изумительный монолог Ермоловой — Иоанны:
Молчит гроза военной непогоды...
Иоанна стоит в глубокой задумчивости, ни одного движения, все противоречивые чувства как бы сосредоточились в звуках голоса, в выражении лица и отражаются на ритме стиха. Ритм его то и дело меняется, чередуясь с паузами, наполненными глубоким страданием.
Что это был за монолог! Душа Иоанны опять открывала зрителю свои неожиданные глубины. Иоанна любила! Она, которая отвергла Ла Гира и Дюнуа, которая ответила презрением на предположение короля о пробуждении ее сердца, полюбила своего врага, британца Лионеля. И вот она терзается теперь этой страшной для нее бедой и пытается бороться с любовью силой разума. Она то гневается на себя за свою слабость, проклиная себя за то, что нарушила обет, то просит небо отвратить от нее эту губительную страсть.
Ермолова была восхитительна в этой пробудившейся женственности, в смятении, охватившем ее сердце и душу. После того, как ею была проявлена такая сила, такая гордость, такая необычность чувств, это был поразительный, потрясающий контраст. А играть контрасты умела эта замечательная актриса. И я плакала, тронутая теперь горем и счастьем Иоанны, которые слились воедино для девы — защитницы родины...
Но вот мой выход. На сцене я смотрела на Иоанну глазами Агнесы, я проникалась любовью и благоговением к освободительнице и защитнице Карла, обожаемого мною, Агнесой. Вбегая, я падала перед ней ниц, и когда она меня поднимала, я каждый раз чувствовала, что Иоанна — Ермолова вся дрожит, руки ее холодны как лед, а лицо залито слезами...
Я вспоминаю необыкновенно мягкий, женственный голос, звенящий слезами:
Счастливица, завидую тебе...
Как дивный смычок, касался он струн моего сердца, и я падала в ее объятия, восклицая:
О радость! Мой язык тебе понятен!
Иоанна, ты... любви ты не чужда...
Я помню, что все мы тогда сходились на одном, говоря о ермоловской Иоанне: ее гибель была в том, что в необыкновенную душу проникла самая обыкновенная страсть и ослабила ее, отвлекла от высокой цели и лишила сил. Угасание Иоанны началось в момент встречи с Лионелем, в момент, когда женщина в ней победила защитницу родины и заставила дать жизнь и свободу врагу. Встреча с отцом, крестьянином Тибо д\\\'Арком, который проклинает ее перед всем народом, только усугубила еще более ее внутреннее ощущение своей слабости. Для нее это большая беда, чем то, что все от нее отвернулись. Иоанна — Ермолова — нервная, одухотворенная натура, которая не могла себе простить ни одного пятнышка на совести.
И естественно, что она снова обретает силы, после того как отвергает Лионеля. Гибель, грозящая родине, вновь пробуждает в Иоанне силу воина.
Трудно передать мои ощущения от сцены в башне: Иоанна— Ермолова, закованная в цепи, с волнением слушает слова солдата, который рассказывает о происходящем сейчас сражении французов с англичанами. На каждом представлении «Орлеанской девы» мы все, не занятые в этой картине, стояли в кулисах, боясь пропустить хотя бы одно слово Ермоловой. Ее ответы на реплики солдата полны то надежды, то отчаяния. Изредка гремят цепи на ее прекрасных руках. Бой, как известно, развивается не в пользу французов. Последняя капля в чашу страданий Иоанны — вопль солдата о короле: «Он окружен!» Вслед за тем раздаются издевательские слова королевы:
Теперь пора... Защитница, спасай!
И тогда Иоанна — Ермолова бросается на колени, и, как неудержимый поток, потрясающе, с необыкновенным напряжением несется ее молитва. Это был настоящий экстаз. Стены театра раздвигались. Это уже не представление — это чудо, которое творилось в нашем присутствии. Всех охватывает необыкновенное волнение, сердца замирают, у кого льются слезы, у кого вырывается глубокий вздох... Когда же Иоанна разрывала цепи и восклицала: «Нет, с нами бог!» — никто в зале не сомневался, что произошло чудо, что Иоанна действительно освободилась от железных оков.
Заключительная сцена трагедии: король и герцог Бургундский несут смертельно раненную Иоанну. Агнеса бросается к королю, но он указывает ей на Иоанну... «Иоанна, боже, умирает!» И вдруг она открывает глаза... Картина смерти Иоанны — Ермоловой не вызывала ощущения грусти или печали — она была наполнена какой-то совсем необыкновенной красотой, умиротворяющей и вдохновенной. Вот-вот Иоанна уйдет от нас. Мы не можем ни на минуту оторваться от нее; с трепетом ловит слух теплые, полные необыкновенной мягкости звуки ее голоса. Иоанна — Ермолова, просветленная и словно переставшая страдать, оглядывается вокруг и говорит:
Итак, опять с народом я моим;
И не отвержена; и не в презренье;
И не клянут меня; и я любима...
Ее лицо озаряет светлая улыбка. И вдруг улыбку сменяет тревога. Нет ее знамени.
Без знамени явиться не могу...
Тогда раздаются тихие, но потрясающие душу стихи:
Его мой бог, владыка мой, мне вверил;
Его должна перед господний трон
Я положить; теперь с ним показаться
Я смею: я ему не изменила.
Ей подают знамя. Вместе со знаменем она медленно склоняется на землю. Занавес тихо опускался.
Несколько секунд царило молчание, а затем в зрительном зале разражалась буря рукоплесканий. Публика вскакивала с мест, махала платками, шарфами.
У театрального подъезда громадная толпа всегда дожидалась выхода Ермоловой. Не только ее, но и других участников спектакля провожали криками восторга, возгласами благодарности и шумными рукоплесканиями. Южина, великолепно игравшего Дюнуа, а иногда и исполнителей других ролей — Рыбакова, Багрова и не помню, кого еще,— поднимали на руки и на руках доносили до кареты.
Игра Ермоловой всегда захватывала и вызывала единодушные овации зрителей. Вероятно, это было одно из редчайших явлений, когда зритель забывал во время действия, что находится в театре, и принимал происходящее на сцене за подлинную жизнь.
Ермолова была актрисой полного самозабвенного перевоплощения в образ. Все силы огромной души, необыкновенного сердца она вкладывала в свои творения. Какого напряжения нервов, какой страсти ни требовали бы ее роли, Ермолова отдавала им себя всю, без остатка. Одно время жила, да и теперь еще живет версия о том, что Ермолова на сцене всегда оставалась самой собою, что она не создавала характеров. Многие и многие авторитеты — Южин, Немирович-Данченко — уже выступали против этой попытки принизить значение Ермоловой. Мне хочется только сказать, что достаточно вспомнить глаза Ермоловой, пылающие сухим, почти аскетическим пламенем в Иоанне, сжигающие страстным огнем мести в Лауренсии, светящиеся огромным счастьем любви и одновременно как бы подернутые страданием в Катерине, наполненные душевной чистотой в Саше Негиной, чтобы понять всю полноту перевоплощения ее в образ.
Ермолова была и в этом подлинно русской актрисой, ибо не к внешнему гриму, не к уловкам внешней характерности прибегали русские артисты: гримировка души, полное внутреннее слияние с ролью, проникновение в самые тайники сознания человека, чей образ ты играешь,— вот что отличает русскую школу актерского искусства. К. С. Станиславский, создавая свою систему актерской игры, всегда обращался к Ермоловой как к лучшему, наиболее высокому примеру жизненной правды в искусстве. Он говорил, что Мария Николаевна создавала «в каждой роли особенный духовный образ».
Ермолова умела одухотворить и углубить даже второстепенные пьесы. В одной из таких теперь забытых пьес героиня, роль которой исполняла Мария Николаевна, принимает яд и умирает на сцене.
Я в этот вечер была занята в водевиле, который шел по принятому в то время обыкновению после основной пьесы. С группой артистов я из-за кулис смотрела Ермолову. В последнем акте после отравления она так естественно передавала страдания умирающей и ее стремление скрыть боль, что всем нам показалось: Мария Николаевна на самом деле умирает, ощущая при этом страшные боли. Поднялась настоящая паника. Как известно, паника заразительна, и никто уже за кулисами не сохранял присутствия духа. Главный режиссер театра С. А. Черневский, видавший виды на своем веку, и тот поверил в подлинность происходящего на сцене: насмерть перепуганный, мертвенно бледный, с трясущимися руками он метался за кулисами от одного к другому и взволнованным шепотом спрашивал каждого: «Чего ей дали выпить?..» Как мне потом рассказывали, не только нам, смотревшим из-за кулис, но и тем артистам, которые были заняты на сцене, показалось, что Мария Николаевна действительно умирает... Дали занавес. Толпа актеров во главе с Черневским ринулась на сцену. Расталкивая всех, пробирался вперед дежурный врач: «Мария Николаевна, вам плохо? Где боли? Чем помочь?..» — раздавались отовсюду голоса.
Понять уже ничего было нельзя. И только сама Мария Николаевна, придя в себя после пережитого творческого подъема, искренне недоумевала, чем это мы все так взволнованы. А что творилось в зрительном зале! Слышались рыдания, крики. Многие выбегали из зрительного зала и требовали доктора, уверенные, что Ермоловой нужна медицинская помощь.
И ведь никак не скажешь, что Ермолова была натуралистична в этой сцене. Она отлично знала жизнь, но всякая тень натурализма была ей всегда чужда и ненавистна.
В. И. Гиляровский рассказывал, как Ермолова беседовала с жительницами окраин: она знакомилась с тяжелой долей русских женщин. Можно ли после этого считать случайностью ту глубину, с которой Ермолова создавала на сцене образы простых русских женщин в пьесах Островского? Катерина, Лариса, Юлия Тугина, Негина были для Ермоловой главами из повести о горькой судьбе русской женщины. И она рассказывала эту повесть с такой трагической силой, с таким безмерным сочувствием к своим героиням, с такой верой в светлую, чистую, благородную и сильную душу русской женщины, что зритель не мог уйти от мысли о несправедливости жизни, где гибнут такие прекрасные натуры. Этот вывод напрашивался сам собой, ибо Ермолова показывала всегда несгибаемость своих героинь, победу их духа. Зрители, да и мы, актеры, обливались слезами и думали не о театральных созданиях. Думали после спектакля, да и во время его — о жизни.
Я пришла в Малый театр в 1888 году, когда Мария Николаевна была уже восемнадцать лет на сцене. Несмотря на свою молодость (а может быть, именно благодаря ей), я была дружески-любовно принята артистами, старшими, чем Ермолова, — Н. М. Медведевой, Г. Н. Федотовой и И. А. Никулиной. Я часто бывала у них, легко и свободно беседовала с ними, поверяла им свои сомнения, разочарования, горести, радости. У Марии Николаевны Ермоловой я почти никогда не бывала, разве в праздник или какой-нибудь торжественный день. Она жила замкнуто, вся ушла в создание своих гениальных образов, и мы боялись мешать ей, нарушать ее покой или, вернее, ее неустанный труд.
Помню, что в первые годы моего пребывания в Малом театре я не решалась говорить с ней во время спектакля. Все мы оберегали Ермолову, не тревожили ее. Сидит она между своими сценами за кулисами, курит, пьет чай, а сама словно отсутствует — не замечает того, что творится кругом, не принимает участия в общей беседе.
И хоть Мария Николаевна всегда ответит на заданный вопрос, как-то неловко помешать ее думам: кажется, что она продолжает творить тот образ, жить той ролью, которую она в этот вечер играет...
Но ее изолированность, в большой мере порожденная нашей боязнью отвлечь ее от творчества, думается мне, имела и свою неприятную сторону. В театре, да и в семье, Мария Николаевна была одинока. Она вся уходила в жизнь тех, кого изображала, а личной жизни у нее почти не было. В последние ее годы, когда она хворала, я впервые сблизилась, сдружилась с Марией Николаевной. Я навещала ее очень часто, сделавшись как бы связной между ней и Малым театром, интересами которого она продолжала жить до последних своих дней.
Когда я, бывало, входила в ее уютную комнату, где она сидела в кресле или полулежала на диване, такая хрупкая, бледная, ее глаза как бы спрашивали меня: «Ну, что, все ли у вас благополучно?» И какой радостью озарялось это всегда строго-печальное лицо, когда я рассказывала ей об удачном спектакле, о блеснувшем таланте, наконец, просто о каком-нибудь комическом эпизоде.
Ей было присуще чувство юмора, о чем я узнала тоже лишь в эту пору.
Она была человеком редкой доброты и отзывчивости. Не было для Ермоловой более святого дела, чем служение людям, народу.
У меня сохранилась большая пачка ее писем; читая и перечитывая их, я до сих пор испытываю глубокое волнение. Она писала мне, когда мы уезжали в гастрольные поездки, писала летом с дачи, много получала я писем от нее и в Москве. Мария Николаевна была так добра и внимательна, что никогда не пропускала день моих именин и т. п. И все ее письма, все ее записки говорят о большом сердце, щедрой душе8. Она и в других ценила отзывчивость, любовь к людям.
Ее благороднейшая натура была чужда всяких мелких чувств.
Мария Николаевна была очень доброжелательна к людям и снисходительна в оценке молодых актеров: всегда-то сердечно, от души похвалит одного начинающего артиста, высоко оценит возможности другого. Людям это приносило большую радость. У того, кого она похвалит, крылья вырастают. Душой она не кривила, а дарованию нужно одобрение: от этого оно расцветает. Но бывали и такие случаи, когда Мария Николаевна перехваливала ту или иную актрису. Вероятно, это объяснялось тем, что Мария Николаевна, увлекаясь ролью, которую исполняла молодая артистка, внутренне доигрывала за нее сама. Мария Николаевна часто говорила, что исполнение такой-то актрисы прекрасно, в то время как более холодные сердца находили в игре той же актрисы много недостатков.
Окруженная всеобщим уважением и любовью, Мария Николаевна всегда оставалась очень скромной. В жизни, за кулисами она была необычайно проста, я бы сказала — робка и даже конфузлива, как начинающая актриса.
Она избегала позы, рисовки и очень не любила обращать на себя внимание. Шумиха ее страшила, отталкивала.
Не найдешь второй такой артистки, в которой было бы столько глубокого благородства, необыкновенной простоты и искренности. За всю свою более чем полувековую сценическую деятельность она ни разу не солгала на сцене. Она сочетала в себе гений Мочалова с гением Щепкина: пламенность великого трагика в ее творчестве соединялась с психологически точным и подробным анализом характера.
Ермолова потрясала в трагедии, трогала чистотой и благородством в лирической драме и изумляла нежностью тонов и тонкостью рисунка в высокой комедии.
Для нас, артистов, Ермолова была и будет идеалом, к которому мы стремимся и по которому мы хотим равняться.
Русский театр знал многих гениальных, великих актеров. Но он не знал равных Ермоловой по темпераменту, душевной силе, простоте, с какой она выявляла огромное внутреннее содержание образов. Она была «поэтом свободы на русской сцене».
Мы мечтаем о воплощении на нашей сцене советской героики, о воскрешении романтической трагедии. И поэтому так невыразимо горько, что наша театральная молодежь не может увидеть совершенный образец этого искусства... Глядя на Ермолову, вы чувствовали подлинный трепет страсти, огромный общественный пафос и умение глаголом жечь сердца людей!
Мы в большом долгу перед памятью Ермоловой — я говорю о героическом театре, который она завещала нам. Дело не только в том, что наши писатели далеко не всегда дают нам материал для создания могучих характеров борцов за лучшее будущее, и не в том, что многие драматурги забыли слова Горького: современный герой мятежнее, чем все Фаусты и Дон-Кихоты прошлого. Дело в том, что мы большую жизненную правду стали иногда разменивать на внешнюю похожесть, стали увлекаться бытовым правдоподобием. Вместо напряженных, дающихся огромным трудом поисков сущности образа зачастую актер ограничивается трафаретным изображением тех или иных «должностных» признаков.
А путь Ермоловой другой!
Это путь громадного неустанного труда, мучительных поисков и раздумий, беззаветного служения искусству. И не нужно думать, что следовать традициям Ермоловой можно, только исполняя романтический репертуар. Станиславский прекрасно понимал это, когда писал: «Дайте Лопахину в «Вишневом саде» размах Шаляпина, а молодой Ане — темперамент Ермоловой, и пусть молодая девушка, вместе с Петей Трофимовым предчувствующая приближение новой эпохи, крикнет на весь мир: «Здравствуй, новая жизнь!» — и вы поймете, что «Вишневый сад» живая для нас, близкая, современная пьеса, что голос Чехова звучит в ней бодро, зажигательно, ибо сам он смотрит не назад, а вперед».
На сцене нет и не может быть места серости, посредственности. Одухотворенность, яркий заразительный темперамент, любовь к прекрасному и ненависть ко всему, что портит человека, должен приносить на сцену актер.
Ермолова, создавшая эпоху в русском театре, была любимой актрисой демократической части русского общества. Ее имя — символ всего свободолюбивого, героического, благородного, что было на русской сцене. Недаром Вл. Немирович-Данченко, обращаясь к М. Н. Ермоловой, говорил: «Когда мы вспоминаем ваши образы, палящие огнем, проникнутые безграничной любовью к свободе и ненавистью к гнету, нам хочется крикнуть истории наши требования, чтобы в издании с портретами борцов за свободу портрет Ермоловой находился на одном из почетных мест».
Это верно. Роль Ермоловой в русском театре и в общественной жизни России велика безгранично.
Николай Александрович Семашко в своей прощальной речи над гробом Ермоловой сказал: «Если из искры того времени, когда творила Ермолова, зажглось потом пламя революции, то мы смело можем сказать, что не одна из этих искр возникла из творчества и призывов Ермоловой!»
Образы, ею созданные, всегда необычайно сильно выражали ее свободолюбие. Если сказать, что все эти образы отвечали демократическим идеалам, что ими артистка вносила свой вклад в освободительную борьбу, которой отдавали свои силы передовые деятели искусства, то это не будет преувеличением. Благородный гений Ермоловой освещал дорогу русского театра 80-х и 90-х годов прошлого века, а это было время жестокой реакции, когда самодержавие особенно стремилось задушить все живое, все смелое, все свободное.
Продолжение следует…
А.А.ЯБЛОЧКИНА «75 ЛЕТ В ТЕАТРЕ»
ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА. МАРИЯ ЕРМОЛОВА
К ЧИТАТЕЛЮ
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (начало)
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (продолжение)
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (окончание)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (начало)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (продолжение)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (продолжение)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (окончание)
ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА. ГЛИКЕРИЯ ФЕДОТОВА
Мне довелось видеть игру многих первоклассных актеров как русских, так и иностранных.
В первые годы моей работы в Малом театре группа лучших актеров пропагандировала пьесы русских и западных классиков. Во главе этого течения стояли такие артисты-гиганты, как Ермолова, Ленский, Южин, Горев, которые пользовались каждым случаем, чтобы добиться постановки на сцене пьес Островского, Шекспира, Шиллера, Гюго. И сколько незабываемой радости давали они нам своей игрой! Сила, красота и благородство их исполнения, умение раскрыть глубокое значение сложных образов, реалистическая правдивая игра одинаково волновали людей и по ту и по эту сторону рампы. Мы уходили из театра потрясенными и просветленными.
Среди них самой великой силой обладала незабвенная Мария Николаевна Ермолова.
Я с трепетом приступаю к рассказу о величайшем художнике русской сцены, артистке, которая была моим недостижимым идеалом и олицетворением всего лучшего и светлого в искусстве.
Среди самых счастливых дней моей жизни я назову те, когда я играла с Ермоловой.
Вспоминать и рассказывать, как Мария Николаевна создавала свои образы, трудно. Нет таких слов, которыми можно было бы хоть приблизительно верно восстановить ее несравненное искусство, рассказать о силе ее благотворного воздействия на зрительный зал. И все же я попытаюсь это сделать.
Каждый спектакль с участием Марии Николаевны Ермоловой был праздником для меня — играла ли я в нем или была простым зрителем. Когда приближались часы спектакля, мной овладевала лихорадка. Стоило мне услышать звуки ее голоса — и по спине пробегал как бы электрический ток, горло сжималось. Ее низкий грудной голос, проникнутый трепетом нарастающей страсти, ударял по нервам. Вопль страдания оскорбленной души или могучий призыв к свободе, к борьбе заставляли сердце замирать. Где тут было судить, критиковать, запоминать детали! Можно было только отдаваться безраздельно тем чувствам, которые вызывала в зрителях Ермолова.
Уже в своей первой роли, в трагедии Лессинга «Эмилия Галотти», Ермолова подняла знамя утверждения человеческого достоинства, силы духа свободного человека.
В дневнике Ермоловой, найденном не так давно, есть запись (она относится к первым годам ее артистической жизни) о том, что ее цель—приносить пользу, звать зрителей к другой жизни. И она звала! И это понимали не только мы, ее товарищи, не только студенческая молодежь и лучшая часть зрителей, но и... власти. «Овечий источник» был запрещен к представлению, так как призыв Ермоловой — Лаурен-сии к отмщению, к свободе воодушевлял не только артистов, изображавших жителей Фуенте Овехуна, но, и это главное, зрителей.
Первое же представление «Овечьего источника» обнаружило поистине небывалую силу редчайшего в истории театра дарования Ермоловой. На втором представлении театр был оцеплен полицией, переодетые шпики наводнили зрительный зал.
Постановка «Овечьего источника» вырастала в подлинно общественное явление. Немудрено, что власти, которые еще в 1858 году устами московского генерал-губернатора заявляли, что «к элементам, которые могут послужить неблагонамеренным людям, чтобы произвести переворот в государстве, должны быть отнесены, между прочим, и театральные представления», поспешили вовсе запретить этот спектакль.
Подлинным чудом была игра Ермоловой в роли Иоанны д\\\'Арк в трагедии Шиллера «Орлеанская дева».
В Иоанне д\\\'Арк, легендарной героине французского народа, Ермолова с огромной поэтической силой выразила свои чаяния, мечты о свободе и лучшем будущем для своей родины.
Ермолова всегда шла дальше драматурга. Она наполняла свои образы живым, современным содержанием и непременно русским. Поэтому в роли Иоанны ее слова разили, призывали к борьбе, вселяли в людей дух доблести и храбрости. Я играла в этом спектакле Агнесу Сорель. И оттого, что я участвовала в этом спектакле вместе с Марией Николаевной, он навсегда врезался мне в память. Постараюсь передать свои воспоминания.
Я была молода, не искушена сценически, все воспринимала непосредственно. Не анализируя, я упивалась счастьем быть с ней на сцене, слушать ее необыкновенный голос, видеть ее нервное одухотворенное лицо... Наша общая сцена — в первом акте. Перед приходом Иоанны все мои нервы напряжены: я жду ее выхода... Ее появление и затем первые звуки ее голоса, низкие, грудные, отдающиеся в вашем сердце... Могу сравнить их со звуками виолончели, когда она вступает в общий ансамбль инструментов...
Ермолова — Иоанна предстает перед зрителями в деревенской одежде, и только шлем, который она берет у Бертранда, говорит о ее необычайном для женщины намерении.
Удивительно, как разгадывала она три молитвы короля. Эти три молитвы были тайные, а Иоанна открывала всем их смысл. И Ермолова проводила эту сцену так, что вы, зритель или ее партнер, одинаково начинали верить, что перед, вами — пророчица. Это было похоже на иллюзию. Ты знаешь, что это игра, что перед тобой актриса, но это знает твой рассудок: воспринимаешь же ты все происходящее как полную реальность.
И самое главное — никакого пафоса в этих сценах нет, И разговор с королем о его трех молитвах, затем рассказ, о себе, о своем предназначении, о видениях... все было необыкновенно просто и вместе с тем так значительно, что навсегда запало в душу. Рассказывая о видении, артистка вся преображалась, голос ее переходил на еще более низкие ноты, не только глаза ее сияли, она вся как бы светилась. Ее экстаз и трепет передавались зрителям, и мне, Агнесе, было легко следовать ремарке автора: «в слезах закрывает лицо руками».
Просто и безо всякого напряжения ведет она себя и после, когда придворные короля приходят в восторг, в неистовство и изъявляют готовность следовать за этой крестьянской девушкой, покоряться во всем ее слову. Да, простота и естественность были свойственны Ермоловой, но какой сокровенный смысл заключался в ермоловской простоте и естественности! В самом тишайшем ее слове таилась сила большая, чем в монологе иного трагика. Когда голос Ермоловой звучал на сцене тихо, каждый из нас боялся шелохнуться, чтобы не проронить ни одной интонации...
Но вот к французскому королю явился посол английской державы, он произносит дерзкие слова, он словно жаждет принизить Францию в лице ее воинов — и тогда кончаются покой и тишина в поведении Иоанны. Попросив разрешения ответить послу, она оборачивается к нам, и мы видим разительную перемену во всем ее существе. Так бывает, когда плывущая по светлому небу туча вдруг закрывает солнце,— все остается как будто тем же, но меняется настроение дня. Так по лицу Ермоловой — Иоанны словно проходила туча: менялось все. Теплое, близкое нам, окружающим Иоанну, излучение ее глаз становилось суровым. Холодом и величием веяло от всего ее лица, от строгой позы. Она произносила: «Кто говорит, герольд, в твоем лице?»
Тон, которым сказана эта фраза, заставлял нас удивленно переглянуться, ибо говорила ее совсем иная Иоанна, дальше сила в ее словах нарастала неотступно, как лава клокочущем вулкане. Перед этой силой отступали все, казалось, замирала и сама природа. На самых страстных, на самых могучих нотах заканчивала Ермолова монолог. После этого шел занавес, начиналась другая буря — в зрительном зале. Вот этот монолог:
...Внимай, герольд, внимай и повтори
Мои слова британским полководцам:
Ты, английский король, ты, гордый Глостер,
И ты, Бедфорд, бичи моей страны,
Готовьтесь дать всевышнему отчет
За кровь пролитую; готовьтесь выдать
Ключи градов, отъятых вопреки
Святейшего божественного права.
От господа предъизбранная дева
Несет вам мир иль гибель — выбирайте.
Вещаю здесь, и ведомо да будет:
Не вам, не вам всевышний завещал
Святую Францию,— но моему
Владыке, Карлу; он от бога избран;
И вступит он в столицу с торжеством,
Любовию народа окруженный...
Теперь, герольд, спеши к твоим вождям;
Но знай, когда с сей вестию до стана
Достигнешь ты — уж дева будет там,
С кровавою свободой Орлеана.
Когда меня спрашивают теперь, что было главное в этом монологе,— я отвечаю всегда твердо и уверенно: боль за родину и гнев на ее захватчиков. Ибо до сих пор в моих ушах звучит фраза: «Бичи моей страны...», определявшая весь монолог. «Бичи моей страны...» — тут было множество эмоциональных красок, словно в фразе из фуги Баха. Тут собиралось воедино все: боль, упрек, возмущение, грозное предупреждение завоевателям и великая человеческая скорбь о людях, чье достоинство стремится подавить злая воля кровавых чужеземцев, которым стали тесны границы своей земли... Тут было, конечно, еще больше красок и оттенков, чем я могу пересказать. Вся она, Иоанна — Ермолова, была в этот момент соединением чего-то очень высокого, даже возвышенного (ведь роль написана Шиллером!) с чрезвычайно простым, реальным, глубоко жизненным и современным.
К концу монолога ее голос звучал, как набат, ее слова разили, призывали к отмщению, возрождали дух доблести и храбрости в окружающих ее воинах...
За ермоловскими «военными» сценами я следила из-за кулис, не пропуская ни одного мгновения. Тут сила ее темперамента и заразительность вдохновения достигали крайних размеров. Все мы, ее товарищи по сцене, признавались друг другу, что предел актерских сил ею перейден. Очевидно, ее духовные нервные силы как бы поднимались над силами физическими, вообще были неизмеримо велики, если их хватало на столь трудные сцены, где много монологов, много движения. Ермолова двигалась по сцене легко и стремительно, и так было всегда — и в ее молодости, и в ее старости.
Захватывала она не только нас, артистов, но и статистов, которых набирали для батальных сцен. Кто были эти статисты? Солдаты, свободные от учения. Наши режиссеры уже знали, что для участия в «Орлеанской деве» солдат можно почти ничему не обучать; более того, им можно ничего не объяснять, потому что все они, до последнего, самого наивного и неграмотного, бывали захвачены тем, что говорит им дева-воительница, и шли туда, куда указывал один ее жест. Очень часто они приходили в настоящий экстаз и шумели больше чем следует. Словом, Ермолова в этих людях пробуждала настоящее солдатское мужество и желание действовать.
Помню хорошо и великолепную сцену Иоанны с Филиппом Бургундским. Филиппа играл Федор Горев, играл, как всегда, вдохновенно и сильно. Филипп Бургундский в трагедии, как известно, долго не хотел признать в Иоанне д\\\'Арк героиню и спасительницу родины — он считал ее колдуньей. Эпизод, где Филипп под видом британца хочет убить Иоанну,— один из самых сложных и психологически глубоких моментов трагедии.
Ермолова очень тонко вела ту часть сцены, когда ее героиня, сражаясь с воином в одежде британца, как бы уклоняется от решительного удара. Она словно предчувствует, что ее противник совсем не тот, за кого он себя выдает. И вот она обнаруживает, что не ошиблась. На щите Филиппа бургундский герб.
Она опускает меч. Она велит опустить мечи и тем, кто вступился за нее,— Ла Гиру и Дюнуа. Сейчас она не хочет быть воительницей и побеждать силой. В ее душе загорается другой огонь: Иоанна хочет победить Филиппа Бургундского силой разума. Это трудная задача, если вспомнить, как Горев изображал Филиппа: само упорство, сама гордость и что-то косное соединялось в этом характере.
И вот в течение сцены, недолгой по времени, но насыщенной внутренним движением, Ермолова и Горев играли блистательный поединок двух сильных и непреклонных людей. На стороне Иоанны — молодая вера в людей, вера в чудеса, которые можно с ними совершать. Недоверие и сухость Филиппа отступают перед этой всеохватывающей добротой, бесконечным человеколюбием и верностью призванию.
Что ж человечески прекрасней, чище
Святой борьбы за родину? —
спрашивает Иоанна Филиппа, желая убедить его вступить в ряды защитников Франции, стать с нею, Иоанной, заодно.
Потом наступает долгая пауза, во время которой герцог переживает какую-то напряженную внутреннюю борьбу, смущенный прямотой и чистотой помыслов Иоанны. Он говорит:
Что я? И что со мной?.. Какая сила
Мой смутный дух внезапно усмирила?..
Это не только итог паузы, великолепно «пережитой» Горевым, это итог глубоких размышлений его героя.
Иоанна, сияющая каким-то новым светом, с выражением необычайной мягкости и доброты, призывает Дюнуа и Ла Гира убедиться в ее духовной победе, в том, что герцог
...плачет... он смиряется... он наш!
События третьего акта шли непосредственно за этим эпизодом примирения. Иоанна вела Филиппа Бургундского во дворец, чтобы помирить с ним короля.
Я снова на сцене и снова с волнением жду Иоанну. Появляется Ермолова. Странно! Каждый раз, когда она выходила, сцена словно заполнялась ею — остальные действующие лица бледнели, стушевывались, и все как бы сосредоточивалось на Иоанне — Ермоловой. К ней приковывалось всеобщее внимание, обращались все взоры. В этой сцене великая артистка казалась умиленной, задумчивой, ушедшей в себя. Но напрасно было бы думать, что это умиление родилось из-за каких-либо верноподданнических чувств к монарху. Нет, за этим состоянием — глубокий подтекст, который вскоре раскрывался и становился ясным в ответе Иоанны королю.
Король спрашивает, чем он может наградить ее за все сделанное. Тут-то Иоанна Ермоловой и поражала всех еще одной новой стороной своей души. Вот что она отвечает королю:
Будь в счастье человек, как был в несчастье;
На высоте величия земного
Не позабудь, что значит друг в беде...
...К беднейшему в народе правосудным
И милостивым будь...
Казалось, что эта дева, много пережившая за время жестоких битв, познала в своей мудрости нечто более глубокое и значительное, чем все, что было прежде.
Иоанну посвящают в рыцарство. Думаю, что для такого писателя и мыслителя, как Шиллер, сцена посвящения в рыцарство Иоанны не была эпизодом дворцового ритуала. Это был символический знак признания ее права быть «рыцарем свободы родины».
А вот и неожиданный поворот действия — сватовство Дюнуа и Ла Гира. Я, Агнеса, впервые, чувствую, что Иоанна становится мне ближе, понятней, ибо в этой суровой воительнице пробуждается чувство нежности, чувство любви.
Ермолова показывала тончайшие нюансы того неожиданного для самой Иоанны пробуждения особого чувства — женственности.
Я чувствую ее смущение, и вижу, что она сделалась проще, доступнее моему пониманию — слабой, любящей женщины. Я произношу монолог:
Ее душа внезапностью смутилась,
И девственным стыдом она краснеет.
О! дайте ей спроситься с сердцем, тайну
С подругой верной разделить и душу
Передо мной открыть непринужденно;
Теперь мой час; как нежная сестра
Приблизиться могу я к строгой деве,
Чтоб женское с заботливостью женской
Размыслить вместе с ней. Оставьте нас
Решить наедине.
И я, Агнеса, жду с тайным трепетом, что мне ответит эта строгая дева, я заранее предвкушаю радость от мысли, что пойму наконец ее.
Но вдруг Иоанна обрывает мои попытки к сближению, все в ней восстает против любви, которая может ослабить ее волю и страсть воина.
И я снова ощущаю себя, Агнесу, беспомощной в сравнении с этой необычайной женщиной, снова она отходит, отдаляется от меня внутренне, и мне стыдно за то, что я надеялась на пробуждение в ней слабости...
Вот ее слова, которые наполняют меня стыдом, но и преклонением перед Иоанной:
Но разве я для суетных величий
Покинула отеческую паству?
Для брачного ль венца я грудь младую
Одела в сталь и панцирь боевой?
Нет, призвана я к подвигу иному...
Я на земле воительница бога;
Я на земле супруга не найду.
И все увещевания окружающих, которые выражают надежду, что, быть может, после окончательной победы Иоанна будет «с любовью искать земного друга», вызывают только вспышку ее негодования.
Тут она казалась нам похожей на валькирию:
...мщенье
Нося в руке, я суетную душу
Отдам любви, от бога запрещенной;
О нет! тогда мне лучше б не родиться;
Ни слова более; не раздражайте
Моей душой владеющего духа...
И, наконец, замечательный стих, который Ермолова произносила с силой, словно намеренно сбереженной для последнего ударного места всей сцены:
Вели, вели греметь трубе военной;
Спокойствие меня теснит и мучит;
Стремительно зовет моя судьба...
...Теперь душа от уз своих свободна...
Друзья, к мечам, а я устрою войско.
Эти фразы, пламенные интонации которых я слышу еще и сейчас, заставляют всех действующих лиц внутренне откликнуться ей. Даже я, слабая, бесконечно любящая Агнеса, делаюсь сильной и смелой, словно у меня вырастают крылья мужества, и я становлюсь способной на героический подвиг.
Четвертый акт. Я за кулисами ожидаю своего выхода, и с волнением слушаю изумительный монолог Ермоловой — Иоанны:
Молчит гроза военной непогоды...
Иоанна стоит в глубокой задумчивости, ни одного движения, все противоречивые чувства как бы сосредоточились в звуках голоса, в выражении лица и отражаются на ритме стиха. Ритм его то и дело меняется, чередуясь с паузами, наполненными глубоким страданием.
Что это был за монолог! Душа Иоанны опять открывала зрителю свои неожиданные глубины. Иоанна любила! Она, которая отвергла Ла Гира и Дюнуа, которая ответила презрением на предположение короля о пробуждении ее сердца, полюбила своего врага, британца Лионеля. И вот она терзается теперь этой страшной для нее бедой и пытается бороться с любовью силой разума. Она то гневается на себя за свою слабость, проклиная себя за то, что нарушила обет, то просит небо отвратить от нее эту губительную страсть.
Ермолова была восхитительна в этой пробудившейся женственности, в смятении, охватившем ее сердце и душу. После того, как ею была проявлена такая сила, такая гордость, такая необычность чувств, это был поразительный, потрясающий контраст. А играть контрасты умела эта замечательная актриса. И я плакала, тронутая теперь горем и счастьем Иоанны, которые слились воедино для девы — защитницы родины...
Но вот мой выход. На сцене я смотрела на Иоанну глазами Агнесы, я проникалась любовью и благоговением к освободительнице и защитнице Карла, обожаемого мною, Агнесой. Вбегая, я падала перед ней ниц, и когда она меня поднимала, я каждый раз чувствовала, что Иоанна — Ермолова вся дрожит, руки ее холодны как лед, а лицо залито слезами...
Я вспоминаю необыкновенно мягкий, женственный голос, звенящий слезами:
Счастливица, завидую тебе...
Как дивный смычок, касался он струн моего сердца, и я падала в ее объятия, восклицая:
О радость! Мой язык тебе понятен!
Иоанна, ты... любви ты не чужда...
Я помню, что все мы тогда сходились на одном, говоря о ермоловской Иоанне: ее гибель была в том, что в необыкновенную душу проникла самая обыкновенная страсть и ослабила ее, отвлекла от высокой цели и лишила сил. Угасание Иоанны началось в момент встречи с Лионелем, в момент, когда женщина в ней победила защитницу родины и заставила дать жизнь и свободу врагу. Встреча с отцом, крестьянином Тибо д\\\'Арком, который проклинает ее перед всем народом, только усугубила еще более ее внутреннее ощущение своей слабости. Для нее это большая беда, чем то, что все от нее отвернулись. Иоанна — Ермолова — нервная, одухотворенная натура, которая не могла себе простить ни одного пятнышка на совести.
И естественно, что она снова обретает силы, после того как отвергает Лионеля. Гибель, грозящая родине, вновь пробуждает в Иоанне силу воина.
Трудно передать мои ощущения от сцены в башне: Иоанна— Ермолова, закованная в цепи, с волнением слушает слова солдата, который рассказывает о происходящем сейчас сражении французов с англичанами. На каждом представлении «Орлеанской девы» мы все, не занятые в этой картине, стояли в кулисах, боясь пропустить хотя бы одно слово Ермоловой. Ее ответы на реплики солдата полны то надежды, то отчаяния. Изредка гремят цепи на ее прекрасных руках. Бой, как известно, развивается не в пользу французов. Последняя капля в чашу страданий Иоанны — вопль солдата о короле: «Он окружен!» Вслед за тем раздаются издевательские слова королевы:
Теперь пора... Защитница, спасай!
И тогда Иоанна — Ермолова бросается на колени, и, как неудержимый поток, потрясающе, с необыкновенным напряжением несется ее молитва. Это был настоящий экстаз. Стены театра раздвигались. Это уже не представление — это чудо, которое творилось в нашем присутствии. Всех охватывает необыкновенное волнение, сердца замирают, у кого льются слезы, у кого вырывается глубокий вздох... Когда же Иоанна разрывала цепи и восклицала: «Нет, с нами бог!» — никто в зале не сомневался, что произошло чудо, что Иоанна действительно освободилась от железных оков.
Заключительная сцена трагедии: король и герцог Бургундский несут смертельно раненную Иоанну. Агнеса бросается к королю, но он указывает ей на Иоанну... «Иоанна, боже, умирает!» И вдруг она открывает глаза... Картина смерти Иоанны — Ермоловой не вызывала ощущения грусти или печали — она была наполнена какой-то совсем необыкновенной красотой, умиротворяющей и вдохновенной. Вот-вот Иоанна уйдет от нас. Мы не можем ни на минуту оторваться от нее; с трепетом ловит слух теплые, полные необыкновенной мягкости звуки ее голоса. Иоанна — Ермолова, просветленная и словно переставшая страдать, оглядывается вокруг и говорит:
Итак, опять с народом я моим;
И не отвержена; и не в презренье;
И не клянут меня; и я любима...
Ее лицо озаряет светлая улыбка. И вдруг улыбку сменяет тревога. Нет ее знамени.
Без знамени явиться не могу...
Тогда раздаются тихие, но потрясающие душу стихи:
Его мой бог, владыка мой, мне вверил;
Его должна перед господний трон
Я положить; теперь с ним показаться
Я смею: я ему не изменила.
Ей подают знамя. Вместе со знаменем она медленно склоняется на землю. Занавес тихо опускался.
Несколько секунд царило молчание, а затем в зрительном зале разражалась буря рукоплесканий. Публика вскакивала с мест, махала платками, шарфами.
У театрального подъезда громадная толпа всегда дожидалась выхода Ермоловой. Не только ее, но и других участников спектакля провожали криками восторга, возгласами благодарности и шумными рукоплесканиями. Южина, великолепно игравшего Дюнуа, а иногда и исполнителей других ролей — Рыбакова, Багрова и не помню, кого еще,— поднимали на руки и на руках доносили до кареты.
Игра Ермоловой всегда захватывала и вызывала единодушные овации зрителей. Вероятно, это было одно из редчайших явлений, когда зритель забывал во время действия, что находится в театре, и принимал происходящее на сцене за подлинную жизнь.
Ермолова была актрисой полного самозабвенного перевоплощения в образ. Все силы огромной души, необыкновенного сердца она вкладывала в свои творения. Какого напряжения нервов, какой страсти ни требовали бы ее роли, Ермолова отдавала им себя всю, без остатка. Одно время жила, да и теперь еще живет версия о том, что Ермолова на сцене всегда оставалась самой собою, что она не создавала характеров. Многие и многие авторитеты — Южин, Немирович-Данченко — уже выступали против этой попытки принизить значение Ермоловой. Мне хочется только сказать, что достаточно вспомнить глаза Ермоловой, пылающие сухим, почти аскетическим пламенем в Иоанне, сжигающие страстным огнем мести в Лауренсии, светящиеся огромным счастьем любви и одновременно как бы подернутые страданием в Катерине, наполненные душевной чистотой в Саше Негиной, чтобы понять всю полноту перевоплощения ее в образ.
Ермолова была и в этом подлинно русской актрисой, ибо не к внешнему гриму, не к уловкам внешней характерности прибегали русские артисты: гримировка души, полное внутреннее слияние с ролью, проникновение в самые тайники сознания человека, чей образ ты играешь,— вот что отличает русскую школу актерского искусства. К. С. Станиславский, создавая свою систему актерской игры, всегда обращался к Ермоловой как к лучшему, наиболее высокому примеру жизненной правды в искусстве. Он говорил, что Мария Николаевна создавала «в каждой роли особенный духовный образ».
Ермолова умела одухотворить и углубить даже второстепенные пьесы. В одной из таких теперь забытых пьес героиня, роль которой исполняла Мария Николаевна, принимает яд и умирает на сцене.
Я в этот вечер была занята в водевиле, который шел по принятому в то время обыкновению после основной пьесы. С группой артистов я из-за кулис смотрела Ермолову. В последнем акте после отравления она так естественно передавала страдания умирающей и ее стремление скрыть боль, что всем нам показалось: Мария Николаевна на самом деле умирает, ощущая при этом страшные боли. Поднялась настоящая паника. Как известно, паника заразительна, и никто уже за кулисами не сохранял присутствия духа. Главный режиссер театра С. А. Черневский, видавший виды на своем веку, и тот поверил в подлинность происходящего на сцене: насмерть перепуганный, мертвенно бледный, с трясущимися руками он метался за кулисами от одного к другому и взволнованным шепотом спрашивал каждого: «Чего ей дали выпить?..» Как мне потом рассказывали, не только нам, смотревшим из-за кулис, но и тем артистам, которые были заняты на сцене, показалось, что Мария Николаевна действительно умирает... Дали занавес. Толпа актеров во главе с Черневским ринулась на сцену. Расталкивая всех, пробирался вперед дежурный врач: «Мария Николаевна, вам плохо? Где боли? Чем помочь?..» — раздавались отовсюду голоса.
Понять уже ничего было нельзя. И только сама Мария Николаевна, придя в себя после пережитого творческого подъема, искренне недоумевала, чем это мы все так взволнованы. А что творилось в зрительном зале! Слышались рыдания, крики. Многие выбегали из зрительного зала и требовали доктора, уверенные, что Ермоловой нужна медицинская помощь.
И ведь никак не скажешь, что Ермолова была натуралистична в этой сцене. Она отлично знала жизнь, но всякая тень натурализма была ей всегда чужда и ненавистна.
В. И. Гиляровский рассказывал, как Ермолова беседовала с жительницами окраин: она знакомилась с тяжелой долей русских женщин. Можно ли после этого считать случайностью ту глубину, с которой Ермолова создавала на сцене образы простых русских женщин в пьесах Островского? Катерина, Лариса, Юлия Тугина, Негина были для Ермоловой главами из повести о горькой судьбе русской женщины. И она рассказывала эту повесть с такой трагической силой, с таким безмерным сочувствием к своим героиням, с такой верой в светлую, чистую, благородную и сильную душу русской женщины, что зритель не мог уйти от мысли о несправедливости жизни, где гибнут такие прекрасные натуры. Этот вывод напрашивался сам собой, ибо Ермолова показывала всегда несгибаемость своих героинь, победу их духа. Зрители, да и мы, актеры, обливались слезами и думали не о театральных созданиях. Думали после спектакля, да и во время его — о жизни.
Я пришла в Малый театр в 1888 году, когда Мария Николаевна была уже восемнадцать лет на сцене. Несмотря на свою молодость (а может быть, именно благодаря ей), я была дружески-любовно принята артистами, старшими, чем Ермолова, — Н. М. Медведевой, Г. Н. Федотовой и И. А. Никулиной. Я часто бывала у них, легко и свободно беседовала с ними, поверяла им свои сомнения, разочарования, горести, радости. У Марии Николаевны Ермоловой я почти никогда не бывала, разве в праздник или какой-нибудь торжественный день. Она жила замкнуто, вся ушла в создание своих гениальных образов, и мы боялись мешать ей, нарушать ее покой или, вернее, ее неустанный труд.
Помню, что в первые годы моего пребывания в Малом театре я не решалась говорить с ней во время спектакля. Все мы оберегали Ермолову, не тревожили ее. Сидит она между своими сценами за кулисами, курит, пьет чай, а сама словно отсутствует — не замечает того, что творится кругом, не принимает участия в общей беседе.
И хоть Мария Николаевна всегда ответит на заданный вопрос, как-то неловко помешать ее думам: кажется, что она продолжает творить тот образ, жить той ролью, которую она в этот вечер играет...
Но ее изолированность, в большой мере порожденная нашей боязнью отвлечь ее от творчества, думается мне, имела и свою неприятную сторону. В театре, да и в семье, Мария Николаевна была одинока. Она вся уходила в жизнь тех, кого изображала, а личной жизни у нее почти не было. В последние ее годы, когда она хворала, я впервые сблизилась, сдружилась с Марией Николаевной. Я навещала ее очень часто, сделавшись как бы связной между ней и Малым театром, интересами которого она продолжала жить до последних своих дней.
Когда я, бывало, входила в ее уютную комнату, где она сидела в кресле или полулежала на диване, такая хрупкая, бледная, ее глаза как бы спрашивали меня: «Ну, что, все ли у вас благополучно?» И какой радостью озарялось это всегда строго-печальное лицо, когда я рассказывала ей об удачном спектакле, о блеснувшем таланте, наконец, просто о каком-нибудь комическом эпизоде.
Ей было присуще чувство юмора, о чем я узнала тоже лишь в эту пору.
Она была человеком редкой доброты и отзывчивости. Не было для Ермоловой более святого дела, чем служение людям, народу.
У меня сохранилась большая пачка ее писем; читая и перечитывая их, я до сих пор испытываю глубокое волнение. Она писала мне, когда мы уезжали в гастрольные поездки, писала летом с дачи, много получала я писем от нее и в Москве. Мария Николаевна была так добра и внимательна, что никогда не пропускала день моих именин и т. п. И все ее письма, все ее записки говорят о большом сердце, щедрой душе8. Она и в других ценила отзывчивость, любовь к людям.
Ее благороднейшая натура была чужда всяких мелких чувств.
Мария Николаевна была очень доброжелательна к людям и снисходительна в оценке молодых актеров: всегда-то сердечно, от души похвалит одного начинающего артиста, высоко оценит возможности другого. Людям это приносило большую радость. У того, кого она похвалит, крылья вырастают. Душой она не кривила, а дарованию нужно одобрение: от этого оно расцветает. Но бывали и такие случаи, когда Мария Николаевна перехваливала ту или иную актрису. Вероятно, это объяснялось тем, что Мария Николаевна, увлекаясь ролью, которую исполняла молодая артистка, внутренне доигрывала за нее сама. Мария Николаевна часто говорила, что исполнение такой-то актрисы прекрасно, в то время как более холодные сердца находили в игре той же актрисы много недостатков.
Окруженная всеобщим уважением и любовью, Мария Николаевна всегда оставалась очень скромной. В жизни, за кулисами она была необычайно проста, я бы сказала — робка и даже конфузлива, как начинающая актриса.
Она избегала позы, рисовки и очень не любила обращать на себя внимание. Шумиха ее страшила, отталкивала.
Не найдешь второй такой артистки, в которой было бы столько глубокого благородства, необыкновенной простоты и искренности. За всю свою более чем полувековую сценическую деятельность она ни разу не солгала на сцене. Она сочетала в себе гений Мочалова с гением Щепкина: пламенность великого трагика в ее творчестве соединялась с психологически точным и подробным анализом характера.
Ермолова потрясала в трагедии, трогала чистотой и благородством в лирической драме и изумляла нежностью тонов и тонкостью рисунка в высокой комедии.
Для нас, артистов, Ермолова была и будет идеалом, к которому мы стремимся и по которому мы хотим равняться.
Русский театр знал многих гениальных, великих актеров. Но он не знал равных Ермоловой по темпераменту, душевной силе, простоте, с какой она выявляла огромное внутреннее содержание образов. Она была «поэтом свободы на русской сцене».
Мы мечтаем о воплощении на нашей сцене советской героики, о воскрешении романтической трагедии. И поэтому так невыразимо горько, что наша театральная молодежь не может увидеть совершенный образец этого искусства... Глядя на Ермолову, вы чувствовали подлинный трепет страсти, огромный общественный пафос и умение глаголом жечь сердца людей!
Мы в большом долгу перед памятью Ермоловой — я говорю о героическом театре, который она завещала нам. Дело не только в том, что наши писатели далеко не всегда дают нам материал для создания могучих характеров борцов за лучшее будущее, и не в том, что многие драматурги забыли слова Горького: современный герой мятежнее, чем все Фаусты и Дон-Кихоты прошлого. Дело в том, что мы большую жизненную правду стали иногда разменивать на внешнюю похожесть, стали увлекаться бытовым правдоподобием. Вместо напряженных, дающихся огромным трудом поисков сущности образа зачастую актер ограничивается трафаретным изображением тех или иных «должностных» признаков.
А путь Ермоловой другой!
Это путь громадного неустанного труда, мучительных поисков и раздумий, беззаветного служения искусству. И не нужно думать, что следовать традициям Ермоловой можно, только исполняя романтический репертуар. Станиславский прекрасно понимал это, когда писал: «Дайте Лопахину в «Вишневом саде» размах Шаляпина, а молодой Ане — темперамент Ермоловой, и пусть молодая девушка, вместе с Петей Трофимовым предчувствующая приближение новой эпохи, крикнет на весь мир: «Здравствуй, новая жизнь!» — и вы поймете, что «Вишневый сад» живая для нас, близкая, современная пьеса, что голос Чехова звучит в ней бодро, зажигательно, ибо сам он смотрит не назад, а вперед».
На сцене нет и не может быть места серости, посредственности. Одухотворенность, яркий заразительный темперамент, любовь к прекрасному и ненависть ко всему, что портит человека, должен приносить на сцену актер.
Ермолова, создавшая эпоху в русском театре, была любимой актрисой демократической части русского общества. Ее имя — символ всего свободолюбивого, героического, благородного, что было на русской сцене. Недаром Вл. Немирович-Данченко, обращаясь к М. Н. Ермоловой, говорил: «Когда мы вспоминаем ваши образы, палящие огнем, проникнутые безграничной любовью к свободе и ненавистью к гнету, нам хочется крикнуть истории наши требования, чтобы в издании с портретами борцов за свободу портрет Ермоловой находился на одном из почетных мест».
Это верно. Роль Ермоловой в русском театре и в общественной жизни России велика безгранично.
Николай Александрович Семашко в своей прощальной речи над гробом Ермоловой сказал: «Если из искры того времени, когда творила Ермолова, зажглось потом пламя революции, то мы смело можем сказать, что не одна из этих искр возникла из творчества и призывов Ермоловой!»
Образы, ею созданные, всегда необычайно сильно выражали ее свободолюбие. Если сказать, что все эти образы отвечали демократическим идеалам, что ими артистка вносила свой вклад в освободительную борьбу, которой отдавали свои силы передовые деятели искусства, то это не будет преувеличением. Благородный гений Ермоловой освещал дорогу русского театра 80-х и 90-х годов прошлого века, а это было время жестокой реакции, когда самодержавие особенно стремилось задушить все живое, все смелое, все свободное.
Продолжение следует…
Дата публикации: 20.11.2006

«К 140-летию со дня рождения Александры Александровны Яблочкиной»
А.А.ЯБЛОЧКИНА «75 ЛЕТ В ТЕАТРЕ»
ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА. МАРИЯ ЕРМОЛОВА
К ЧИТАТЕЛЮ
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (начало)
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (продолжение)
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (окончание)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (начало)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (продолжение)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (продолжение)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (окончание)
ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА. ГЛИКЕРИЯ ФЕДОТОВА
Мне довелось видеть игру многих первоклассных актеров как русских, так и иностранных.
В первые годы моей работы в Малом театре группа лучших актеров пропагандировала пьесы русских и западных классиков. Во главе этого течения стояли такие артисты-гиганты, как Ермолова, Ленский, Южин, Горев, которые пользовались каждым случаем, чтобы добиться постановки на сцене пьес Островского, Шекспира, Шиллера, Гюго. И сколько незабываемой радости давали они нам своей игрой! Сила, красота и благородство их исполнения, умение раскрыть глубокое значение сложных образов, реалистическая правдивая игра одинаково волновали людей и по ту и по эту сторону рампы. Мы уходили из театра потрясенными и просветленными.
Среди них самой великой силой обладала незабвенная Мария Николаевна Ермолова.
Я с трепетом приступаю к рассказу о величайшем художнике русской сцены, артистке, которая была моим недостижимым идеалом и олицетворением всего лучшего и светлого в искусстве.
Среди самых счастливых дней моей жизни я назову те, когда я играла с Ермоловой.
Вспоминать и рассказывать, как Мария Николаевна создавала свои образы, трудно. Нет таких слов, которыми можно было бы хоть приблизительно верно восстановить ее несравненное искусство, рассказать о силе ее благотворного воздействия на зрительный зал. И все же я попытаюсь это сделать.
Каждый спектакль с участием Марии Николаевны Ермоловой был праздником для меня — играла ли я в нем или была простым зрителем. Когда приближались часы спектакля, мной овладевала лихорадка. Стоило мне услышать звуки ее голоса — и по спине пробегал как бы электрический ток, горло сжималось. Ее низкий грудной голос, проникнутый трепетом нарастающей страсти, ударял по нервам. Вопль страдания оскорбленной души или могучий призыв к свободе, к борьбе заставляли сердце замирать. Где тут было судить, критиковать, запоминать детали! Можно было только отдаваться безраздельно тем чувствам, которые вызывала в зрителях Ермолова.
Уже в своей первой роли, в трагедии Лессинга «Эмилия Галотти», Ермолова подняла знамя утверждения человеческого достоинства, силы духа свободного человека.
В дневнике Ермоловой, найденном не так давно, есть запись (она относится к первым годам ее артистической жизни) о том, что ее цель—приносить пользу, звать зрителей к другой жизни. И она звала! И это понимали не только мы, ее товарищи, не только студенческая молодежь и лучшая часть зрителей, но и... власти. «Овечий источник» был запрещен к представлению, так как призыв Ермоловой — Лаурен-сии к отмщению, к свободе воодушевлял не только артистов, изображавших жителей Фуенте Овехуна, но, и это главное, зрителей.
Первое же представление «Овечьего источника» обнаружило поистине небывалую силу редчайшего в истории театра дарования Ермоловой. На втором представлении театр был оцеплен полицией, переодетые шпики наводнили зрительный зал.
Постановка «Овечьего источника» вырастала в подлинно общественное явление. Немудрено, что власти, которые еще в 1858 году устами московского генерал-губернатора заявляли, что «к элементам, которые могут послужить неблагонамеренным людям, чтобы произвести переворот в государстве, должны быть отнесены, между прочим, и театральные представления», поспешили вовсе запретить этот спектакль.
Подлинным чудом была игра Ермоловой в роли Иоанны д\\\'Арк в трагедии Шиллера «Орлеанская дева».
В Иоанне д\\\'Арк, легендарной героине французского народа, Ермолова с огромной поэтической силой выразила свои чаяния, мечты о свободе и лучшем будущем для своей родины.
Ермолова всегда шла дальше драматурга. Она наполняла свои образы живым, современным содержанием и непременно русским. Поэтому в роли Иоанны ее слова разили, призывали к борьбе, вселяли в людей дух доблести и храбрости. Я играла в этом спектакле Агнесу Сорель. И оттого, что я участвовала в этом спектакле вместе с Марией Николаевной, он навсегда врезался мне в память. Постараюсь передать свои воспоминания.
Я была молода, не искушена сценически, все воспринимала непосредственно. Не анализируя, я упивалась счастьем быть с ней на сцене, слушать ее необыкновенный голос, видеть ее нервное одухотворенное лицо... Наша общая сцена — в первом акте. Перед приходом Иоанны все мои нервы напряжены: я жду ее выхода... Ее появление и затем первые звуки ее голоса, низкие, грудные, отдающиеся в вашем сердце... Могу сравнить их со звуками виолончели, когда она вступает в общий ансамбль инструментов...
Ермолова — Иоанна предстает перед зрителями в деревенской одежде, и только шлем, который она берет у Бертранда, говорит о ее необычайном для женщины намерении.
Удивительно, как разгадывала она три молитвы короля. Эти три молитвы были тайные, а Иоанна открывала всем их смысл. И Ермолова проводила эту сцену так, что вы, зритель или ее партнер, одинаково начинали верить, что перед, вами — пророчица. Это было похоже на иллюзию. Ты знаешь, что это игра, что перед тобой актриса, но это знает твой рассудок: воспринимаешь же ты все происходящее как полную реальность.
И самое главное — никакого пафоса в этих сценах нет, И разговор с королем о его трех молитвах, затем рассказ, о себе, о своем предназначении, о видениях... все было необыкновенно просто и вместе с тем так значительно, что навсегда запало в душу. Рассказывая о видении, артистка вся преображалась, голос ее переходил на еще более низкие ноты, не только глаза ее сияли, она вся как бы светилась. Ее экстаз и трепет передавались зрителям, и мне, Агнесе, было легко следовать ремарке автора: «в слезах закрывает лицо руками».
Просто и безо всякого напряжения ведет она себя и после, когда придворные короля приходят в восторг, в неистовство и изъявляют готовность следовать за этой крестьянской девушкой, покоряться во всем ее слову. Да, простота и естественность были свойственны Ермоловой, но какой сокровенный смысл заключался в ермоловской простоте и естественности! В самом тишайшем ее слове таилась сила большая, чем в монологе иного трагика. Когда голос Ермоловой звучал на сцене тихо, каждый из нас боялся шелохнуться, чтобы не проронить ни одной интонации...
Но вот к французскому королю явился посол английской державы, он произносит дерзкие слова, он словно жаждет принизить Францию в лице ее воинов — и тогда кончаются покой и тишина в поведении Иоанны. Попросив разрешения ответить послу, она оборачивается к нам, и мы видим разительную перемену во всем ее существе. Так бывает, когда плывущая по светлому небу туча вдруг закрывает солнце,— все остается как будто тем же, но меняется настроение дня. Так по лицу Ермоловой — Иоанны словно проходила туча: менялось все. Теплое, близкое нам, окружающим Иоанну, излучение ее глаз становилось суровым. Холодом и величием веяло от всего ее лица, от строгой позы. Она произносила: «Кто говорит, герольд, в твоем лице?»
Тон, которым сказана эта фраза, заставлял нас удивленно переглянуться, ибо говорила ее совсем иная Иоанна, дальше сила в ее словах нарастала неотступно, как лава клокочущем вулкане. Перед этой силой отступали все, казалось, замирала и сама природа. На самых страстных, на самых могучих нотах заканчивала Ермолова монолог. После этого шел занавес, начиналась другая буря — в зрительном зале. Вот этот монолог:
...Внимай, герольд, внимай и повтори
Мои слова британским полководцам:
Ты, английский король, ты, гордый Глостер,
И ты, Бедфорд, бичи моей страны,
Готовьтесь дать всевышнему отчет
За кровь пролитую; готовьтесь выдать
Ключи градов, отъятых вопреки
Святейшего божественного права.
От господа предъизбранная дева
Несет вам мир иль гибель — выбирайте.
Вещаю здесь, и ведомо да будет:
Не вам, не вам всевышний завещал
Святую Францию,— но моему
Владыке, Карлу; он от бога избран;
И вступит он в столицу с торжеством,
Любовию народа окруженный...
Теперь, герольд, спеши к твоим вождям;
Но знай, когда с сей вестию до стана
Достигнешь ты — уж дева будет там,
С кровавою свободой Орлеана.
Когда меня спрашивают теперь, что было главное в этом монологе,— я отвечаю всегда твердо и уверенно: боль за родину и гнев на ее захватчиков. Ибо до сих пор в моих ушах звучит фраза: «Бичи моей страны...», определявшая весь монолог. «Бичи моей страны...» — тут было множество эмоциональных красок, словно в фразе из фуги Баха. Тут собиралось воедино все: боль, упрек, возмущение, грозное предупреждение завоевателям и великая человеческая скорбь о людях, чье достоинство стремится подавить злая воля кровавых чужеземцев, которым стали тесны границы своей земли... Тут было, конечно, еще больше красок и оттенков, чем я могу пересказать. Вся она, Иоанна — Ермолова, была в этот момент соединением чего-то очень высокого, даже возвышенного (ведь роль написана Шиллером!) с чрезвычайно простым, реальным, глубоко жизненным и современным.
К концу монолога ее голос звучал, как набат, ее слова разили, призывали к отмщению, возрождали дух доблести и храбрости в окружающих ее воинах...
За ермоловскими «военными» сценами я следила из-за кулис, не пропуская ни одного мгновения. Тут сила ее темперамента и заразительность вдохновения достигали крайних размеров. Все мы, ее товарищи по сцене, признавались друг другу, что предел актерских сил ею перейден. Очевидно, ее духовные нервные силы как бы поднимались над силами физическими, вообще были неизмеримо велики, если их хватало на столь трудные сцены, где много монологов, много движения. Ермолова двигалась по сцене легко и стремительно, и так было всегда — и в ее молодости, и в ее старости.
Захватывала она не только нас, артистов, но и статистов, которых набирали для батальных сцен. Кто были эти статисты? Солдаты, свободные от учения. Наши режиссеры уже знали, что для участия в «Орлеанской деве» солдат можно почти ничему не обучать; более того, им можно ничего не объяснять, потому что все они, до последнего, самого наивного и неграмотного, бывали захвачены тем, что говорит им дева-воительница, и шли туда, куда указывал один ее жест. Очень часто они приходили в настоящий экстаз и шумели больше чем следует. Словом, Ермолова в этих людях пробуждала настоящее солдатское мужество и желание действовать.
Помню хорошо и великолепную сцену Иоанны с Филиппом Бургундским. Филиппа играл Федор Горев, играл, как всегда, вдохновенно и сильно. Филипп Бургундский в трагедии, как известно, долго не хотел признать в Иоанне д\\\'Арк героиню и спасительницу родины — он считал ее колдуньей. Эпизод, где Филипп под видом британца хочет убить Иоанну,— один из самых сложных и психологически глубоких моментов трагедии.
Ермолова очень тонко вела ту часть сцены, когда ее героиня, сражаясь с воином в одежде британца, как бы уклоняется от решительного удара. Она словно предчувствует, что ее противник совсем не тот, за кого он себя выдает. И вот она обнаруживает, что не ошиблась. На щите Филиппа бургундский герб.
Она опускает меч. Она велит опустить мечи и тем, кто вступился за нее,— Ла Гиру и Дюнуа. Сейчас она не хочет быть воительницей и побеждать силой. В ее душе загорается другой огонь: Иоанна хочет победить Филиппа Бургундского силой разума. Это трудная задача, если вспомнить, как Горев изображал Филиппа: само упорство, сама гордость и что-то косное соединялось в этом характере.
И вот в течение сцены, недолгой по времени, но насыщенной внутренним движением, Ермолова и Горев играли блистательный поединок двух сильных и непреклонных людей. На стороне Иоанны — молодая вера в людей, вера в чудеса, которые можно с ними совершать. Недоверие и сухость Филиппа отступают перед этой всеохватывающей добротой, бесконечным человеколюбием и верностью призванию.
Что ж человечески прекрасней, чище
Святой борьбы за родину? —
спрашивает Иоанна Филиппа, желая убедить его вступить в ряды защитников Франции, стать с нею, Иоанной, заодно.
Потом наступает долгая пауза, во время которой герцог переживает какую-то напряженную внутреннюю борьбу, смущенный прямотой и чистотой помыслов Иоанны. Он говорит:
Что я? И что со мной?.. Какая сила
Мой смутный дух внезапно усмирила?..
Это не только итог паузы, великолепно «пережитой» Горевым, это итог глубоких размышлений его героя.
Иоанна, сияющая каким-то новым светом, с выражением необычайной мягкости и доброты, призывает Дюнуа и Ла Гира убедиться в ее духовной победе, в том, что герцог
...плачет... он смиряется... он наш!
События третьего акта шли непосредственно за этим эпизодом примирения. Иоанна вела Филиппа Бургундского во дворец, чтобы помирить с ним короля.
Я снова на сцене и снова с волнением жду Иоанну. Появляется Ермолова. Странно! Каждый раз, когда она выходила, сцена словно заполнялась ею — остальные действующие лица бледнели, стушевывались, и все как бы сосредоточивалось на Иоанне — Ермоловой. К ней приковывалось всеобщее внимание, обращались все взоры. В этой сцене великая артистка казалась умиленной, задумчивой, ушедшей в себя. Но напрасно было бы думать, что это умиление родилось из-за каких-либо верноподданнических чувств к монарху. Нет, за этим состоянием — глубокий подтекст, который вскоре раскрывался и становился ясным в ответе Иоанны королю.
Король спрашивает, чем он может наградить ее за все сделанное. Тут-то Иоанна Ермоловой и поражала всех еще одной новой стороной своей души. Вот что она отвечает королю:
Будь в счастье человек, как был в несчастье;
На высоте величия земного
Не позабудь, что значит друг в беде...
...К беднейшему в народе правосудным
И милостивым будь...
Казалось, что эта дева, много пережившая за время жестоких битв, познала в своей мудрости нечто более глубокое и значительное, чем все, что было прежде.
Иоанну посвящают в рыцарство. Думаю, что для такого писателя и мыслителя, как Шиллер, сцена посвящения в рыцарство Иоанны не была эпизодом дворцового ритуала. Это был символический знак признания ее права быть «рыцарем свободы родины».
А вот и неожиданный поворот действия — сватовство Дюнуа и Ла Гира. Я, Агнеса, впервые, чувствую, что Иоанна становится мне ближе, понятней, ибо в этой суровой воительнице пробуждается чувство нежности, чувство любви.
Ермолова показывала тончайшие нюансы того неожиданного для самой Иоанны пробуждения особого чувства — женственности.
Я чувствую ее смущение, и вижу, что она сделалась проще, доступнее моему пониманию — слабой, любящей женщины. Я произношу монолог:
Ее душа внезапностью смутилась,
И девственным стыдом она краснеет.
О! дайте ей спроситься с сердцем, тайну
С подругой верной разделить и душу
Передо мной открыть непринужденно;
Теперь мой час; как нежная сестра
Приблизиться могу я к строгой деве,
Чтоб женское с заботливостью женской
Размыслить вместе с ней. Оставьте нас
Решить наедине.
И я, Агнеса, жду с тайным трепетом, что мне ответит эта строгая дева, я заранее предвкушаю радость от мысли, что пойму наконец ее.
Но вдруг Иоанна обрывает мои попытки к сближению, все в ней восстает против любви, которая может ослабить ее волю и страсть воина.
И я снова ощущаю себя, Агнесу, беспомощной в сравнении с этой необычайной женщиной, снова она отходит, отдаляется от меня внутренне, и мне стыдно за то, что я надеялась на пробуждение в ней слабости...
Вот ее слова, которые наполняют меня стыдом, но и преклонением перед Иоанной:
Но разве я для суетных величий
Покинула отеческую паству?
Для брачного ль венца я грудь младую
Одела в сталь и панцирь боевой?
Нет, призвана я к подвигу иному...
Я на земле воительница бога;
Я на земле супруга не найду.
И все увещевания окружающих, которые выражают надежду, что, быть может, после окончательной победы Иоанна будет «с любовью искать земного друга», вызывают только вспышку ее негодования.
Тут она казалась нам похожей на валькирию:
...мщенье
Нося в руке, я суетную душу
Отдам любви, от бога запрещенной;
О нет! тогда мне лучше б не родиться;
Ни слова более; не раздражайте
Моей душой владеющего духа...
И, наконец, замечательный стих, который Ермолова произносила с силой, словно намеренно сбереженной для последнего ударного места всей сцены:
Вели, вели греметь трубе военной;
Спокойствие меня теснит и мучит;
Стремительно зовет моя судьба...
...Теперь душа от уз своих свободна...
Друзья, к мечам, а я устрою войско.
Эти фразы, пламенные интонации которых я слышу еще и сейчас, заставляют всех действующих лиц внутренне откликнуться ей. Даже я, слабая, бесконечно любящая Агнеса, делаюсь сильной и смелой, словно у меня вырастают крылья мужества, и я становлюсь способной на героический подвиг.
Четвертый акт. Я за кулисами ожидаю своего выхода, и с волнением слушаю изумительный монолог Ермоловой — Иоанны:
Молчит гроза военной непогоды...
Иоанна стоит в глубокой задумчивости, ни одного движения, все противоречивые чувства как бы сосредоточились в звуках голоса, в выражении лица и отражаются на ритме стиха. Ритм его то и дело меняется, чередуясь с паузами, наполненными глубоким страданием.
Что это был за монолог! Душа Иоанны опять открывала зрителю свои неожиданные глубины. Иоанна любила! Она, которая отвергла Ла Гира и Дюнуа, которая ответила презрением на предположение короля о пробуждении ее сердца, полюбила своего врага, британца Лионеля. И вот она терзается теперь этой страшной для нее бедой и пытается бороться с любовью силой разума. Она то гневается на себя за свою слабость, проклиная себя за то, что нарушила обет, то просит небо отвратить от нее эту губительную страсть.
Ермолова была восхитительна в этой пробудившейся женственности, в смятении, охватившем ее сердце и душу. После того, как ею была проявлена такая сила, такая гордость, такая необычность чувств, это был поразительный, потрясающий контраст. А играть контрасты умела эта замечательная актриса. И я плакала, тронутая теперь горем и счастьем Иоанны, которые слились воедино для девы — защитницы родины...
Но вот мой выход. На сцене я смотрела на Иоанну глазами Агнесы, я проникалась любовью и благоговением к освободительнице и защитнице Карла, обожаемого мною, Агнесой. Вбегая, я падала перед ней ниц, и когда она меня поднимала, я каждый раз чувствовала, что Иоанна — Ермолова вся дрожит, руки ее холодны как лед, а лицо залито слезами...
Я вспоминаю необыкновенно мягкий, женственный голос, звенящий слезами:
Счастливица, завидую тебе...
Как дивный смычок, касался он струн моего сердца, и я падала в ее объятия, восклицая:
О радость! Мой язык тебе понятен!
Иоанна, ты... любви ты не чужда...
Я помню, что все мы тогда сходились на одном, говоря о ермоловской Иоанне: ее гибель была в том, что в необыкновенную душу проникла самая обыкновенная страсть и ослабила ее, отвлекла от высокой цели и лишила сил. Угасание Иоанны началось в момент встречи с Лионелем, в момент, когда женщина в ней победила защитницу родины и заставила дать жизнь и свободу врагу. Встреча с отцом, крестьянином Тибо д\\\'Арком, который проклинает ее перед всем народом, только усугубила еще более ее внутреннее ощущение своей слабости. Для нее это большая беда, чем то, что все от нее отвернулись. Иоанна — Ермолова — нервная, одухотворенная натура, которая не могла себе простить ни одного пятнышка на совести.
И естественно, что она снова обретает силы, после того как отвергает Лионеля. Гибель, грозящая родине, вновь пробуждает в Иоанне силу воина.
Трудно передать мои ощущения от сцены в башне: Иоанна— Ермолова, закованная в цепи, с волнением слушает слова солдата, который рассказывает о происходящем сейчас сражении французов с англичанами. На каждом представлении «Орлеанской девы» мы все, не занятые в этой картине, стояли в кулисах, боясь пропустить хотя бы одно слово Ермоловой. Ее ответы на реплики солдата полны то надежды, то отчаяния. Изредка гремят цепи на ее прекрасных руках. Бой, как известно, развивается не в пользу французов. Последняя капля в чашу страданий Иоанны — вопль солдата о короле: «Он окружен!» Вслед за тем раздаются издевательские слова королевы:
Теперь пора... Защитница, спасай!
И тогда Иоанна — Ермолова бросается на колени, и, как неудержимый поток, потрясающе, с необыкновенным напряжением несется ее молитва. Это был настоящий экстаз. Стены театра раздвигались. Это уже не представление — это чудо, которое творилось в нашем присутствии. Всех охватывает необыкновенное волнение, сердца замирают, у кого льются слезы, у кого вырывается глубокий вздох... Когда же Иоанна разрывала цепи и восклицала: «Нет, с нами бог!» — никто в зале не сомневался, что произошло чудо, что Иоанна действительно освободилась от железных оков.
Заключительная сцена трагедии: король и герцог Бургундский несут смертельно раненную Иоанну. Агнеса бросается к королю, но он указывает ей на Иоанну... «Иоанна, боже, умирает!» И вдруг она открывает глаза... Картина смерти Иоанны — Ермоловой не вызывала ощущения грусти или печали — она была наполнена какой-то совсем необыкновенной красотой, умиротворяющей и вдохновенной. Вот-вот Иоанна уйдет от нас. Мы не можем ни на минуту оторваться от нее; с трепетом ловит слух теплые, полные необыкновенной мягкости звуки ее голоса. Иоанна — Ермолова, просветленная и словно переставшая страдать, оглядывается вокруг и говорит:
Итак, опять с народом я моим;
И не отвержена; и не в презренье;
И не клянут меня; и я любима...
Ее лицо озаряет светлая улыбка. И вдруг улыбку сменяет тревога. Нет ее знамени.
Без знамени явиться не могу...
Тогда раздаются тихие, но потрясающие душу стихи:
Его мой бог, владыка мой, мне вверил;
Его должна перед господний трон
Я положить; теперь с ним показаться
Я смею: я ему не изменила.
Ей подают знамя. Вместе со знаменем она медленно склоняется на землю. Занавес тихо опускался.
Несколько секунд царило молчание, а затем в зрительном зале разражалась буря рукоплесканий. Публика вскакивала с мест, махала платками, шарфами.
У театрального подъезда громадная толпа всегда дожидалась выхода Ермоловой. Не только ее, но и других участников спектакля провожали криками восторга, возгласами благодарности и шумными рукоплесканиями. Южина, великолепно игравшего Дюнуа, а иногда и исполнителей других ролей — Рыбакова, Багрова и не помню, кого еще,— поднимали на руки и на руках доносили до кареты.
Игра Ермоловой всегда захватывала и вызывала единодушные овации зрителей. Вероятно, это было одно из редчайших явлений, когда зритель забывал во время действия, что находится в театре, и принимал происходящее на сцене за подлинную жизнь.
Ермолова была актрисой полного самозабвенного перевоплощения в образ. Все силы огромной души, необыкновенного сердца она вкладывала в свои творения. Какого напряжения нервов, какой страсти ни требовали бы ее роли, Ермолова отдавала им себя всю, без остатка. Одно время жила, да и теперь еще живет версия о том, что Ермолова на сцене всегда оставалась самой собою, что она не создавала характеров. Многие и многие авторитеты — Южин, Немирович-Данченко — уже выступали против этой попытки принизить значение Ермоловой. Мне хочется только сказать, что достаточно вспомнить глаза Ермоловой, пылающие сухим, почти аскетическим пламенем в Иоанне, сжигающие страстным огнем мести в Лауренсии, светящиеся огромным счастьем любви и одновременно как бы подернутые страданием в Катерине, наполненные душевной чистотой в Саше Негиной, чтобы понять всю полноту перевоплощения ее в образ.
Ермолова была и в этом подлинно русской актрисой, ибо не к внешнему гриму, не к уловкам внешней характерности прибегали русские артисты: гримировка души, полное внутреннее слияние с ролью, проникновение в самые тайники сознания человека, чей образ ты играешь,— вот что отличает русскую школу актерского искусства. К. С. Станиславский, создавая свою систему актерской игры, всегда обращался к Ермоловой как к лучшему, наиболее высокому примеру жизненной правды в искусстве. Он говорил, что Мария Николаевна создавала «в каждой роли особенный духовный образ».
Ермолова умела одухотворить и углубить даже второстепенные пьесы. В одной из таких теперь забытых пьес героиня, роль которой исполняла Мария Николаевна, принимает яд и умирает на сцене.
Я в этот вечер была занята в водевиле, который шел по принятому в то время обыкновению после основной пьесы. С группой артистов я из-за кулис смотрела Ермолову. В последнем акте после отравления она так естественно передавала страдания умирающей и ее стремление скрыть боль, что всем нам показалось: Мария Николаевна на самом деле умирает, ощущая при этом страшные боли. Поднялась настоящая паника. Как известно, паника заразительна, и никто уже за кулисами не сохранял присутствия духа. Главный режиссер театра С. А. Черневский, видавший виды на своем веку, и тот поверил в подлинность происходящего на сцене: насмерть перепуганный, мертвенно бледный, с трясущимися руками он метался за кулисами от одного к другому и взволнованным шепотом спрашивал каждого: «Чего ей дали выпить?..» Как мне потом рассказывали, не только нам, смотревшим из-за кулис, но и тем артистам, которые были заняты на сцене, показалось, что Мария Николаевна действительно умирает... Дали занавес. Толпа актеров во главе с Черневским ринулась на сцену. Расталкивая всех, пробирался вперед дежурный врач: «Мария Николаевна, вам плохо? Где боли? Чем помочь?..» — раздавались отовсюду голоса.
Понять уже ничего было нельзя. И только сама Мария Николаевна, придя в себя после пережитого творческого подъема, искренне недоумевала, чем это мы все так взволнованы. А что творилось в зрительном зале! Слышались рыдания, крики. Многие выбегали из зрительного зала и требовали доктора, уверенные, что Ермоловой нужна медицинская помощь.
И ведь никак не скажешь, что Ермолова была натуралистична в этой сцене. Она отлично знала жизнь, но всякая тень натурализма была ей всегда чужда и ненавистна.
В. И. Гиляровский рассказывал, как Ермолова беседовала с жительницами окраин: она знакомилась с тяжелой долей русских женщин. Можно ли после этого считать случайностью ту глубину, с которой Ермолова создавала на сцене образы простых русских женщин в пьесах Островского? Катерина, Лариса, Юлия Тугина, Негина были для Ермоловой главами из повести о горькой судьбе русской женщины. И она рассказывала эту повесть с такой трагической силой, с таким безмерным сочувствием к своим героиням, с такой верой в светлую, чистую, благородную и сильную душу русской женщины, что зритель не мог уйти от мысли о несправедливости жизни, где гибнут такие прекрасные натуры. Этот вывод напрашивался сам собой, ибо Ермолова показывала всегда несгибаемость своих героинь, победу их духа. Зрители, да и мы, актеры, обливались слезами и думали не о театральных созданиях. Думали после спектакля, да и во время его — о жизни.
Я пришла в Малый театр в 1888 году, когда Мария Николаевна была уже восемнадцать лет на сцене. Несмотря на свою молодость (а может быть, именно благодаря ей), я была дружески-любовно принята артистами, старшими, чем Ермолова, — Н. М. Медведевой, Г. Н. Федотовой и И. А. Никулиной. Я часто бывала у них, легко и свободно беседовала с ними, поверяла им свои сомнения, разочарования, горести, радости. У Марии Николаевны Ермоловой я почти никогда не бывала, разве в праздник или какой-нибудь торжественный день. Она жила замкнуто, вся ушла в создание своих гениальных образов, и мы боялись мешать ей, нарушать ее покой или, вернее, ее неустанный труд.
Помню, что в первые годы моего пребывания в Малом театре я не решалась говорить с ней во время спектакля. Все мы оберегали Ермолову, не тревожили ее. Сидит она между своими сценами за кулисами, курит, пьет чай, а сама словно отсутствует — не замечает того, что творится кругом, не принимает участия в общей беседе.
И хоть Мария Николаевна всегда ответит на заданный вопрос, как-то неловко помешать ее думам: кажется, что она продолжает творить тот образ, жить той ролью, которую она в этот вечер играет...
Но ее изолированность, в большой мере порожденная нашей боязнью отвлечь ее от творчества, думается мне, имела и свою неприятную сторону. В театре, да и в семье, Мария Николаевна была одинока. Она вся уходила в жизнь тех, кого изображала, а личной жизни у нее почти не было. В последние ее годы, когда она хворала, я впервые сблизилась, сдружилась с Марией Николаевной. Я навещала ее очень часто, сделавшись как бы связной между ней и Малым театром, интересами которого она продолжала жить до последних своих дней.
Когда я, бывало, входила в ее уютную комнату, где она сидела в кресле или полулежала на диване, такая хрупкая, бледная, ее глаза как бы спрашивали меня: «Ну, что, все ли у вас благополучно?» И какой радостью озарялось это всегда строго-печальное лицо, когда я рассказывала ей об удачном спектакле, о блеснувшем таланте, наконец, просто о каком-нибудь комическом эпизоде.
Ей было присуще чувство юмора, о чем я узнала тоже лишь в эту пору.
Она была человеком редкой доброты и отзывчивости. Не было для Ермоловой более святого дела, чем служение людям, народу.
У меня сохранилась большая пачка ее писем; читая и перечитывая их, я до сих пор испытываю глубокое волнение. Она писала мне, когда мы уезжали в гастрольные поездки, писала летом с дачи, много получала я писем от нее и в Москве. Мария Николаевна была так добра и внимательна, что никогда не пропускала день моих именин и т. п. И все ее письма, все ее записки говорят о большом сердце, щедрой душе8. Она и в других ценила отзывчивость, любовь к людям.
Ее благороднейшая натура была чужда всяких мелких чувств.
Мария Николаевна была очень доброжелательна к людям и снисходительна в оценке молодых актеров: всегда-то сердечно, от души похвалит одного начинающего артиста, высоко оценит возможности другого. Людям это приносило большую радость. У того, кого она похвалит, крылья вырастают. Душой она не кривила, а дарованию нужно одобрение: от этого оно расцветает. Но бывали и такие случаи, когда Мария Николаевна перехваливала ту или иную актрису. Вероятно, это объяснялось тем, что Мария Николаевна, увлекаясь ролью, которую исполняла молодая артистка, внутренне доигрывала за нее сама. Мария Николаевна часто говорила, что исполнение такой-то актрисы прекрасно, в то время как более холодные сердца находили в игре той же актрисы много недостатков.
Окруженная всеобщим уважением и любовью, Мария Николаевна всегда оставалась очень скромной. В жизни, за кулисами она была необычайно проста, я бы сказала — робка и даже конфузлива, как начинающая актриса.
Она избегала позы, рисовки и очень не любила обращать на себя внимание. Шумиха ее страшила, отталкивала.
Не найдешь второй такой артистки, в которой было бы столько глубокого благородства, необыкновенной простоты и искренности. За всю свою более чем полувековую сценическую деятельность она ни разу не солгала на сцене. Она сочетала в себе гений Мочалова с гением Щепкина: пламенность великого трагика в ее творчестве соединялась с психологически точным и подробным анализом характера.
Ермолова потрясала в трагедии, трогала чистотой и благородством в лирической драме и изумляла нежностью тонов и тонкостью рисунка в высокой комедии.
Для нас, артистов, Ермолова была и будет идеалом, к которому мы стремимся и по которому мы хотим равняться.
Русский театр знал многих гениальных, великих актеров. Но он не знал равных Ермоловой по темпераменту, душевной силе, простоте, с какой она выявляла огромное внутреннее содержание образов. Она была «поэтом свободы на русской сцене».
Мы мечтаем о воплощении на нашей сцене советской героики, о воскрешении романтической трагедии. И поэтому так невыразимо горько, что наша театральная молодежь не может увидеть совершенный образец этого искусства... Глядя на Ермолову, вы чувствовали подлинный трепет страсти, огромный общественный пафос и умение глаголом жечь сердца людей!
Мы в большом долгу перед памятью Ермоловой — я говорю о героическом театре, который она завещала нам. Дело не только в том, что наши писатели далеко не всегда дают нам материал для создания могучих характеров борцов за лучшее будущее, и не в том, что многие драматурги забыли слова Горького: современный герой мятежнее, чем все Фаусты и Дон-Кихоты прошлого. Дело в том, что мы большую жизненную правду стали иногда разменивать на внешнюю похожесть, стали увлекаться бытовым правдоподобием. Вместо напряженных, дающихся огромным трудом поисков сущности образа зачастую актер ограничивается трафаретным изображением тех или иных «должностных» признаков.
А путь Ермоловой другой!
Это путь громадного неустанного труда, мучительных поисков и раздумий, беззаветного служения искусству. И не нужно думать, что следовать традициям Ермоловой можно, только исполняя романтический репертуар. Станиславский прекрасно понимал это, когда писал: «Дайте Лопахину в «Вишневом саде» размах Шаляпина, а молодой Ане — темперамент Ермоловой, и пусть молодая девушка, вместе с Петей Трофимовым предчувствующая приближение новой эпохи, крикнет на весь мир: «Здравствуй, новая жизнь!» — и вы поймете, что «Вишневый сад» живая для нас, близкая, современная пьеса, что голос Чехова звучит в ней бодро, зажигательно, ибо сам он смотрит не назад, а вперед».
На сцене нет и не может быть места серости, посредственности. Одухотворенность, яркий заразительный темперамент, любовь к прекрасному и ненависть ко всему, что портит человека, должен приносить на сцену актер.
Ермолова, создавшая эпоху в русском театре, была любимой актрисой демократической части русского общества. Ее имя — символ всего свободолюбивого, героического, благородного, что было на русской сцене. Недаром Вл. Немирович-Данченко, обращаясь к М. Н. Ермоловой, говорил: «Когда мы вспоминаем ваши образы, палящие огнем, проникнутые безграничной любовью к свободе и ненавистью к гнету, нам хочется крикнуть истории наши требования, чтобы в издании с портретами борцов за свободу портрет Ермоловой находился на одном из почетных мест».
Это верно. Роль Ермоловой в русском театре и в общественной жизни России велика безгранично.
Николай Александрович Семашко в своей прощальной речи над гробом Ермоловой сказал: «Если из искры того времени, когда творила Ермолова, зажглось потом пламя революции, то мы смело можем сказать, что не одна из этих искр возникла из творчества и призывов Ермоловой!»
Образы, ею созданные, всегда необычайно сильно выражали ее свободолюбие. Если сказать, что все эти образы отвечали демократическим идеалам, что ими артистка вносила свой вклад в освободительную борьбу, которой отдавали свои силы передовые деятели искусства, то это не будет преувеличением. Благородный гений Ермоловой освещал дорогу русского театра 80-х и 90-х годов прошлого века, а это было время жестокой реакции, когда самодержавие особенно стремилось задушить все живое, все смелое, все свободное.
Продолжение следует…
А.А.ЯБЛОЧКИНА «75 ЛЕТ В ТЕАТРЕ»
ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА. МАРИЯ ЕРМОЛОВА
К ЧИТАТЕЛЮ
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (начало)
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (продолжение)
СЕМЬЯ ЯБЛОЧКИНЫХ (окончание)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (начало)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (продолжение)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (продолжение)
ГОДЫ ТРУДА И УЧЕНЬЯ (окончание)
ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА. ГЛИКЕРИЯ ФЕДОТОВА
Мне довелось видеть игру многих первоклассных актеров как русских, так и иностранных.
В первые годы моей работы в Малом театре группа лучших актеров пропагандировала пьесы русских и западных классиков. Во главе этого течения стояли такие артисты-гиганты, как Ермолова, Ленский, Южин, Горев, которые пользовались каждым случаем, чтобы добиться постановки на сцене пьес Островского, Шекспира, Шиллера, Гюго. И сколько незабываемой радости давали они нам своей игрой! Сила, красота и благородство их исполнения, умение раскрыть глубокое значение сложных образов, реалистическая правдивая игра одинаково волновали людей и по ту и по эту сторону рампы. Мы уходили из театра потрясенными и просветленными.
Среди них самой великой силой обладала незабвенная Мария Николаевна Ермолова.
Я с трепетом приступаю к рассказу о величайшем художнике русской сцены, артистке, которая была моим недостижимым идеалом и олицетворением всего лучшего и светлого в искусстве.
Среди самых счастливых дней моей жизни я назову те, когда я играла с Ермоловой.
Вспоминать и рассказывать, как Мария Николаевна создавала свои образы, трудно. Нет таких слов, которыми можно было бы хоть приблизительно верно восстановить ее несравненное искусство, рассказать о силе ее благотворного воздействия на зрительный зал. И все же я попытаюсь это сделать.
Каждый спектакль с участием Марии Николаевны Ермоловой был праздником для меня — играла ли я в нем или была простым зрителем. Когда приближались часы спектакля, мной овладевала лихорадка. Стоило мне услышать звуки ее голоса — и по спине пробегал как бы электрический ток, горло сжималось. Ее низкий грудной голос, проникнутый трепетом нарастающей страсти, ударял по нервам. Вопль страдания оскорбленной души или могучий призыв к свободе, к борьбе заставляли сердце замирать. Где тут было судить, критиковать, запоминать детали! Можно было только отдаваться безраздельно тем чувствам, которые вызывала в зрителях Ермолова.
Уже в своей первой роли, в трагедии Лессинга «Эмилия Галотти», Ермолова подняла знамя утверждения человеческого достоинства, силы духа свободного человека.
В дневнике Ермоловой, найденном не так давно, есть запись (она относится к первым годам ее артистической жизни) о том, что ее цель—приносить пользу, звать зрителей к другой жизни. И она звала! И это понимали не только мы, ее товарищи, не только студенческая молодежь и лучшая часть зрителей, но и... власти. «Овечий источник» был запрещен к представлению, так как призыв Ермоловой — Лаурен-сии к отмщению, к свободе воодушевлял не только артистов, изображавших жителей Фуенте Овехуна, но, и это главное, зрителей.
Первое же представление «Овечьего источника» обнаружило поистине небывалую силу редчайшего в истории театра дарования Ермоловой. На втором представлении театр был оцеплен полицией, переодетые шпики наводнили зрительный зал.
Постановка «Овечьего источника» вырастала в подлинно общественное явление. Немудрено, что власти, которые еще в 1858 году устами московского генерал-губернатора заявляли, что «к элементам, которые могут послужить неблагонамеренным людям, чтобы произвести переворот в государстве, должны быть отнесены, между прочим, и театральные представления», поспешили вовсе запретить этот спектакль.
Подлинным чудом была игра Ермоловой в роли Иоанны д\\\'Арк в трагедии Шиллера «Орлеанская дева».
В Иоанне д\\\'Арк, легендарной героине французского народа, Ермолова с огромной поэтической силой выразила свои чаяния, мечты о свободе и лучшем будущем для своей родины.
Ермолова всегда шла дальше драматурга. Она наполняла свои образы живым, современным содержанием и непременно русским. Поэтому в роли Иоанны ее слова разили, призывали к борьбе, вселяли в людей дух доблести и храбрости. Я играла в этом спектакле Агнесу Сорель. И оттого, что я участвовала в этом спектакле вместе с Марией Николаевной, он навсегда врезался мне в память. Постараюсь передать свои воспоминания.
Я была молода, не искушена сценически, все воспринимала непосредственно. Не анализируя, я упивалась счастьем быть с ней на сцене, слушать ее необыкновенный голос, видеть ее нервное одухотворенное лицо... Наша общая сцена — в первом акте. Перед приходом Иоанны все мои нервы напряжены: я жду ее выхода... Ее появление и затем первые звуки ее голоса, низкие, грудные, отдающиеся в вашем сердце... Могу сравнить их со звуками виолончели, когда она вступает в общий ансамбль инструментов...
Ермолова — Иоанна предстает перед зрителями в деревенской одежде, и только шлем, который она берет у Бертранда, говорит о ее необычайном для женщины намерении.
Удивительно, как разгадывала она три молитвы короля. Эти три молитвы были тайные, а Иоанна открывала всем их смысл. И Ермолова проводила эту сцену так, что вы, зритель или ее партнер, одинаково начинали верить, что перед, вами — пророчица. Это было похоже на иллюзию. Ты знаешь, что это игра, что перед тобой актриса, но это знает твой рассудок: воспринимаешь же ты все происходящее как полную реальность.
И самое главное — никакого пафоса в этих сценах нет, И разговор с королем о его трех молитвах, затем рассказ, о себе, о своем предназначении, о видениях... все было необыкновенно просто и вместе с тем так значительно, что навсегда запало в душу. Рассказывая о видении, артистка вся преображалась, голос ее переходил на еще более низкие ноты, не только глаза ее сияли, она вся как бы светилась. Ее экстаз и трепет передавались зрителям, и мне, Агнесе, было легко следовать ремарке автора: «в слезах закрывает лицо руками».
Просто и безо всякого напряжения ведет она себя и после, когда придворные короля приходят в восторг, в неистовство и изъявляют готовность следовать за этой крестьянской девушкой, покоряться во всем ее слову. Да, простота и естественность были свойственны Ермоловой, но какой сокровенный смысл заключался в ермоловской простоте и естественности! В самом тишайшем ее слове таилась сила большая, чем в монологе иного трагика. Когда голос Ермоловой звучал на сцене тихо, каждый из нас боялся шелохнуться, чтобы не проронить ни одной интонации...
Но вот к французскому королю явился посол английской державы, он произносит дерзкие слова, он словно жаждет принизить Францию в лице ее воинов — и тогда кончаются покой и тишина в поведении Иоанны. Попросив разрешения ответить послу, она оборачивается к нам, и мы видим разительную перемену во всем ее существе. Так бывает, когда плывущая по светлому небу туча вдруг закрывает солнце,— все остается как будто тем же, но меняется настроение дня. Так по лицу Ермоловой — Иоанны словно проходила туча: менялось все. Теплое, близкое нам, окружающим Иоанну, излучение ее глаз становилось суровым. Холодом и величием веяло от всего ее лица, от строгой позы. Она произносила: «Кто говорит, герольд, в твоем лице?»
Тон, которым сказана эта фраза, заставлял нас удивленно переглянуться, ибо говорила ее совсем иная Иоанна, дальше сила в ее словах нарастала неотступно, как лава клокочущем вулкане. Перед этой силой отступали все, казалось, замирала и сама природа. На самых страстных, на самых могучих нотах заканчивала Ермолова монолог. После этого шел занавес, начиналась другая буря — в зрительном зале. Вот этот монолог:
...Внимай, герольд, внимай и повтори
Мои слова британским полководцам:
Ты, английский король, ты, гордый Глостер,
И ты, Бедфорд, бичи моей страны,
Готовьтесь дать всевышнему отчет
За кровь пролитую; готовьтесь выдать
Ключи градов, отъятых вопреки
Святейшего божественного права.
От господа предъизбранная дева
Несет вам мир иль гибель — выбирайте.
Вещаю здесь, и ведомо да будет:
Не вам, не вам всевышний завещал
Святую Францию,— но моему
Владыке, Карлу; он от бога избран;
И вступит он в столицу с торжеством,
Любовию народа окруженный...
Теперь, герольд, спеши к твоим вождям;
Но знай, когда с сей вестию до стана
Достигнешь ты — уж дева будет там,
С кровавою свободой Орлеана.
Когда меня спрашивают теперь, что было главное в этом монологе,— я отвечаю всегда твердо и уверенно: боль за родину и гнев на ее захватчиков. Ибо до сих пор в моих ушах звучит фраза: «Бичи моей страны...», определявшая весь монолог. «Бичи моей страны...» — тут было множество эмоциональных красок, словно в фразе из фуги Баха. Тут собиралось воедино все: боль, упрек, возмущение, грозное предупреждение завоевателям и великая человеческая скорбь о людях, чье достоинство стремится подавить злая воля кровавых чужеземцев, которым стали тесны границы своей земли... Тут было, конечно, еще больше красок и оттенков, чем я могу пересказать. Вся она, Иоанна — Ермолова, была в этот момент соединением чего-то очень высокого, даже возвышенного (ведь роль написана Шиллером!) с чрезвычайно простым, реальным, глубоко жизненным и современным.
К концу монолога ее голос звучал, как набат, ее слова разили, призывали к отмщению, возрождали дух доблести и храбрости в окружающих ее воинах...
За ермоловскими «военными» сценами я следила из-за кулис, не пропуская ни одного мгновения. Тут сила ее темперамента и заразительность вдохновения достигали крайних размеров. Все мы, ее товарищи по сцене, признавались друг другу, что предел актерских сил ею перейден. Очевидно, ее духовные нервные силы как бы поднимались над силами физическими, вообще были неизмеримо велики, если их хватало на столь трудные сцены, где много монологов, много движения. Ермолова двигалась по сцене легко и стремительно, и так было всегда — и в ее молодости, и в ее старости.
Захватывала она не только нас, артистов, но и статистов, которых набирали для батальных сцен. Кто были эти статисты? Солдаты, свободные от учения. Наши режиссеры уже знали, что для участия в «Орлеанской деве» солдат можно почти ничему не обучать; более того, им можно ничего не объяснять, потому что все они, до последнего, самого наивного и неграмотного, бывали захвачены тем, что говорит им дева-воительница, и шли туда, куда указывал один ее жест. Очень часто они приходили в настоящий экстаз и шумели больше чем следует. Словом, Ермолова в этих людях пробуждала настоящее солдатское мужество и желание действовать.
Помню хорошо и великолепную сцену Иоанны с Филиппом Бургундским. Филиппа играл Федор Горев, играл, как всегда, вдохновенно и сильно. Филипп Бургундский в трагедии, как известно, долго не хотел признать в Иоанне д\\\'Арк героиню и спасительницу родины — он считал ее колдуньей. Эпизод, где Филипп под видом британца хочет убить Иоанну,— один из самых сложных и психологически глубоких моментов трагедии.
Ермолова очень тонко вела ту часть сцены, когда ее героиня, сражаясь с воином в одежде британца, как бы уклоняется от решительного удара. Она словно предчувствует, что ее противник совсем не тот, за кого он себя выдает. И вот она обнаруживает, что не ошиблась. На щите Филиппа бургундский герб.
Она опускает меч. Она велит опустить мечи и тем, кто вступился за нее,— Ла Гиру и Дюнуа. Сейчас она не хочет быть воительницей и побеждать силой. В ее душе загорается другой огонь: Иоанна хочет победить Филиппа Бургундского силой разума. Это трудная задача, если вспомнить, как Горев изображал Филиппа: само упорство, сама гордость и что-то косное соединялось в этом характере.
И вот в течение сцены, недолгой по времени, но насыщенной внутренним движением, Ермолова и Горев играли блистательный поединок двух сильных и непреклонных людей. На стороне Иоанны — молодая вера в людей, вера в чудеса, которые можно с ними совершать. Недоверие и сухость Филиппа отступают перед этой всеохватывающей добротой, бесконечным человеколюбием и верностью призванию.
Что ж человечески прекрасней, чище
Святой борьбы за родину? —
спрашивает Иоанна Филиппа, желая убедить его вступить в ряды защитников Франции, стать с нею, Иоанной, заодно.
Потом наступает долгая пауза, во время которой герцог переживает какую-то напряженную внутреннюю борьбу, смущенный прямотой и чистотой помыслов Иоанны. Он говорит:
Что я? И что со мной?.. Какая сила
Мой смутный дух внезапно усмирила?..
Это не только итог паузы, великолепно «пережитой» Горевым, это итог глубоких размышлений его героя.
Иоанна, сияющая каким-то новым светом, с выражением необычайной мягкости и доброты, призывает Дюнуа и Ла Гира убедиться в ее духовной победе, в том, что герцог
...плачет... он смиряется... он наш!
События третьего акта шли непосредственно за этим эпизодом примирения. Иоанна вела Филиппа Бургундского во дворец, чтобы помирить с ним короля.
Я снова на сцене и снова с волнением жду Иоанну. Появляется Ермолова. Странно! Каждый раз, когда она выходила, сцена словно заполнялась ею — остальные действующие лица бледнели, стушевывались, и все как бы сосредоточивалось на Иоанне — Ермоловой. К ней приковывалось всеобщее внимание, обращались все взоры. В этой сцене великая артистка казалась умиленной, задумчивой, ушедшей в себя. Но напрасно было бы думать, что это умиление родилось из-за каких-либо верноподданнических чувств к монарху. Нет, за этим состоянием — глубокий подтекст, который вскоре раскрывался и становился ясным в ответе Иоанны королю.
Король спрашивает, чем он может наградить ее за все сделанное. Тут-то Иоанна Ермоловой и поражала всех еще одной новой стороной своей души. Вот что она отвечает королю:
Будь в счастье человек, как был в несчастье;
На высоте величия земного
Не позабудь, что значит друг в беде...
...К беднейшему в народе правосудным
И милостивым будь...
Казалось, что эта дева, много пережившая за время жестоких битв, познала в своей мудрости нечто более глубокое и значительное, чем все, что было прежде.
Иоанну посвящают в рыцарство. Думаю, что для такого писателя и мыслителя, как Шиллер, сцена посвящения в рыцарство Иоанны не была эпизодом дворцового ритуала. Это был символический знак признания ее права быть «рыцарем свободы родины».
А вот и неожиданный поворот действия — сватовство Дюнуа и Ла Гира. Я, Агнеса, впервые, чувствую, что Иоанна становится мне ближе, понятней, ибо в этой суровой воительнице пробуждается чувство нежности, чувство любви.
Ермолова показывала тончайшие нюансы того неожиданного для самой Иоанны пробуждения особого чувства — женственности.
Я чувствую ее смущение, и вижу, что она сделалась проще, доступнее моему пониманию — слабой, любящей женщины. Я произношу монолог:
Ее душа внезапностью смутилась,
И девственным стыдом она краснеет.
О! дайте ей спроситься с сердцем, тайну
С подругой верной разделить и душу
Передо мной открыть непринужденно;
Теперь мой час; как нежная сестра
Приблизиться могу я к строгой деве,
Чтоб женское с заботливостью женской
Размыслить вместе с ней. Оставьте нас
Решить наедине.
И я, Агнеса, жду с тайным трепетом, что мне ответит эта строгая дева, я заранее предвкушаю радость от мысли, что пойму наконец ее.
Но вдруг Иоанна обрывает мои попытки к сближению, все в ней восстает против любви, которая может ослабить ее волю и страсть воина.
И я снова ощущаю себя, Агнесу, беспомощной в сравнении с этой необычайной женщиной, снова она отходит, отдаляется от меня внутренне, и мне стыдно за то, что я надеялась на пробуждение в ней слабости...
Вот ее слова, которые наполняют меня стыдом, но и преклонением перед Иоанной:
Но разве я для суетных величий
Покинула отеческую паству?
Для брачного ль венца я грудь младую
Одела в сталь и панцирь боевой?
Нет, призвана я к подвигу иному...
Я на земле воительница бога;
Я на земле супруга не найду.
И все увещевания окружающих, которые выражают надежду, что, быть может, после окончательной победы Иоанна будет «с любовью искать земного друга», вызывают только вспышку ее негодования.
Тут она казалась нам похожей на валькирию:
...мщенье
Нося в руке, я суетную душу
Отдам любви, от бога запрещенной;
О нет! тогда мне лучше б не родиться;
Ни слова более; не раздражайте
Моей душой владеющего духа...
И, наконец, замечательный стих, который Ермолова произносила с силой, словно намеренно сбереженной для последнего ударного места всей сцены:
Вели, вели греметь трубе военной;
Спокойствие меня теснит и мучит;
Стремительно зовет моя судьба...
...Теперь душа от уз своих свободна...
Друзья, к мечам, а я устрою войско.
Эти фразы, пламенные интонации которых я слышу еще и сейчас, заставляют всех действующих лиц внутренне откликнуться ей. Даже я, слабая, бесконечно любящая Агнеса, делаюсь сильной и смелой, словно у меня вырастают крылья мужества, и я становлюсь способной на героический подвиг.
Четвертый акт. Я за кулисами ожидаю своего выхода, и с волнением слушаю изумительный монолог Ермоловой — Иоанны:
Молчит гроза военной непогоды...
Иоанна стоит в глубокой задумчивости, ни одного движения, все противоречивые чувства как бы сосредоточились в звуках голоса, в выражении лица и отражаются на ритме стиха. Ритм его то и дело меняется, чередуясь с паузами, наполненными глубоким страданием.
Что это был за монолог! Душа Иоанны опять открывала зрителю свои неожиданные глубины. Иоанна любила! Она, которая отвергла Ла Гира и Дюнуа, которая ответила презрением на предположение короля о пробуждении ее сердца, полюбила своего врага, британца Лионеля. И вот она терзается теперь этой страшной для нее бедой и пытается бороться с любовью силой разума. Она то гневается на себя за свою слабость, проклиная себя за то, что нарушила обет, то просит небо отвратить от нее эту губительную страсть.
Ермолова была восхитительна в этой пробудившейся женственности, в смятении, охватившем ее сердце и душу. После того, как ею была проявлена такая сила, такая гордость, такая необычность чувств, это был поразительный, потрясающий контраст. А играть контрасты умела эта замечательная актриса. И я плакала, тронутая теперь горем и счастьем Иоанны, которые слились воедино для девы — защитницы родины...
Но вот мой выход. На сцене я смотрела на Иоанну глазами Агнесы, я проникалась любовью и благоговением к освободительнице и защитнице Карла, обожаемого мною, Агнесой. Вбегая, я падала перед ней ниц, и когда она меня поднимала, я каждый раз чувствовала, что Иоанна — Ермолова вся дрожит, руки ее холодны как лед, а лицо залито слезами...
Я вспоминаю необыкновенно мягкий, женственный голос, звенящий слезами:
Счастливица, завидую тебе...
Как дивный смычок, касался он струн моего сердца, и я падала в ее объятия, восклицая:
О радость! Мой язык тебе понятен!
Иоанна, ты... любви ты не чужда...
Я помню, что все мы тогда сходились на одном, говоря о ермоловской Иоанне: ее гибель была в том, что в необыкновенную душу проникла самая обыкновенная страсть и ослабила ее, отвлекла от высокой цели и лишила сил. Угасание Иоанны началось в момент встречи с Лионелем, в момент, когда женщина в ней победила защитницу родины и заставила дать жизнь и свободу врагу. Встреча с отцом, крестьянином Тибо д\\\'Арком, который проклинает ее перед всем народом, только усугубила еще более ее внутреннее ощущение своей слабости. Для нее это большая беда, чем то, что все от нее отвернулись. Иоанна — Ермолова — нервная, одухотворенная натура, которая не могла себе простить ни одного пятнышка на совести.
И естественно, что она снова обретает силы, после того как отвергает Лионеля. Гибель, грозящая родине, вновь пробуждает в Иоанне силу воина.
Трудно передать мои ощущения от сцены в башне: Иоанна— Ермолова, закованная в цепи, с волнением слушает слова солдата, который рассказывает о происходящем сейчас сражении французов с англичанами. На каждом представлении «Орлеанской девы» мы все, не занятые в этой картине, стояли в кулисах, боясь пропустить хотя бы одно слово Ермоловой. Ее ответы на реплики солдата полны то надежды, то отчаяния. Изредка гремят цепи на ее прекрасных руках. Бой, как известно, развивается не в пользу французов. Последняя капля в чашу страданий Иоанны — вопль солдата о короле: «Он окружен!» Вслед за тем раздаются издевательские слова королевы:
Теперь пора... Защитница, спасай!
И тогда Иоанна — Ермолова бросается на колени, и, как неудержимый поток, потрясающе, с необыкновенным напряжением несется ее молитва. Это был настоящий экстаз. Стены театра раздвигались. Это уже не представление — это чудо, которое творилось в нашем присутствии. Всех охватывает необыкновенное волнение, сердца замирают, у кого льются слезы, у кого вырывается глубокий вздох... Когда же Иоанна разрывала цепи и восклицала: «Нет, с нами бог!» — никто в зале не сомневался, что произошло чудо, что Иоанна действительно освободилась от железных оков.
Заключительная сцена трагедии: король и герцог Бургундский несут смертельно раненную Иоанну. Агнеса бросается к королю, но он указывает ей на Иоанну... «Иоанна, боже, умирает!» И вдруг она открывает глаза... Картина смерти Иоанны — Ермоловой не вызывала ощущения грусти или печали — она была наполнена какой-то совсем необыкновенной красотой, умиротворяющей и вдохновенной. Вот-вот Иоанна уйдет от нас. Мы не можем ни на минуту оторваться от нее; с трепетом ловит слух теплые, полные необыкновенной мягкости звуки ее голоса. Иоанна — Ермолова, просветленная и словно переставшая страдать, оглядывается вокруг и говорит:
Итак, опять с народом я моим;
И не отвержена; и не в презренье;
И не клянут меня; и я любима...
Ее лицо озаряет светлая улыбка. И вдруг улыбку сменяет тревога. Нет ее знамени.
Без знамени явиться не могу...
Тогда раздаются тихие, но потрясающие душу стихи:
Его мой бог, владыка мой, мне вверил;
Его должна перед господний трон
Я положить; теперь с ним показаться
Я смею: я ему не изменила.
Ей подают знамя. Вместе со знаменем она медленно склоняется на землю. Занавес тихо опускался.
Несколько секунд царило молчание, а затем в зрительном зале разражалась буря рукоплесканий. Публика вскакивала с мест, махала платками, шарфами.
У театрального подъезда громадная толпа всегда дожидалась выхода Ермоловой. Не только ее, но и других участников спектакля провожали криками восторга, возгласами благодарности и шумными рукоплесканиями. Южина, великолепно игравшего Дюнуа, а иногда и исполнителей других ролей — Рыбакова, Багрова и не помню, кого еще,— поднимали на руки и на руках доносили до кареты.
Игра Ермоловой всегда захватывала и вызывала единодушные овации зрителей. Вероятно, это было одно из редчайших явлений, когда зритель забывал во время действия, что находится в театре, и принимал происходящее на сцене за подлинную жизнь.
Ермолова была актрисой полного самозабвенного перевоплощения в образ. Все силы огромной души, необыкновенного сердца она вкладывала в свои творения. Какого напряжения нервов, какой страсти ни требовали бы ее роли, Ермолова отдавала им себя всю, без остатка. Одно время жила, да и теперь еще живет версия о том, что Ермолова на сцене всегда оставалась самой собою, что она не создавала характеров. Многие и многие авторитеты — Южин, Немирович-Данченко — уже выступали против этой попытки принизить значение Ермоловой. Мне хочется только сказать, что достаточно вспомнить глаза Ермоловой, пылающие сухим, почти аскетическим пламенем в Иоанне, сжигающие страстным огнем мести в Лауренсии, светящиеся огромным счастьем любви и одновременно как бы подернутые страданием в Катерине, наполненные душевной чистотой в Саше Негиной, чтобы понять всю полноту перевоплощения ее в образ.
Ермолова была и в этом подлинно русской актрисой, ибо не к внешнему гриму, не к уловкам внешней характерности прибегали русские артисты: гримировка души, полное внутреннее слияние с ролью, проникновение в самые тайники сознания человека, чей образ ты играешь,— вот что отличает русскую школу актерского искусства. К. С. Станиславский, создавая свою систему актерской игры, всегда обращался к Ермоловой как к лучшему, наиболее высокому примеру жизненной правды в искусстве. Он говорил, что Мария Николаевна создавала «в каждой роли особенный духовный образ».
Ермолова умела одухотворить и углубить даже второстепенные пьесы. В одной из таких теперь забытых пьес героиня, роль которой исполняла Мария Николаевна, принимает яд и умирает на сцене.
Я в этот вечер была занята в водевиле, который шел по принятому в то время обыкновению после основной пьесы. С группой артистов я из-за кулис смотрела Ермолову. В последнем акте после отравления она так естественно передавала страдания умирающей и ее стремление скрыть боль, что всем нам показалось: Мария Николаевна на самом деле умирает, ощущая при этом страшные боли. Поднялась настоящая паника. Как известно, паника заразительна, и никто уже за кулисами не сохранял присутствия духа. Главный режиссер театра С. А. Черневский, видавший виды на своем веку, и тот поверил в подлинность происходящего на сцене: насмерть перепуганный, мертвенно бледный, с трясущимися руками он метался за кулисами от одного к другому и взволнованным шепотом спрашивал каждого: «Чего ей дали выпить?..» Как мне потом рассказывали, не только нам, смотревшим из-за кулис, но и тем артистам, которые были заняты на сцене, показалось, что Мария Николаевна действительно умирает... Дали занавес. Толпа актеров во главе с Черневским ринулась на сцену. Расталкивая всех, пробирался вперед дежурный врач: «Мария Николаевна, вам плохо? Где боли? Чем помочь?..» — раздавались отовсюду голоса.
Понять уже ничего было нельзя. И только сама Мария Николаевна, придя в себя после пережитого творческого подъема, искренне недоумевала, чем это мы все так взволнованы. А что творилось в зрительном зале! Слышались рыдания, крики. Многие выбегали из зрительного зала и требовали доктора, уверенные, что Ермоловой нужна медицинская помощь.
И ведь никак не скажешь, что Ермолова была натуралистична в этой сцене. Она отлично знала жизнь, но всякая тень натурализма была ей всегда чужда и ненавистна.
В. И. Гиляровский рассказывал, как Ермолова беседовала с жительницами окраин: она знакомилась с тяжелой долей русских женщин. Можно ли после этого считать случайностью ту глубину, с которой Ермолова создавала на сцене образы простых русских женщин в пьесах Островского? Катерина, Лариса, Юлия Тугина, Негина были для Ермоловой главами из повести о горькой судьбе русской женщины. И она рассказывала эту повесть с такой трагической силой, с таким безмерным сочувствием к своим героиням, с такой верой в светлую, чистую, благородную и сильную душу русской женщины, что зритель не мог уйти от мысли о несправедливости жизни, где гибнут такие прекрасные натуры. Этот вывод напрашивался сам собой, ибо Ермолова показывала всегда несгибаемость своих героинь, победу их духа. Зрители, да и мы, актеры, обливались слезами и думали не о театральных созданиях. Думали после спектакля, да и во время его — о жизни.
Я пришла в Малый театр в 1888 году, когда Мария Николаевна была уже восемнадцать лет на сцене. Несмотря на свою молодость (а может быть, именно благодаря ей), я была дружески-любовно принята артистами, старшими, чем Ермолова, — Н. М. Медведевой, Г. Н. Федотовой и И. А. Никулиной. Я часто бывала у них, легко и свободно беседовала с ними, поверяла им свои сомнения, разочарования, горести, радости. У Марии Николаевны Ермоловой я почти никогда не бывала, разве в праздник или какой-нибудь торжественный день. Она жила замкнуто, вся ушла в создание своих гениальных образов, и мы боялись мешать ей, нарушать ее покой или, вернее, ее неустанный труд.
Помню, что в первые годы моего пребывания в Малом театре я не решалась говорить с ней во время спектакля. Все мы оберегали Ермолову, не тревожили ее. Сидит она между своими сценами за кулисами, курит, пьет чай, а сама словно отсутствует — не замечает того, что творится кругом, не принимает участия в общей беседе.
И хоть Мария Николаевна всегда ответит на заданный вопрос, как-то неловко помешать ее думам: кажется, что она продолжает творить тот образ, жить той ролью, которую она в этот вечер играет...
Но ее изолированность, в большой мере порожденная нашей боязнью отвлечь ее от творчества, думается мне, имела и свою неприятную сторону. В театре, да и в семье, Мария Николаевна была одинока. Она вся уходила в жизнь тех, кого изображала, а личной жизни у нее почти не было. В последние ее годы, когда она хворала, я впервые сблизилась, сдружилась с Марией Николаевной. Я навещала ее очень часто, сделавшись как бы связной между ней и Малым театром, интересами которого она продолжала жить до последних своих дней.
Когда я, бывало, входила в ее уютную комнату, где она сидела в кресле или полулежала на диване, такая хрупкая, бледная, ее глаза как бы спрашивали меня: «Ну, что, все ли у вас благополучно?» И какой радостью озарялось это всегда строго-печальное лицо, когда я рассказывала ей об удачном спектакле, о блеснувшем таланте, наконец, просто о каком-нибудь комическом эпизоде.
Ей было присуще чувство юмора, о чем я узнала тоже лишь в эту пору.
Она была человеком редкой доброты и отзывчивости. Не было для Ермоловой более святого дела, чем служение людям, народу.
У меня сохранилась большая пачка ее писем; читая и перечитывая их, я до сих пор испытываю глубокое волнение. Она писала мне, когда мы уезжали в гастрольные поездки, писала летом с дачи, много получала я писем от нее и в Москве. Мария Николаевна была так добра и внимательна, что никогда не пропускала день моих именин и т. п. И все ее письма, все ее записки говорят о большом сердце, щедрой душе8. Она и в других ценила отзывчивость, любовь к людям.
Ее благороднейшая натура была чужда всяких мелких чувств.
Мария Николаевна была очень доброжелательна к людям и снисходительна в оценке молодых актеров: всегда-то сердечно, от души похвалит одного начинающего артиста, высоко оценит возможности другого. Людям это приносило большую радость. У того, кого она похвалит, крылья вырастают. Душой она не кривила, а дарованию нужно одобрение: от этого оно расцветает. Но бывали и такие случаи, когда Мария Николаевна перехваливала ту или иную актрису. Вероятно, это объяснялось тем, что Мария Николаевна, увлекаясь ролью, которую исполняла молодая артистка, внутренне доигрывала за нее сама. Мария Николаевна часто говорила, что исполнение такой-то актрисы прекрасно, в то время как более холодные сердца находили в игре той же актрисы много недостатков.
Окруженная всеобщим уважением и любовью, Мария Николаевна всегда оставалась очень скромной. В жизни, за кулисами она была необычайно проста, я бы сказала — робка и даже конфузлива, как начинающая актриса.
Она избегала позы, рисовки и очень не любила обращать на себя внимание. Шумиха ее страшила, отталкивала.
Не найдешь второй такой артистки, в которой было бы столько глубокого благородства, необыкновенной простоты и искренности. За всю свою более чем полувековую сценическую деятельность она ни разу не солгала на сцене. Она сочетала в себе гений Мочалова с гением Щепкина: пламенность великого трагика в ее творчестве соединялась с психологически точным и подробным анализом характера.
Ермолова потрясала в трагедии, трогала чистотой и благородством в лирической драме и изумляла нежностью тонов и тонкостью рисунка в высокой комедии.
Для нас, артистов, Ермолова была и будет идеалом, к которому мы стремимся и по которому мы хотим равняться.
Русский театр знал многих гениальных, великих актеров. Но он не знал равных Ермоловой по темпераменту, душевной силе, простоте, с какой она выявляла огромное внутреннее содержание образов. Она была «поэтом свободы на русской сцене».
Мы мечтаем о воплощении на нашей сцене советской героики, о воскрешении романтической трагедии. И поэтому так невыразимо горько, что наша театральная молодежь не может увидеть совершенный образец этого искусства... Глядя на Ермолову, вы чувствовали подлинный трепет страсти, огромный общественный пафос и умение глаголом жечь сердца людей!
Мы в большом долгу перед памятью Ермоловой — я говорю о героическом театре, который она завещала нам. Дело не только в том, что наши писатели далеко не всегда дают нам материал для создания могучих характеров борцов за лучшее будущее, и не в том, что многие драматурги забыли слова Горького: современный герой мятежнее, чем все Фаусты и Дон-Кихоты прошлого. Дело в том, что мы большую жизненную правду стали иногда разменивать на внешнюю похожесть, стали увлекаться бытовым правдоподобием. Вместо напряженных, дающихся огромным трудом поисков сущности образа зачастую актер ограничивается трафаретным изображением тех или иных «должностных» признаков.
А путь Ермоловой другой!
Это путь громадного неустанного труда, мучительных поисков и раздумий, беззаветного служения искусству. И не нужно думать, что следовать традициям Ермоловой можно, только исполняя романтический репертуар. Станиславский прекрасно понимал это, когда писал: «Дайте Лопахину в «Вишневом саде» размах Шаляпина, а молодой Ане — темперамент Ермоловой, и пусть молодая девушка, вместе с Петей Трофимовым предчувствующая приближение новой эпохи, крикнет на весь мир: «Здравствуй, новая жизнь!» — и вы поймете, что «Вишневый сад» живая для нас, близкая, современная пьеса, что голос Чехова звучит в ней бодро, зажигательно, ибо сам он смотрит не назад, а вперед».
На сцене нет и не может быть места серости, посредственности. Одухотворенность, яркий заразительный темперамент, любовь к прекрасному и ненависть ко всему, что портит человека, должен приносить на сцену актер.
Ермолова, создавшая эпоху в русском театре, была любимой актрисой демократической части русского общества. Ее имя — символ всего свободолюбивого, героического, благородного, что было на русской сцене. Недаром Вл. Немирович-Данченко, обращаясь к М. Н. Ермоловой, говорил: «Когда мы вспоминаем ваши образы, палящие огнем, проникнутые безграничной любовью к свободе и ненавистью к гнету, нам хочется крикнуть истории наши требования, чтобы в издании с портретами борцов за свободу портрет Ермоловой находился на одном из почетных мест».
Это верно. Роль Ермоловой в русском театре и в общественной жизни России велика безгранично.
Николай Александрович Семашко в своей прощальной речи над гробом Ермоловой сказал: «Если из искры того времени, когда творила Ермолова, зажглось потом пламя революции, то мы смело можем сказать, что не одна из этих искр возникла из творчества и призывов Ермоловой!»
Образы, ею созданные, всегда необычайно сильно выражали ее свободолюбие. Если сказать, что все эти образы отвечали демократическим идеалам, что ими артистка вносила свой вклад в освободительную борьбу, которой отдавали свои силы передовые деятели искусства, то это не будет преувеличением. Благородный гений Ермоловой освещал дорогу русского театра 80-х и 90-х годов прошлого века, а это было время жестокой реакции, когда самодержавие особенно стремилось задушить все живое, все смелое, все свободное.
Продолжение следует…
Дата публикации: 20.11.2006