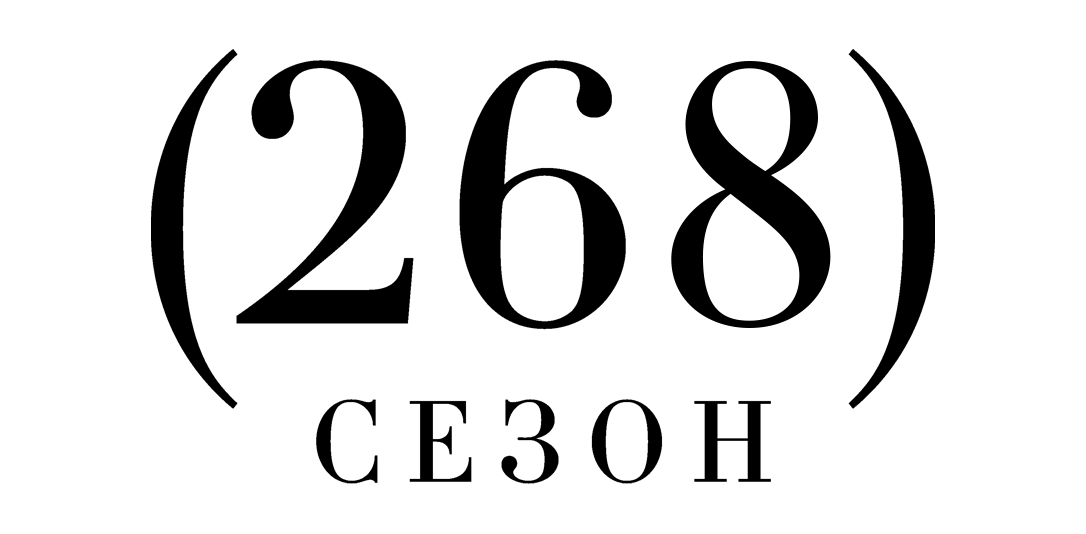Новости
«РЕВИЗОР» Н.В. ГОГОЛЯ НА СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА

«РЕВИЗОР» Н.В. ГОГОЛЯ НА СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА
«РЕВИЗОР» Н.В. ГОГОЛЯ НА СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА
Из книги Игоря Ильинского «Сам о себе»
Постановка 1938 года…
В Малый театр я был приглашен на довольно скромное положение. Оклад мне был назначен меньше, чем тот, на который я имел бы право рассчитывать. Но руководители театра, как я уже говорил, отнеслись к моему поступлению тепло. Само приглашение могло уже расцениваться как хорошее отношение. Все же настороженность и неуверенность, как я проявлю себя в этом театре, были, конечно, налицо. Мне как бы говорили: мы вам верим, приглашаем, испытаем. Пока довольствуйтесь скромным окладом: идя на этот оклад, вы докажете любовь и уважение к тому театру, в который вы вступаете, а также серьезность ваших намерений и готовность держать в этом театре ряд испытаний. А испытания впереди действительно были серьезные, большие и достаточно увлекательные.
Когда я шел на переговоры к И. Я. Судакову, я уже знал, что в Малом театре готовится новая постановка «Ревизора» режиссером Л. А. Волковым. У меня была затаенная мечта — сыграть Хлестакова. Мне казалось это маловероятным, так как и у Мейерхольда я в свое время не играл этой роли. «Сейчас мне уже тридцать семь лет, —думал я. —Я никак не могу считаться худеньким или щупленьким, что требуется для Хлестакова». Но все же, выходя из дому, чтобы идти в Малый театр для разговора с Судаковым, я еще раз оглядел себя в зеркале, подумав: «А что? Я бы, пожалуй, с натяжкой мог сыграть Хлестакова». Но решил не говорить об этом при поступлении в театр. Каково же было мое удивление, когда Илья Яковлевич сразу же спросил меня, как я отнесусь к тому, чтобы играть Хлестакова. «Я боялся сказать вам об этом, но меня эта роль крайне увлекает». — «Ну, так вот. Первая роль — Хлестаков, затем вы введетесь в «Лес», сыграете Аркашку, а дальше уже разберемся». Я радовался, что получаю реальную возможность и надежду успешно доказать свою пригодность Малому театру, так как роли мне предоставлялись великолепные. Правда, тут мне пришлось несколько умерить мою радость. «Ревизор» уже репетировался на сцене, и два актера были назначены на роль Хлестакова. Поэтому мне заранее пришлось пойти на то, что я буду играть роль Хлестакова только недели через две, а то и через месяц после премьеры. Судаков и режиссер Волков не хотели обижать прежде всего основного исполнителя роли Хлестакова В. Мейера, который уже давно репетировал эту роль. Они были не очень им довольны в этой роли, но и не считали настолько плохим его исполнение, чтобы идти на новый риск и заменить его мною. Разумеется, мне пришлось удовольствоваться таким решением, тем более что этим удлинялся срок моей работы над трудной ролью.
Встречен я был в театре по-разному. Пров Михайлович Садовский, недовольный назначением Судакова, высказался таким образом: «Ну теперь, после поступления Игоря Ильинского, ждите приглашения в Малый театр Карандаша. Придет скоро и его очередь». Встретила меня радостно только молодежь Малого театра. Большинство артистов и режиссеров, как старейших, так и «середняков», отнеслись к моему приходу или так же саркастически, как Пров Михайлович, или, в лучшем случае, снисходительно-недоверчиво.
Режиссер спектакля «Ревизор» Л. А. Волков принадлежал к последней группе. Он и в Первой студии МХАТ, где мы играли вместе в «Укрощении строптивой», как мне казалось, не очень меня долюбливал. Здесь, в Малом театре, на первой же нашей беседе, вдвоем, я почувствовал такое же к себе отношение.
Я совершенно не знал его как режиссера и поэтому отвечал той же настороженностью. Но после каждой нашей встречи мы становились ближе и ближе друг другу. Я не пытался сдерживать его педагогические приемы, его критические и подчас колкие замечания в мой адрес. А он беспощадно вскрывал формальные интонации, внешние приемчики, игру «под обаяние» и ставил передо мной более углубленные задачи, которые заключались как в раскрытии сути Хлестакова, его зерна, так и его психологии, его образа мыслей и действий. Он терпеливо добивался, чтобы этот образ мыслей и действий стал моим собственным и чтобы я не показывал бы Хлестакова, не представлял бы Хлестакова, а был бы и жил Ильинским — Хлестаковым на сцене. Как это ни странным покажется, но, несмотря на то, что я работал в двух пьесах в Первой студии МХАТ, несмотря на то, что в течение двадцати лет моей работы я встречался со многими режиссерами Художественного театра и в какой-то степени знал «систему» К.С. Станиславского, Л.А. Волков впервые на практике заставил меня полюбить и органически впитать многие гениальные воспитательные приемы и положения «системы» Константина Сергеевича.
Мне было легко работать с Волковым, так как он был учеником Е.Б. Вахтангова, который привил ему и любовь к театральности и помог творчески освоить «систему» Константина Сергеевича, не делая из нее догмы. До той поры почти всякое знакомство с «системой» Константина Сергеевича, кроме разве азбучных истин, меня сковывало в работе. Грубо говоря, если мне говорили: «Переживайте!» — то я не мог переживать, если мне говорили: «Идите от себя, делайте так, как если бы это с вами случилось, а в дальнейшем физически действуйте, не думайте о словах», — то у меня получались просто какие-то несуразности и я становился творчески мертв и скован.
Впервые в работе с Л. А. Волковым над Хлестаковым я ощутил значение сквозного действия. Я, конечно, знал, что это такое. Но всякое определение сквозного действия и поиски его до сей поры творчески утомляли меня, а, определенное разумом, это сквозное действие, пожалуй, только мешало свободно чувствовать себя и развиваться мне как актеру в роли. В работе над Хлестаковым я вдруг почувствовал, что сквозное действие подхлестывает и побуждает меня к правильному самочувствию, к чувству удовлетворения актерскими находками, которые нанизывались на данное сквозное действие. А сквозное действие для Хлестакова было: бездумно срывать цветы удовольствия, попадающиеся на его жизненном пути. Я также практически почувствовал, что это сквозное действие помогает актеру в роли Хлестакова распознать главное, что определяет его поведение и отношение к окружающему и помогает актеру двигаться в роли вперед, не задерживаясь, не излишне располагаясь и разыгрываясь по мелочам, не отдавая слишком большого места украшениям, которые без ощущения сквозного действия практически отяжелили бы роль.
Л. А. Волков имел вкус к смелой и острой актерской игре, он очень скоро полюбил во мне мои возможности — комедийный темперамент, органическую любовь к юмору а понимание его. Он, как мне казалось, с большим удовольствием работал со мной, он видел, что я искренне радуюсь вместе с ним нашим общим находкам, а главное, что мы говорим с ним на одном языке и что у нас с ним есть общность вкусов. Как режиссера и педагога его не могло не радовать и то, что, несмотря на мою «известность» и авторитет комедийного актера, я всегда без какой-либо амбиции шел за ним по пути большей взыскательности к самому себе, правильно оценивая его режиссерские замыслы и доверяя ему на пути их осуществления и воплощения. Перед тем как перейти непосредственно к рассказу о работе над образом Хлестакова, я бы хотел коснуться некоторых важных общих вопросов поведения актера на сцене, о которых мне пришлось задуматься в процессе работы над ролью Хлестакова.
Раньше, играя одно или другое место в роли, произнося слова монолога, я бывал рабом найденного и установленного ритма, а подчас и внешнего рисунка роли. Если я не чувствовал себя, как говорится, в своей тарелке в каком-либо месте роли, то я переходил к другому куску, торопясь покончить с местом, которое не было по-настоящему и глубоко зацеплено и вспахано актерски. Исполнение роли, таким образом, катилось по поверхности, становилось поверхностным, внешним. Работая над Хлестаковым, я пришел к выводу, что актер должен так крепко «сидеть в седле» роли, так постоянно ощущать свой образ в сквозном действии, чтобы мочь в любом месте роли как бы остановиться и продолжать жить в роли без слов и без использования каких-либо средств внешнего выражения. Если актер выдерживает такую заданную самому себе проверку в любом месте монолога или диалога, то он может быть уверен, что нашел правильный внутренний ритм роли. Если такие остановки не мешают его самочувствию, не выбивают его из этого самочувствия, значит, он живет в роли достаточно глубоко и правдиво.
Очень важен стал для меня также вопрос общения с партнерами и связи с ними. Я принадлежал, да и теперь принадлежу, к очень точным актерам. Мне бывает иногда очень дорог найденный кусок в роли, найденное удачное разрешение дуэтной сцены, ритм этой сцены, точная взаимосвязь и взаимопомощь актеров. Хорошо если партнер или партнеры понимают так же, как и ты, данную сцену, сцеплены с тобой живым общением, чувствуют правильно общий, а также твой и свой ритмы в отдельности. Хорошо, если они, по образному выражению О. О. Садовской, «вяжут общее вязание: я тебе петельку, а ты мне крючочек». Хорошо, если они говорят с тобой и общаются на одном сценическом языке. В спектаклях Мейерхольда такой общности помогал железный режиссерский рисунок, железное построение сцены, но и то часто это построение нарушалось и разбалтывалось неверным исполнением, неверной внутренней жизнью, что бывало в тех случаях, когда актеры разыгрывались и вольно или невольно видоизменяли первоначальное построение сцены.
В Малом театре для актеров-мастеров существовала принципиально большая свобода. Поэтому мне, вновь пришедшему актеру, было трудно уславливаться с партнерами. Если не вмешивался режиссер, то мне как актеру неудобно было просить что-либо у актеров, особенно старшего поколения. Такая просьба могла восприниматься как мое замечание, пусть деликатное, но замечание. Если же и приходилось обращаться с просьбами, вроде: поактивнее в таком-то месте ко мне обратиться, при этих словах взять мою руку и пр. и пр., то актеры, особенно старшего поколения, крайне неохотно шли на такие просьбы. В тех же случаях, когда они проявляли неожиданно свою активность, то есть делали что-либо такое, что было, на мой взгляд, излишне, и «брали меня за руку» тогда, когда мне это было не нужно или мешало игре, то мне было еще труднее попросить этого не делать. Повторяю, что я привык к режиссерской дисциплине и точности рисунка, поэтому когда я встречался с какой-либо неточностью партнера, то мне это настолько мешало, что я терял настроение и даже самообладание.
Как-то я заговорил о таких случаях с Л. А. Волковым. Само собой разумеется, что он также был расстроен теми фактами, когда ломался и комкался задуманный рисунок или ритм сцены. Но он посоветовал мне в таких случаях воспринимать партнера таким, какой он есть на самом деле, чувствовать его реально, что бы он ни делал. Он предлагал в таких случаях менять свою игру соответственно поведению партнера, а не жить на сцене отдельно. В дальнейшем я окончательно осознал, что поведение и действия партнера не могут не влиять на актера. Но актер должен для этого глубоко «сидеть в седле» роли, убежденно знать, чего он хочет в данный момент роли, и тогда при таком положении любое поведение партнера не может сбить актера с его действия. Я считаю, что актер, владеющий подобной техникой, техникой свободной связи с партнером, достигает уже высоких ступеней мастерства.
Актер в своей игре должен опираться и отталкиваться от реального поведения партнера. Связь с партнером дает очень большие результаты. Так, в сцене с Растаковским мне казалось, что сцена нестерпимо тянется и что мне нечего делать и я выключаюсь из действия. Но когда я стал надлежащим образом, то есть тяготясь рассказом Растаковского, заставлять себя — Хлестакова внимательно слушать его, то однажды мое слушание было принято аплодисментами.
Работа над Хлестаковым, как всякая работа, которая является для актера новым этапом в его творчестве, была для меня бесконечно радостна и вместе с тем бесконечно трудна.
Почему так трудно играть Гоголя, ярчайшего театрального писателя, умеющего расцветить, сделать зримым, конкретным каждый образ, вплоть до эпизодических? Мне кажется—да не упрекнут меня в парадоксальности суждения, — что причина именно в этой яркости. Пьесы Гоголя создают непреодолимую иллюзию преувеличения, гиперболизма сценических характеров. Изображаемые Гоголем события развертываются перед нами как исключительные, чрезвычайные; его герои ведут себя неожиданно, резко, почти фантастично, их образ мысли всегда причудлив, а свойства выражены гиперболически. «Прошедшего житья подлейшие черты» — русская действительность времени николаевского царствования — предстают в этих пьесах как бы в сгущении, в концентрате.
Эта особая природа гоголевского реализма в первую очередь поражает воображение как актера, так и режиссера. Вот тогда-то и возникает тенденция «заострить» Гоголя, найти особую форму сценического поведения персонажа, которая отвечала бы стилю писателя и характеру его сатиры. Но в том-то и дело, что эту форму никак нельзя найти самостоятельно, как ни существенно понятие формы для Гоголя. Сколько ни «заостряли» Гоголя, а такие попытки делались, получался либо дурной водевиль, либо условный гротеск, либо фарс — и тогда уходила глубокая мысль, ускользала жизненная сложность образов, спектакль становился плоскостным, однолинейным.
Я не могу не сказать, что «заострять» Гоголя—значит маслить масляное, схватывать, перефразируя его же собственное выражение, — одно только платье, а не душу роли. Вся моя многолетняя практика убеждает меня в том, что Гоголь «открывается» только тем актерам, которые играют его реалистически, без подчеркивания, целиком отдаваясь предлагаемым обстоятельствам пьесы и роли.
Чем больше я вчитываюсь в комедии Гоголя, тем больше утверждаюсь в мысли, что, играя его произведения, нужно лишь строго следовать его ремаркам и «предуведомлениям», его советам для тех, «которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». Гоголь свято верил, что «драма живет только на сцене. Без нее она, как душа без тела». Он очень заботился о том, чтобы его пьесы были сыграны реалистически, все время\\\\\\\' пытался, как сказали бы мы сегодня, режиссировать, подсказывать актеру пути раскрытия характеров. И потому в его пьесах все, что требуется актеру, написано, и потому там все, без исключения, важно, начиная от выразительнейших гоголевских ремарок и кончая знаками препинания, последовательностью слов в фразе, каждым многоточием, каждой паузой.
Словом, нужно лишь правильно прочесть Гоголя — но какая бездна творческих барьеров заключается в этом «лишь»! Гоголь пишет: «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного... даже в последних ролях... Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той сурьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии. Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшею задачею своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их заботы».
Вот это указание Гоголя я считаю важнейшим. Гоголь учит актера ухватывать жизненную логику каждого персонажа, требует от исполнителя умения до конца поверить в ситуацию пьесы—пусть особую, «чрезвычайную» ситуацию, требует полнейшей искренности и простоты на сцене. Гоголь требует от актера «правды и веры», то есть как раз того, чего требует от актера и Станиславский,
Станиславский сказал однажды про героев водевиля, что это самые обыкновенные люди, но с ними на каждом шагу происходят необычайные происшествия, и они не берут под сомнение подлинность этих происшествий—вот их главнейшее свойство. В наивности и доверчивости персонажей, населяющих старый водевиль, заключается тайна его обаяния, внутренней правды, в нем сокрытой. «Ревизор» Гоголя вырос из водевильной традиции и сохранил это ее свойство. Герои Гоголя алогичны только на первый взгляд; на самом же деле они мыслят и действуют с глубокой последовательностью; и даже в полнейшей, казалось бы, алогичности Хлестакова, человека, как Гоголь говорит, приглуповатого и без царя в голове, заключена особого рода логика, которую актер должен уметь раскрыть.
Вот эти-то принципы драматургии Гоголя чрезвычайно близки моим собственным взглядам на природу комедии, на задачи реалистического актера в ней. Вопреки своей давней репутации «чистого» комика, я считаю и считал всегда, что комедия—дело серьезное. Она жестоко мстит каждому, кто вздумает выкидывать в комической роли коленца и «антраша», кто задастся целью смешить, «обличать» нарочито, выставлять в глупом виде героя, не проникаясь его чувствами и мыслями, не следуя тем внутренним импульсам, которые определяют его поведение в пьесе. Без «правды» и «веры» комедию не сыграть. «Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет», — замечает Гоголь по поводу Хлестакова. Думаю, что мы имеем право толковать эту формулу расширительно, применяя ее ко всем остальным ролям знаменитой гоголевской комедии.
И если простота и чистосердечие присутствуют, если они сцементированы к тому же яростным, неудержимым, страстным темпераментом, присущим всем, без исключения, героям Гоголя, то смешное роли выявится само собой, обнаружит себя в серии ярких приспособлений, органичных для данной комедии, но это будет уже реалистический образ, а не гротеск, острота формы, а не преувеличение, раздувание известного социального явления. Последнее так же вредно у Гоголя, как и в советской сатирической пьесе.
Когда я приступил к работе над Хлестаковым, мы вместе с постановщиком спектакля Волковым много думали о «зерне» этого сложного образа. С тех пор как бы ни менялся образ в своих деталях, мое отношение к нему осталось неизменным. Мне представляется, что в паразитизме Хлестакова, в той «легкости необыкновенной», с какой он умеет потребительски использовать каждую жизненную ситуацию, заключена глубочайшая типичность.
Хлестаковщина — это оборотная сторона общественной системы, основанной на взятках, казнокрадстве и чинопочитании, ее неизбежное следствие. Это подчеркивает и Гоголь, замечая: «Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми... И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым».
Хлестаков безлик, но все его представления и взгляды сформированы тем самым строем, который порождает городничих и держиморд. Вот почему в чрезвычайных обстоятельствах пьесы он ведет себя в точности так же, как мог бы вести себя настоящий ревизор: распекает, берет взятки, «пускает пыль в глаза» окружающим, все время кого-то копируя—то важного чиновника, каких видел в Петербурге, то богатого и хлебосольного барина, то ловкого светского франта, то государственного человека.
Так в безликости Хлестакова, как в огромном зеркале, отображаются многие явления породившей его эпохи. И потому понятна ошибка чиновников, принявших «елистратишку», «фитюльку» за государственного человека. В том-то и дело, что Хлестаков одновременно и пустяк и «столичная штучка». Такова сложная двойственность этой «порхающей» роли.
Как истый потребитель, Хлестаков никогда не задумывается о происхождении явлений, не постигает их концы и начала. Для этого он слишком элементарен. Мотыльком порхает он по жизни, нимало не беспокоясь о том, что с ним будет завтра, и решительно не помня того, что с ним было вчера. Для него существуют только сегодняшние, непосредственные побуждения самого примитивного порядка: если он голоден, он уже не может сосредоточиться ни на чем, кроме своего пустого желудка; если он видит женщину, он тотчас же начинает за ней ухаживать по всем правилам пошлого светского романа; если ему угрожает опасность, он старается ее избежать—механически выпрыгнуть в окно, спрятаться за вешалку с платьями, отложить неприятное дело на завтра и больше уже не возвращаться к нему.
Мне кажется очень глубоким замечание Гоголя: «Темы для разговоров ему дают выведывающие. Они сами как бы кладут ему все в рот и создают разговор». А он, Хлестаков, схватывает то одну, то другую тему и скользит себе по поверхности жизни, подталкиваемый первичными паразитическими импульсами, норовя лишь вкусно пообедать, приударить за купеческой дочкой, перекинуться в картишки, а при случае разыграть из себя персону. Мне всегда представлялся Хлестаков в виде суматошливого, глупого, визгливого щенка. Недаром я поймал себя на том, что я, репетируя Хлестакова, стал играть моего щенка, жесткошерстного фокстерьера Кузю; я старался для себя найти его взгляд — он как бы все время ищет, чем бы позабавиться, что еще есть чудесного, интересного на этом свете. Для своего Хлестакова я нашел эту собачью, щенячью радость жизни, эту безудержность в срывании цветов удовольствия.
Мое представление об образе я старался последовательно воплотить в спектакле; но на первых этапах сценической жизни роли я сам еще не был свободен от мысли, что для воплощения Гоголя нужна особая манера игры, особые приемы выразительности и, не доверяя до конца драматургу, искал дополнительных средств характеристики образа, пользуясь всякого рода «подчеркивающими» деталями; иначе говоря, не вполне следовал уже цитированному здесь завету автора: «...чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет».
Когда в 1949 году Малый театр возобновил «Ревизора», я стремился очистить образ от всех излишеств, добиться лаконичности выразительных средств. Тут-то я и имел прекрасный случай убедиться, как важно доверять самому Гоголю и ничего «не играть» сверх того, что предусмотрено им. Я старался углубить роль, но так, как этого требует Гоголь, не отяжеляя игру, а облегчая, и от этого, мне кажется, поведение Хлестакова в спектакле стало более действенным, а его несуразная логика более ясной для зрителя.
Возьмем для примера второй акт, когда Хлестаков отсылает Осипа к трактирщику. Раньше мне было трудно заполнить паузу ожидания, пока Осип ходил за трактирным слугой, и, закончив короткий монолог, я делал какие-то дополнительные переходы по сцене, придумывая себе занятия, полагая, что это интереснее зрителю, чем наблюдать, как Хлестаков без всякого дела сидит у стола и ждет. А у Гоголя выразительная ремарка:
«Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се, ни то». И вот однажды я попробовал точно выполнить предложение автора. Результат не замедлил сказаться: видя, как мой герой, с трудом испуская из себя свист, переходит от одной мелодии к другой, а потом уже свистит, сам не зная что, зритель отчетливо чувствовал, что Хлестаков полностью сосредоточен на своем пустом желудке, устремление ждет обеда и с трудом сдерживается, чтоб не пуститься на кухню, подгоняя замешкавшегося слугу. Цель, таким образом, достигалась при экономии средств.
В третьем действии, знакомясь с дамами, я в прежнем спектакле выделывал какие-то невероятные балетные па, соответствовавшие, как мне казалось, представлению Хлестакова о светских приличиях. Но, переключаясь на мои танцевальные экзерсисы, зритель невольно терял линию действия, забывая о смысле происходящего на сцене. Лишь много позже я оценил юмор двух соседствующих фраз Хлестакова: «Возле вас стоять уже есть счастье; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду». Тогда я переделал эту сцену. Галантно расшаркавшись перед дамами и возглашая: «Возле вас стоять уже есть счастье»,—Хлестаков непроизвольно рушится в кресло, но, не сознавая этого, продолжает самым учтивым тоном уверять Анну Андреевну: «Впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду». Получалось не только смешно, но и характерно: полупьяный Хлестаков, отягощенный сытным и обильным завтраком, рисуется и жуирует, ревностно следуя пошлейшим образцам столичной «светской» вежливости.
И третий пример того, как Гоголь подсказывает исполнителям необходимые краски образа—ремарки второго акта.
«Хлестаков (ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом). Послушай... эй, Осип!.. (громким, но не столь решительным голосом). Ты ступай туда... (голосом вовсе не решительным, не громким, очень близким к просьбе). Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать».
Здесь все предусмотрено автором — и состояние персонажа, человека ничтожного, растерявшегося от неудач, и особенность его натуры, заставляющей его тем энергичнее требовать пищи, чем больший голод он испытывает, и трусость, сковывающая всякий его порыв. Здесь даже интонация подсказана; актеру остается лишь прислушаться к этой мудрой подсказке.
Большая работа была проделана и над речью моего героя. Когда-то я грешил в этом смысле известной подчеркнутостью — раскрашивая слова Хлестакова, боялся говорить просто, и реплики звучали нарочито. С годами, мне кажется, я добился и большей простоты и большей подчиненности речи характеру героя.
Хлестаков в полном соответствии со своим самочувствием в жизни говорит быстро, иногда «с захлебом», спеша и глотая слова (слова обгоняют мысль потому, что героя «заносит»); его интонации, несмотря на их внешнюю экспрессивность, зыбки и незакончены — не то он утверждает что-то, не то спрашивает, не то удивляется, а приятная округлость фразы превращается в щенячье повизгивание, когда Хлестаков напуган или удручен. Зато, почувствовав себя «персоной», азартно разыгрывая перед уездными жителями «чрезвычайного» чиновника из Петербурга, Хлестаков и говорить начинает важно, впрочем, в пределах своих представлений о сановитости и солидности. Так, например, он обнадеживает Добчинского относительно возможности его сыну называться так же — Добчинским. Я произносил эту фразу ровно, однотонно, без интервалов, без малейших намеков на знаки препинания: «Хорошо хорошо я об этом постараюсь я буду говорить я надеюсь все это будет сделано да да». Тщеславная сущность Хлестакова, этого раздувшегося ничтожества, выступала здесь особенно отчетливо, заставляя вспомнить известную басню Крылова относительно лягушки и вола.
Таково было направление моей работы над образом на протяжении всех лет, что я играл Хлестакова в Малом театре. И она, эта работа, не кончена.
И в знаменитом монологе Хлестакова в идеале должны быть те же простодушие и искренность, как и во всем его поведении в спектакле. Добиться того, чтобы и в монологе «ничего не играть», ничего специально не красить, всей душой доверяясь гоголевской ситуации, — такая задача стояла передо мной. Ведь Хлестаков—и врет и не врет. Фантасмагоричность, вымороченность той жизни, в которой только и возможны свиные рыла уездной обывательщины, делают допустимой и мысль о реальности чудовищного хлестаковского вранья.
Я прожил целую жизнь бок о бок с «Ревизором», играя на сцене Малого театра Хлестакова с 1938 года, а городничего — с 1952-го, и по опыту могу сказать, что Гоголь—драматург столь же трудный, сколь и неисчерпаемый. Работа над гоголевским образом никогда не может считаться завершенной вполне. Сколь бы ни играть Хлестакова, я все ощущаю в роли кладезь неиспользованных возможностей. Что же касается роли городничего, то моя работа над ней, собственно, все еще продолжается, и меня вполне устраивает, когда мне говорят товарищи по театру или зрители, что я нахожусь «на верном пути».
Моя работа над ролью Хлестакова, относящаяся ко времени постановки Волкова 1938 года, имела громадное для меня значение. Не надо забывать, что в середине 30-х годов не только я находился еще под влиянием формалистических увлечений в театральном искусстве. Проявления «мейерхольдовщины» сказывались даже и в Малом театре, где прошли «Волки и овцы» в постановке К. Хохлова—яркий пример «мейерхольдовщины», о которой я уже упоминал. В постановке Волкова имелся также ряд сцен, которые носили характер нарочито-показной «режиссерской» выдумки. К выпуску премьеры Волков совершенно правильно умерил свою фантазию. Но все же излишества еще были. Такие места были и у меня в роли. Эти «украшения» занимали иной раз слишком большое место в спектакле. Но повторяю, что в то время такие украшения и некоторые излишества воспринимались как свежий ветер в Малом театре и поддерживались частью труппы.
Для меня лично работа над Хлестаковым была важна не этими выдумками и не свежестью ряда мест в роли, которые не в меньшей степени бывали у меня в ролях мейерхольдовского театра, а прежде всего своей общей реалистической направленностью, обогатившей и оплодотворившей мое творческое сознание. В Малом театре, с которым я отныне связал свою судьбу, работать вне этой реалистической направленности с тех пор стало для меня органически немыслимо.
Первые годы моей работы в Малом театре были для меня крайне напряженными и насыщенными. Пожалуй, я в те дни не осознавал полностью того значения, которое имело для моей дальнейшей жизни поступление в Малый театр. Сам Малый театр, на мой взгляд, представлял в то время собрание «двунадесяти языков». Да и в наши дни все его творческие силы еще не совсем ассимилировались и слились в единый по стилю творческий организм.
Конечно, представления о Малом театре и путях его развития могут быть разные. Только проведя тридцать лет своей жизни в Малом театре, распознав и на практике изучив его истоки и традиции, я могу сказать, что стал иметь достаточно ясное представление о том, каким должен быть Малый театр.
Поступая в 1938 году в Малый театр, я не мог не ощущать этих «двунадесяти языков». Здесь были «старики» — старые артисты, могикане, которые бережно несли и утверждали, в силу своего таланта, традиции Малого театра, но среди них были и такие, которые невольно смешивали щепкинские традиции с безнадежной рутиной и отсталостью. Затем были добротные, крепкие актеры провинциального склада, были «коршев-ские» актеры, столичные и умные, несколько игравшие «на зрителя», были выученики МХАТ и закрывшегося к тому времени МХАТ 2-го, была молодежь и ученики школы имени Щепкина при Малом театре. Наконец, появилось несколько мейерхольдовцев, и я в том числе.
Руководством и цементированием этого разношерстного в каждой своей части талантливого актерского состава занимался, как я уже говорил, мхатовец И. Я. Судаков.
Если анализировать путь Малого театра за последние тридцать лет, то нетрудно прийти к заключению, что имели признание зрителей и вошли в историю Малого театра только те спектакли, которые отражали основные традиции и стиль этого старейшего русского театра.
Развитие советской театральной культуры требовало от Малого театра наших дней свежести и чувства современности. Поэтому «старики», привносившие в свое творчество вместе с традициями качества современного актера, жизненные наблюдения советских художников, получали признание и благодарность взыскательного советского зрителя. То же самое происходило и с «коршевской» и «провинциальной» группами. Если они отказывались от своих штампов и приемов, если они обогащали свое мастерство благородными традициями «стариков», их ждал успех. «Формалисты» (и я в том числе) также должны были задуматься о многом и многое пересмотреть, если не хотели остаться в коллективе инородным телом.
Главный режиссер И. Я. Судаков, как мне кажется, понимал сложность всей перестройки Малого театра, и поэтому в меру, не ломая и не насилуя творческие особенности каждого из актеров, упорно внедрял во все эти группы свой «символ веры», то есть основные методы «системы» К. С. Станиславского. Когда результаты этого сложного творческого процесса не выходили из рамок представления зрителя о Малом театре, когда актеры успешно принимали участие в таком процессе, когда они, таким образом, шли вперед, то такие спектакли имели неизменный успех и выражали лицо нового, современного Малого театра. Спектакли, в которых превалировала какая-либо из групп, упорно остававшаяся верной своим особенностям, несмотря подчас на свою талантливость, — такие спектакли не вливались в основное русло Малого театра.
Это можно было наблюдать и в отношении И. Я. Судакова. В тех случаях, когда на сцене Малого театра он пытался создать спектакль МХАТ, такой спектакль, как правило, не получался.
При вступлении в Малый театр я не мог предвидеть столь сложного процесса и не имел заранее обдуманного намерения работать и жить в рамках такой сложной перестройки. Но когда я поступил в Малый театр, я почувствовал радость от желания участвовать в этом процессе перестройки, а затем и удовлетворение от моего актерского роста. В конце концов, когда я стал ощущать себя современным актером и в то же время носителем традиций Малого театра, я обрел желание бороться за единое лицо Малого театра, за понимание его предназначения и за дальнейшее укрепление его путей.
Тогда я лишь видел его многоликую несобранность и, откровенно говоря, совершенно еще не думал о своей кровной заинтересованности русского актера в отыскании путей к идейной и стилистической цельности Малого театра, о торжестве в нем единого творческого языка, а также и о том, что придет время, когда мне придется бороться за свое понимание Малого театра. Тогда при всем моем трепете перед этой прославленной сценой, я видел в ней прежде всего площадку, на которой я могу показать себя таким, каковым я был на данном своем этапе. Правда, на сей раз я мечтал не только показать себя полугастрольным образом, как то было в Александрийском театре, но и успешно соревноваться в таком показе с другими актерами.
Однако, к счастью, как я уже говорил, я попал в другую творческую обстановку, не имевшую ничего общего с положением в бывшем Александрийском театре. Очень быстро некоторое наличие такого, по-видимому, свойственного мне легкомыслия уступило место художественной работе и взыскательности. Так было с Хлестаковым, затем с Загорецким в «Горе от ума», а первая годовщина моего пребывания в Малом театре ознаменовалась для меня вводом в «Лес» Островского в постановке Л. М. Прозоровского при близком содружестве с П. М. Садовским.
Я не буду останавливаться на работе над Загорецким, которая не имела особого значения среди других первых ролей в Малом театре. Лично я большого удовлетворения здесь не изведал, и она не прибавила мне ничего нового, как то было с ролью Хлестакова. Сказалось то, что мне не было уделено достаточно внимания со стороны режиссуры (И. Я. Судаков и П. М. Садовский). Сам же я не сумел проявить инициативу во второй своей работе и скромно следовал указаниям режиссеров. Кроме двух, трех удачных, занятных интонаций и «скольжения по паркету», которое я проделывал довольно искусно, я как актер ничего не внес в этот спектакль.
Гораздо серьезнее оказалась работа над Аркашкой. Я охотно пошел за режиссером Л. М. Прозоровским, который стремился «очеловечить» моего мейерхольдовского Аркашку и пытался медленно, но верно убедить меня отказаться от многих внешних приемов и трюков в роли, заменив внешние театральные приемы углубленностью и жизненностью образа.
Пров Михайлович Садовский, который, как я уже рассказывал, весьма скептически отнесся как к моему вступлению в Малый театр, так и к успеху в Хлестакове, вдруг очень сердечно стал относиться ко мне на репетициях «Леса».
По-видимому, он вполне принимал меня как партнера, так как я не мешал ему играть и находил с ним общий сценический язык.
Я был счастлив и гордился тем, что впоследствии он мне сказал, что я лучший Счастливцев, с каким ему приходилось играть. По его словам, он не ожидал, что я заговорю с ним на репетиции тем простым языком неудачливого провинциального актера, которым я с ним заговорил, и что он увидит в моих глазах ту человеческую горечь, которая заразит его как партнера.
В дальнейшем Пров Михайлович полюбил меня, как мне кажется, как актера, сошел
Из книги Игоря Ильинского «Сам о себе»
Постановка 1938 года…
В Малый театр я был приглашен на довольно скромное положение. Оклад мне был назначен меньше, чем тот, на который я имел бы право рассчитывать. Но руководители театра, как я уже говорил, отнеслись к моему поступлению тепло. Само приглашение могло уже расцениваться как хорошее отношение. Все же настороженность и неуверенность, как я проявлю себя в этом театре, были, конечно, налицо. Мне как бы говорили: мы вам верим, приглашаем, испытаем. Пока довольствуйтесь скромным окладом: идя на этот оклад, вы докажете любовь и уважение к тому театру, в который вы вступаете, а также серьезность ваших намерений и готовность держать в этом театре ряд испытаний. А испытания впереди действительно были серьезные, большие и достаточно увлекательные.
Когда я шел на переговоры к И. Я. Судакову, я уже знал, что в Малом театре готовится новая постановка «Ревизора» режиссером Л. А. Волковым. У меня была затаенная мечта — сыграть Хлестакова. Мне казалось это маловероятным, так как и у Мейерхольда я в свое время не играл этой роли. «Сейчас мне уже тридцать семь лет, —думал я. —Я никак не могу считаться худеньким или щупленьким, что требуется для Хлестакова». Но все же, выходя из дому, чтобы идти в Малый театр для разговора с Судаковым, я еще раз оглядел себя в зеркале, подумав: «А что? Я бы, пожалуй, с натяжкой мог сыграть Хлестакова». Но решил не говорить об этом при поступлении в театр. Каково же было мое удивление, когда Илья Яковлевич сразу же спросил меня, как я отнесусь к тому, чтобы играть Хлестакова. «Я боялся сказать вам об этом, но меня эта роль крайне увлекает». — «Ну, так вот. Первая роль — Хлестаков, затем вы введетесь в «Лес», сыграете Аркашку, а дальше уже разберемся». Я радовался, что получаю реальную возможность и надежду успешно доказать свою пригодность Малому театру, так как роли мне предоставлялись великолепные. Правда, тут мне пришлось несколько умерить мою радость. «Ревизор» уже репетировался на сцене, и два актера были назначены на роль Хлестакова. Поэтому мне заранее пришлось пойти на то, что я буду играть роль Хлестакова только недели через две, а то и через месяц после премьеры. Судаков и режиссер Волков не хотели обижать прежде всего основного исполнителя роли Хлестакова В. Мейера, который уже давно репетировал эту роль. Они были не очень им довольны в этой роли, но и не считали настолько плохим его исполнение, чтобы идти на новый риск и заменить его мною. Разумеется, мне пришлось удовольствоваться таким решением, тем более что этим удлинялся срок моей работы над трудной ролью.
Встречен я был в театре по-разному. Пров Михайлович Садовский, недовольный назначением Судакова, высказался таким образом: «Ну теперь, после поступления Игоря Ильинского, ждите приглашения в Малый театр Карандаша. Придет скоро и его очередь». Встретила меня радостно только молодежь Малого театра. Большинство артистов и режиссеров, как старейших, так и «середняков», отнеслись к моему приходу или так же саркастически, как Пров Михайлович, или, в лучшем случае, снисходительно-недоверчиво.
Режиссер спектакля «Ревизор» Л. А. Волков принадлежал к последней группе. Он и в Первой студии МХАТ, где мы играли вместе в «Укрощении строптивой», как мне казалось, не очень меня долюбливал. Здесь, в Малом театре, на первой же нашей беседе, вдвоем, я почувствовал такое же к себе отношение.
Я совершенно не знал его как режиссера и поэтому отвечал той же настороженностью. Но после каждой нашей встречи мы становились ближе и ближе друг другу. Я не пытался сдерживать его педагогические приемы, его критические и подчас колкие замечания в мой адрес. А он беспощадно вскрывал формальные интонации, внешние приемчики, игру «под обаяние» и ставил передо мной более углубленные задачи, которые заключались как в раскрытии сути Хлестакова, его зерна, так и его психологии, его образа мыслей и действий. Он терпеливо добивался, чтобы этот образ мыслей и действий стал моим собственным и чтобы я не показывал бы Хлестакова, не представлял бы Хлестакова, а был бы и жил Ильинским — Хлестаковым на сцене. Как это ни странным покажется, но, несмотря на то, что я работал в двух пьесах в Первой студии МХАТ, несмотря на то, что в течение двадцати лет моей работы я встречался со многими режиссерами Художественного театра и в какой-то степени знал «систему» К.С. Станиславского, Л.А. Волков впервые на практике заставил меня полюбить и органически впитать многие гениальные воспитательные приемы и положения «системы» Константина Сергеевича.
Мне было легко работать с Волковым, так как он был учеником Е.Б. Вахтангова, который привил ему и любовь к театральности и помог творчески освоить «систему» Константина Сергеевича, не делая из нее догмы. До той поры почти всякое знакомство с «системой» Константина Сергеевича, кроме разве азбучных истин, меня сковывало в работе. Грубо говоря, если мне говорили: «Переживайте!» — то я не мог переживать, если мне говорили: «Идите от себя, делайте так, как если бы это с вами случилось, а в дальнейшем физически действуйте, не думайте о словах», — то у меня получались просто какие-то несуразности и я становился творчески мертв и скован.
Впервые в работе с Л. А. Волковым над Хлестаковым я ощутил значение сквозного действия. Я, конечно, знал, что это такое. Но всякое определение сквозного действия и поиски его до сей поры творчески утомляли меня, а, определенное разумом, это сквозное действие, пожалуй, только мешало свободно чувствовать себя и развиваться мне как актеру в роли. В работе над Хлестаковым я вдруг почувствовал, что сквозное действие подхлестывает и побуждает меня к правильному самочувствию, к чувству удовлетворения актерскими находками, которые нанизывались на данное сквозное действие. А сквозное действие для Хлестакова было: бездумно срывать цветы удовольствия, попадающиеся на его жизненном пути. Я также практически почувствовал, что это сквозное действие помогает актеру в роли Хлестакова распознать главное, что определяет его поведение и отношение к окружающему и помогает актеру двигаться в роли вперед, не задерживаясь, не излишне располагаясь и разыгрываясь по мелочам, не отдавая слишком большого места украшениям, которые без ощущения сквозного действия практически отяжелили бы роль.
Л. А. Волков имел вкус к смелой и острой актерской игре, он очень скоро полюбил во мне мои возможности — комедийный темперамент, органическую любовь к юмору а понимание его. Он, как мне казалось, с большим удовольствием работал со мной, он видел, что я искренне радуюсь вместе с ним нашим общим находкам, а главное, что мы говорим с ним на одном языке и что у нас с ним есть общность вкусов. Как режиссера и педагога его не могло не радовать и то, что, несмотря на мою «известность» и авторитет комедийного актера, я всегда без какой-либо амбиции шел за ним по пути большей взыскательности к самому себе, правильно оценивая его режиссерские замыслы и доверяя ему на пути их осуществления и воплощения. Перед тем как перейти непосредственно к рассказу о работе над образом Хлестакова, я бы хотел коснуться некоторых важных общих вопросов поведения актера на сцене, о которых мне пришлось задуматься в процессе работы над ролью Хлестакова.
Раньше, играя одно или другое место в роли, произнося слова монолога, я бывал рабом найденного и установленного ритма, а подчас и внешнего рисунка роли. Если я не чувствовал себя, как говорится, в своей тарелке в каком-либо месте роли, то я переходил к другому куску, торопясь покончить с местом, которое не было по-настоящему и глубоко зацеплено и вспахано актерски. Исполнение роли, таким образом, катилось по поверхности, становилось поверхностным, внешним. Работая над Хлестаковым, я пришел к выводу, что актер должен так крепко «сидеть в седле» роли, так постоянно ощущать свой образ в сквозном действии, чтобы мочь в любом месте роли как бы остановиться и продолжать жить в роли без слов и без использования каких-либо средств внешнего выражения. Если актер выдерживает такую заданную самому себе проверку в любом месте монолога или диалога, то он может быть уверен, что нашел правильный внутренний ритм роли. Если такие остановки не мешают его самочувствию, не выбивают его из этого самочувствия, значит, он живет в роли достаточно глубоко и правдиво.
Очень важен стал для меня также вопрос общения с партнерами и связи с ними. Я принадлежал, да и теперь принадлежу, к очень точным актерам. Мне бывает иногда очень дорог найденный кусок в роли, найденное удачное разрешение дуэтной сцены, ритм этой сцены, точная взаимосвязь и взаимопомощь актеров. Хорошо если партнер или партнеры понимают так же, как и ты, данную сцену, сцеплены с тобой живым общением, чувствуют правильно общий, а также твой и свой ритмы в отдельности. Хорошо, если они, по образному выражению О. О. Садовской, «вяжут общее вязание: я тебе петельку, а ты мне крючочек». Хорошо, если они говорят с тобой и общаются на одном сценическом языке. В спектаклях Мейерхольда такой общности помогал железный режиссерский рисунок, железное построение сцены, но и то часто это построение нарушалось и разбалтывалось неверным исполнением, неверной внутренней жизнью, что бывало в тех случаях, когда актеры разыгрывались и вольно или невольно видоизменяли первоначальное построение сцены.
В Малом театре для актеров-мастеров существовала принципиально большая свобода. Поэтому мне, вновь пришедшему актеру, было трудно уславливаться с партнерами. Если не вмешивался режиссер, то мне как актеру неудобно было просить что-либо у актеров, особенно старшего поколения. Такая просьба могла восприниматься как мое замечание, пусть деликатное, но замечание. Если же и приходилось обращаться с просьбами, вроде: поактивнее в таком-то месте ко мне обратиться, при этих словах взять мою руку и пр. и пр., то актеры, особенно старшего поколения, крайне неохотно шли на такие просьбы. В тех же случаях, когда они проявляли неожиданно свою активность, то есть делали что-либо такое, что было, на мой взгляд, излишне, и «брали меня за руку» тогда, когда мне это было не нужно или мешало игре, то мне было еще труднее попросить этого не делать. Повторяю, что я привык к режиссерской дисциплине и точности рисунка, поэтому когда я встречался с какой-либо неточностью партнера, то мне это настолько мешало, что я терял настроение и даже самообладание.
Как-то я заговорил о таких случаях с Л. А. Волковым. Само собой разумеется, что он также был расстроен теми фактами, когда ломался и комкался задуманный рисунок или ритм сцены. Но он посоветовал мне в таких случаях воспринимать партнера таким, какой он есть на самом деле, чувствовать его реально, что бы он ни делал. Он предлагал в таких случаях менять свою игру соответственно поведению партнера, а не жить на сцене отдельно. В дальнейшем я окончательно осознал, что поведение и действия партнера не могут не влиять на актера. Но актер должен для этого глубоко «сидеть в седле» роли, убежденно знать, чего он хочет в данный момент роли, и тогда при таком положении любое поведение партнера не может сбить актера с его действия. Я считаю, что актер, владеющий подобной техникой, техникой свободной связи с партнером, достигает уже высоких ступеней мастерства.
Актер в своей игре должен опираться и отталкиваться от реального поведения партнера. Связь с партнером дает очень большие результаты. Так, в сцене с Растаковским мне казалось, что сцена нестерпимо тянется и что мне нечего делать и я выключаюсь из действия. Но когда я стал надлежащим образом, то есть тяготясь рассказом Растаковского, заставлять себя — Хлестакова внимательно слушать его, то однажды мое слушание было принято аплодисментами.
Работа над Хлестаковым, как всякая работа, которая является для актера новым этапом в его творчестве, была для меня бесконечно радостна и вместе с тем бесконечно трудна.
Почему так трудно играть Гоголя, ярчайшего театрального писателя, умеющего расцветить, сделать зримым, конкретным каждый образ, вплоть до эпизодических? Мне кажется—да не упрекнут меня в парадоксальности суждения, — что причина именно в этой яркости. Пьесы Гоголя создают непреодолимую иллюзию преувеличения, гиперболизма сценических характеров. Изображаемые Гоголем события развертываются перед нами как исключительные, чрезвычайные; его герои ведут себя неожиданно, резко, почти фантастично, их образ мысли всегда причудлив, а свойства выражены гиперболически. «Прошедшего житья подлейшие черты» — русская действительность времени николаевского царствования — предстают в этих пьесах как бы в сгущении, в концентрате.
Эта особая природа гоголевского реализма в первую очередь поражает воображение как актера, так и режиссера. Вот тогда-то и возникает тенденция «заострить» Гоголя, найти особую форму сценического поведения персонажа, которая отвечала бы стилю писателя и характеру его сатиры. Но в том-то и дело, что эту форму никак нельзя найти самостоятельно, как ни существенно понятие формы для Гоголя. Сколько ни «заостряли» Гоголя, а такие попытки делались, получался либо дурной водевиль, либо условный гротеск, либо фарс — и тогда уходила глубокая мысль, ускользала жизненная сложность образов, спектакль становился плоскостным, однолинейным.
Я не могу не сказать, что «заострять» Гоголя—значит маслить масляное, схватывать, перефразируя его же собственное выражение, — одно только платье, а не душу роли. Вся моя многолетняя практика убеждает меня в том, что Гоголь «открывается» только тем актерам, которые играют его реалистически, без подчеркивания, целиком отдаваясь предлагаемым обстоятельствам пьесы и роли.
Чем больше я вчитываюсь в комедии Гоголя, тем больше утверждаюсь в мысли, что, играя его произведения, нужно лишь строго следовать его ремаркам и «предуведомлениям», его советам для тех, «которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». Гоголь свято верил, что «драма живет только на сцене. Без нее она, как душа без тела». Он очень заботился о том, чтобы его пьесы были сыграны реалистически, все время\\\\\\\' пытался, как сказали бы мы сегодня, режиссировать, подсказывать актеру пути раскрытия характеров. И потому в его пьесах все, что требуется актеру, написано, и потому там все, без исключения, важно, начиная от выразительнейших гоголевских ремарок и кончая знаками препинания, последовательностью слов в фразе, каждым многоточием, каждой паузой.
Словом, нужно лишь правильно прочесть Гоголя — но какая бездна творческих барьеров заключается в этом «лишь»! Гоголь пишет: «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного... даже в последних ролях... Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той сурьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии. Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшею задачею своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их заботы».
Вот это указание Гоголя я считаю важнейшим. Гоголь учит актера ухватывать жизненную логику каждого персонажа, требует от исполнителя умения до конца поверить в ситуацию пьесы—пусть особую, «чрезвычайную» ситуацию, требует полнейшей искренности и простоты на сцене. Гоголь требует от актера «правды и веры», то есть как раз того, чего требует от актера и Станиславский,
Станиславский сказал однажды про героев водевиля, что это самые обыкновенные люди, но с ними на каждом шагу происходят необычайные происшествия, и они не берут под сомнение подлинность этих происшествий—вот их главнейшее свойство. В наивности и доверчивости персонажей, населяющих старый водевиль, заключается тайна его обаяния, внутренней правды, в нем сокрытой. «Ревизор» Гоголя вырос из водевильной традиции и сохранил это ее свойство. Герои Гоголя алогичны только на первый взгляд; на самом же деле они мыслят и действуют с глубокой последовательностью; и даже в полнейшей, казалось бы, алогичности Хлестакова, человека, как Гоголь говорит, приглуповатого и без царя в голове, заключена особого рода логика, которую актер должен уметь раскрыть.
Вот эти-то принципы драматургии Гоголя чрезвычайно близки моим собственным взглядам на природу комедии, на задачи реалистического актера в ней. Вопреки своей давней репутации «чистого» комика, я считаю и считал всегда, что комедия—дело серьезное. Она жестоко мстит каждому, кто вздумает выкидывать в комической роли коленца и «антраша», кто задастся целью смешить, «обличать» нарочито, выставлять в глупом виде героя, не проникаясь его чувствами и мыслями, не следуя тем внутренним импульсам, которые определяют его поведение в пьесе. Без «правды» и «веры» комедию не сыграть. «Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет», — замечает Гоголь по поводу Хлестакова. Думаю, что мы имеем право толковать эту формулу расширительно, применяя ее ко всем остальным ролям знаменитой гоголевской комедии.
И если простота и чистосердечие присутствуют, если они сцементированы к тому же яростным, неудержимым, страстным темпераментом, присущим всем, без исключения, героям Гоголя, то смешное роли выявится само собой, обнаружит себя в серии ярких приспособлений, органичных для данной комедии, но это будет уже реалистический образ, а не гротеск, острота формы, а не преувеличение, раздувание известного социального явления. Последнее так же вредно у Гоголя, как и в советской сатирической пьесе.
Когда я приступил к работе над Хлестаковым, мы вместе с постановщиком спектакля Волковым много думали о «зерне» этого сложного образа. С тех пор как бы ни менялся образ в своих деталях, мое отношение к нему осталось неизменным. Мне представляется, что в паразитизме Хлестакова, в той «легкости необыкновенной», с какой он умеет потребительски использовать каждую жизненную ситуацию, заключена глубочайшая типичность.
Хлестаковщина — это оборотная сторона общественной системы, основанной на взятках, казнокрадстве и чинопочитании, ее неизбежное следствие. Это подчеркивает и Гоголь, замечая: «Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми... И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым».
Хлестаков безлик, но все его представления и взгляды сформированы тем самым строем, который порождает городничих и держиморд. Вот почему в чрезвычайных обстоятельствах пьесы он ведет себя в точности так же, как мог бы вести себя настоящий ревизор: распекает, берет взятки, «пускает пыль в глаза» окружающим, все время кого-то копируя—то важного чиновника, каких видел в Петербурге, то богатого и хлебосольного барина, то ловкого светского франта, то государственного человека.
Так в безликости Хлестакова, как в огромном зеркале, отображаются многие явления породившей его эпохи. И потому понятна ошибка чиновников, принявших «елистратишку», «фитюльку» за государственного человека. В том-то и дело, что Хлестаков одновременно и пустяк и «столичная штучка». Такова сложная двойственность этой «порхающей» роли.
Как истый потребитель, Хлестаков никогда не задумывается о происхождении явлений, не постигает их концы и начала. Для этого он слишком элементарен. Мотыльком порхает он по жизни, нимало не беспокоясь о том, что с ним будет завтра, и решительно не помня того, что с ним было вчера. Для него существуют только сегодняшние, непосредственные побуждения самого примитивного порядка: если он голоден, он уже не может сосредоточиться ни на чем, кроме своего пустого желудка; если он видит женщину, он тотчас же начинает за ней ухаживать по всем правилам пошлого светского романа; если ему угрожает опасность, он старается ее избежать—механически выпрыгнуть в окно, спрятаться за вешалку с платьями, отложить неприятное дело на завтра и больше уже не возвращаться к нему.
Мне кажется очень глубоким замечание Гоголя: «Темы для разговоров ему дают выведывающие. Они сами как бы кладут ему все в рот и создают разговор». А он, Хлестаков, схватывает то одну, то другую тему и скользит себе по поверхности жизни, подталкиваемый первичными паразитическими импульсами, норовя лишь вкусно пообедать, приударить за купеческой дочкой, перекинуться в картишки, а при случае разыграть из себя персону. Мне всегда представлялся Хлестаков в виде суматошливого, глупого, визгливого щенка. Недаром я поймал себя на том, что я, репетируя Хлестакова, стал играть моего щенка, жесткошерстного фокстерьера Кузю; я старался для себя найти его взгляд — он как бы все время ищет, чем бы позабавиться, что еще есть чудесного, интересного на этом свете. Для своего Хлестакова я нашел эту собачью, щенячью радость жизни, эту безудержность в срывании цветов удовольствия.
Мое представление об образе я старался последовательно воплотить в спектакле; но на первых этапах сценической жизни роли я сам еще не был свободен от мысли, что для воплощения Гоголя нужна особая манера игры, особые приемы выразительности и, не доверяя до конца драматургу, искал дополнительных средств характеристики образа, пользуясь всякого рода «подчеркивающими» деталями; иначе говоря, не вполне следовал уже цитированному здесь завету автора: «...чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет».
Когда в 1949 году Малый театр возобновил «Ревизора», я стремился очистить образ от всех излишеств, добиться лаконичности выразительных средств. Тут-то я и имел прекрасный случай убедиться, как важно доверять самому Гоголю и ничего «не играть» сверх того, что предусмотрено им. Я старался углубить роль, но так, как этого требует Гоголь, не отяжеляя игру, а облегчая, и от этого, мне кажется, поведение Хлестакова в спектакле стало более действенным, а его несуразная логика более ясной для зрителя.
Возьмем для примера второй акт, когда Хлестаков отсылает Осипа к трактирщику. Раньше мне было трудно заполнить паузу ожидания, пока Осип ходил за трактирным слугой, и, закончив короткий монолог, я делал какие-то дополнительные переходы по сцене, придумывая себе занятия, полагая, что это интереснее зрителю, чем наблюдать, как Хлестаков без всякого дела сидит у стола и ждет. А у Гоголя выразительная ремарка:
«Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се, ни то». И вот однажды я попробовал точно выполнить предложение автора. Результат не замедлил сказаться: видя, как мой герой, с трудом испуская из себя свист, переходит от одной мелодии к другой, а потом уже свистит, сам не зная что, зритель отчетливо чувствовал, что Хлестаков полностью сосредоточен на своем пустом желудке, устремление ждет обеда и с трудом сдерживается, чтоб не пуститься на кухню, подгоняя замешкавшегося слугу. Цель, таким образом, достигалась при экономии средств.
В третьем действии, знакомясь с дамами, я в прежнем спектакле выделывал какие-то невероятные балетные па, соответствовавшие, как мне казалось, представлению Хлестакова о светских приличиях. Но, переключаясь на мои танцевальные экзерсисы, зритель невольно терял линию действия, забывая о смысле происходящего на сцене. Лишь много позже я оценил юмор двух соседствующих фраз Хлестакова: «Возле вас стоять уже есть счастье; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду». Тогда я переделал эту сцену. Галантно расшаркавшись перед дамами и возглашая: «Возле вас стоять уже есть счастье»,—Хлестаков непроизвольно рушится в кресло, но, не сознавая этого, продолжает самым учтивым тоном уверять Анну Андреевну: «Впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду». Получалось не только смешно, но и характерно: полупьяный Хлестаков, отягощенный сытным и обильным завтраком, рисуется и жуирует, ревностно следуя пошлейшим образцам столичной «светской» вежливости.
И третий пример того, как Гоголь подсказывает исполнителям необходимые краски образа—ремарки второго акта.
«Хлестаков (ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом). Послушай... эй, Осип!.. (громким, но не столь решительным голосом). Ты ступай туда... (голосом вовсе не решительным, не громким, очень близким к просьбе). Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать».
Здесь все предусмотрено автором — и состояние персонажа, человека ничтожного, растерявшегося от неудач, и особенность его натуры, заставляющей его тем энергичнее требовать пищи, чем больший голод он испытывает, и трусость, сковывающая всякий его порыв. Здесь даже интонация подсказана; актеру остается лишь прислушаться к этой мудрой подсказке.
Большая работа была проделана и над речью моего героя. Когда-то я грешил в этом смысле известной подчеркнутостью — раскрашивая слова Хлестакова, боялся говорить просто, и реплики звучали нарочито. С годами, мне кажется, я добился и большей простоты и большей подчиненности речи характеру героя.
Хлестаков в полном соответствии со своим самочувствием в жизни говорит быстро, иногда «с захлебом», спеша и глотая слова (слова обгоняют мысль потому, что героя «заносит»); его интонации, несмотря на их внешнюю экспрессивность, зыбки и незакончены — не то он утверждает что-то, не то спрашивает, не то удивляется, а приятная округлость фразы превращается в щенячье повизгивание, когда Хлестаков напуган или удручен. Зато, почувствовав себя «персоной», азартно разыгрывая перед уездными жителями «чрезвычайного» чиновника из Петербурга, Хлестаков и говорить начинает важно, впрочем, в пределах своих представлений о сановитости и солидности. Так, например, он обнадеживает Добчинского относительно возможности его сыну называться так же — Добчинским. Я произносил эту фразу ровно, однотонно, без интервалов, без малейших намеков на знаки препинания: «Хорошо хорошо я об этом постараюсь я буду говорить я надеюсь все это будет сделано да да». Тщеславная сущность Хлестакова, этого раздувшегося ничтожества, выступала здесь особенно отчетливо, заставляя вспомнить известную басню Крылова относительно лягушки и вола.
Таково было направление моей работы над образом на протяжении всех лет, что я играл Хлестакова в Малом театре. И она, эта работа, не кончена.
И в знаменитом монологе Хлестакова в идеале должны быть те же простодушие и искренность, как и во всем его поведении в спектакле. Добиться того, чтобы и в монологе «ничего не играть», ничего специально не красить, всей душой доверяясь гоголевской ситуации, — такая задача стояла передо мной. Ведь Хлестаков—и врет и не врет. Фантасмагоричность, вымороченность той жизни, в которой только и возможны свиные рыла уездной обывательщины, делают допустимой и мысль о реальности чудовищного хлестаковского вранья.
Я прожил целую жизнь бок о бок с «Ревизором», играя на сцене Малого театра Хлестакова с 1938 года, а городничего — с 1952-го, и по опыту могу сказать, что Гоголь—драматург столь же трудный, сколь и неисчерпаемый. Работа над гоголевским образом никогда не может считаться завершенной вполне. Сколь бы ни играть Хлестакова, я все ощущаю в роли кладезь неиспользованных возможностей. Что же касается роли городничего, то моя работа над ней, собственно, все еще продолжается, и меня вполне устраивает, когда мне говорят товарищи по театру или зрители, что я нахожусь «на верном пути».
Моя работа над ролью Хлестакова, относящаяся ко времени постановки Волкова 1938 года, имела громадное для меня значение. Не надо забывать, что в середине 30-х годов не только я находился еще под влиянием формалистических увлечений в театральном искусстве. Проявления «мейерхольдовщины» сказывались даже и в Малом театре, где прошли «Волки и овцы» в постановке К. Хохлова—яркий пример «мейерхольдовщины», о которой я уже упоминал. В постановке Волкова имелся также ряд сцен, которые носили характер нарочито-показной «режиссерской» выдумки. К выпуску премьеры Волков совершенно правильно умерил свою фантазию. Но все же излишества еще были. Такие места были и у меня в роли. Эти «украшения» занимали иной раз слишком большое место в спектакле. Но повторяю, что в то время такие украшения и некоторые излишества воспринимались как свежий ветер в Малом театре и поддерживались частью труппы.
Для меня лично работа над Хлестаковым была важна не этими выдумками и не свежестью ряда мест в роли, которые не в меньшей степени бывали у меня в ролях мейерхольдовского театра, а прежде всего своей общей реалистической направленностью, обогатившей и оплодотворившей мое творческое сознание. В Малом театре, с которым я отныне связал свою судьбу, работать вне этой реалистической направленности с тех пор стало для меня органически немыслимо.
Первые годы моей работы в Малом театре были для меня крайне напряженными и насыщенными. Пожалуй, я в те дни не осознавал полностью того значения, которое имело для моей дальнейшей жизни поступление в Малый театр. Сам Малый театр, на мой взгляд, представлял в то время собрание «двунадесяти языков». Да и в наши дни все его творческие силы еще не совсем ассимилировались и слились в единый по стилю творческий организм.
Конечно, представления о Малом театре и путях его развития могут быть разные. Только проведя тридцать лет своей жизни в Малом театре, распознав и на практике изучив его истоки и традиции, я могу сказать, что стал иметь достаточно ясное представление о том, каким должен быть Малый театр.
Поступая в 1938 году в Малый театр, я не мог не ощущать этих «двунадесяти языков». Здесь были «старики» — старые артисты, могикане, которые бережно несли и утверждали, в силу своего таланта, традиции Малого театра, но среди них были и такие, которые невольно смешивали щепкинские традиции с безнадежной рутиной и отсталостью. Затем были добротные, крепкие актеры провинциального склада, были «коршев-ские» актеры, столичные и умные, несколько игравшие «на зрителя», были выученики МХАТ и закрывшегося к тому времени МХАТ 2-го, была молодежь и ученики школы имени Щепкина при Малом театре. Наконец, появилось несколько мейерхольдовцев, и я в том числе.
Руководством и цементированием этого разношерстного в каждой своей части талантливого актерского состава занимался, как я уже говорил, мхатовец И. Я. Судаков.
Если анализировать путь Малого театра за последние тридцать лет, то нетрудно прийти к заключению, что имели признание зрителей и вошли в историю Малого театра только те спектакли, которые отражали основные традиции и стиль этого старейшего русского театра.
Развитие советской театральной культуры требовало от Малого театра наших дней свежести и чувства современности. Поэтому «старики», привносившие в свое творчество вместе с традициями качества современного актера, жизненные наблюдения советских художников, получали признание и благодарность взыскательного советского зрителя. То же самое происходило и с «коршевской» и «провинциальной» группами. Если они отказывались от своих штампов и приемов, если они обогащали свое мастерство благородными традициями «стариков», их ждал успех. «Формалисты» (и я в том числе) также должны были задуматься о многом и многое пересмотреть, если не хотели остаться в коллективе инородным телом.
Главный режиссер И. Я. Судаков, как мне кажется, понимал сложность всей перестройки Малого театра, и поэтому в меру, не ломая и не насилуя творческие особенности каждого из актеров, упорно внедрял во все эти группы свой «символ веры», то есть основные методы «системы» К. С. Станиславского. Когда результаты этого сложного творческого процесса не выходили из рамок представления зрителя о Малом театре, когда актеры успешно принимали участие в таком процессе, когда они, таким образом, шли вперед, то такие спектакли имели неизменный успех и выражали лицо нового, современного Малого театра. Спектакли, в которых превалировала какая-либо из групп, упорно остававшаяся верной своим особенностям, несмотря подчас на свою талантливость, — такие спектакли не вливались в основное русло Малого театра.
Это можно было наблюдать и в отношении И. Я. Судакова. В тех случаях, когда на сцене Малого театра он пытался создать спектакль МХАТ, такой спектакль, как правило, не получался.
При вступлении в Малый театр я не мог предвидеть столь сложного процесса и не имел заранее обдуманного намерения работать и жить в рамках такой сложной перестройки. Но когда я поступил в Малый театр, я почувствовал радость от желания участвовать в этом процессе перестройки, а затем и удовлетворение от моего актерского роста. В конце концов, когда я стал ощущать себя современным актером и в то же время носителем традиций Малого театра, я обрел желание бороться за единое лицо Малого театра, за понимание его предназначения и за дальнейшее укрепление его путей.
Тогда я лишь видел его многоликую несобранность и, откровенно говоря, совершенно еще не думал о своей кровной заинтересованности русского актера в отыскании путей к идейной и стилистической цельности Малого театра, о торжестве в нем единого творческого языка, а также и о том, что придет время, когда мне придется бороться за свое понимание Малого театра. Тогда при всем моем трепете перед этой прославленной сценой, я видел в ней прежде всего площадку, на которой я могу показать себя таким, каковым я был на данном своем этапе. Правда, на сей раз я мечтал не только показать себя полугастрольным образом, как то было в Александрийском театре, но и успешно соревноваться в таком показе с другими актерами.
Однако, к счастью, как я уже говорил, я попал в другую творческую обстановку, не имевшую ничего общего с положением в бывшем Александрийском театре. Очень быстро некоторое наличие такого, по-видимому, свойственного мне легкомыслия уступило место художественной работе и взыскательности. Так было с Хлестаковым, затем с Загорецким в «Горе от ума», а первая годовщина моего пребывания в Малом театре ознаменовалась для меня вводом в «Лес» Островского в постановке Л. М. Прозоровского при близком содружестве с П. М. Садовским.
Я не буду останавливаться на работе над Загорецким, которая не имела особого значения среди других первых ролей в Малом театре. Лично я большого удовлетворения здесь не изведал, и она не прибавила мне ничего нового, как то было с ролью Хлестакова. Сказалось то, что мне не было уделено достаточно внимания со стороны режиссуры (И. Я. Судаков и П. М. Садовский). Сам же я не сумел проявить инициативу во второй своей работе и скромно следовал указаниям режиссеров. Кроме двух, трех удачных, занятных интонаций и «скольжения по паркету», которое я проделывал довольно искусно, я как актер ничего не внес в этот спектакль.
Гораздо серьезнее оказалась работа над Аркашкой. Я охотно пошел за режиссером Л. М. Прозоровским, который стремился «очеловечить» моего мейерхольдовского Аркашку и пытался медленно, но верно убедить меня отказаться от многих внешних приемов и трюков в роли, заменив внешние театральные приемы углубленностью и жизненностью образа.
Пров Михайлович Садовский, который, как я уже рассказывал, весьма скептически отнесся как к моему вступлению в Малый театр, так и к успеху в Хлестакове, вдруг очень сердечно стал относиться ко мне на репетициях «Леса».
По-видимому, он вполне принимал меня как партнера, так как я не мешал ему играть и находил с ним общий сценический язык.
Я был счастлив и гордился тем, что впоследствии он мне сказал, что я лучший Счастливцев, с каким ему приходилось играть. По его словам, он не ожидал, что я заговорю с ним на репетиции тем простым языком неудачливого провинциального актера, которым я с ним заговорил, и что он увидит в моих глазах ту человеческую горечь, которая заразит его как партнера.
В дальнейшем Пров Михайлович полюбил меня, как мне кажется, как актера, сошел
Дата публикации: 28.03.2006

«РЕВИЗОР» Н.В. ГОГОЛЯ НА СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА
Из книги Игоря Ильинского «Сам о себе»
Постановка 1938 года…
В Малый театр я был приглашен на довольно скромное положение. Оклад мне был назначен меньше, чем тот, на который я имел бы право рассчитывать. Но руководители театра, как я уже говорил, отнеслись к моему поступлению тепло. Само приглашение могло уже расцениваться как хорошее отношение. Все же настороженность и неуверенность, как я проявлю себя в этом театре, были, конечно, налицо. Мне как бы говорили: мы вам верим, приглашаем, испытаем. Пока довольствуйтесь скромным окладом: идя на этот оклад, вы докажете любовь и уважение к тому театру, в который вы вступаете, а также серьезность ваших намерений и готовность держать в этом театре ряд испытаний. А испытания впереди действительно были серьезные, большие и достаточно увлекательные.
Когда я шел на переговоры к И. Я. Судакову, я уже знал, что в Малом театре готовится новая постановка «Ревизора» режиссером Л. А. Волковым. У меня была затаенная мечта — сыграть Хлестакова. Мне казалось это маловероятным, так как и у Мейерхольда я в свое время не играл этой роли. «Сейчас мне уже тридцать семь лет, —думал я. —Я никак не могу считаться худеньким или щупленьким, что требуется для Хлестакова». Но все же, выходя из дому, чтобы идти в Малый театр для разговора с Судаковым, я еще раз оглядел себя в зеркале, подумав: «А что? Я бы, пожалуй, с натяжкой мог сыграть Хлестакова». Но решил не говорить об этом при поступлении в театр. Каково же было мое удивление, когда Илья Яковлевич сразу же спросил меня, как я отнесусь к тому, чтобы играть Хлестакова. «Я боялся сказать вам об этом, но меня эта роль крайне увлекает». — «Ну, так вот. Первая роль — Хлестаков, затем вы введетесь в «Лес», сыграете Аркашку, а дальше уже разберемся». Я радовался, что получаю реальную возможность и надежду успешно доказать свою пригодность Малому театру, так как роли мне предоставлялись великолепные. Правда, тут мне пришлось несколько умерить мою радость. «Ревизор» уже репетировался на сцене, и два актера были назначены на роль Хлестакова. Поэтому мне заранее пришлось пойти на то, что я буду играть роль Хлестакова только недели через две, а то и через месяц после премьеры. Судаков и режиссер Волков не хотели обижать прежде всего основного исполнителя роли Хлестакова В. Мейера, который уже давно репетировал эту роль. Они были не очень им довольны в этой роли, но и не считали настолько плохим его исполнение, чтобы идти на новый риск и заменить его мною. Разумеется, мне пришлось удовольствоваться таким решением, тем более что этим удлинялся срок моей работы над трудной ролью.
Встречен я был в театре по-разному. Пров Михайлович Садовский, недовольный назначением Судакова, высказался таким образом: «Ну теперь, после поступления Игоря Ильинского, ждите приглашения в Малый театр Карандаша. Придет скоро и его очередь». Встретила меня радостно только молодежь Малого театра. Большинство артистов и режиссеров, как старейших, так и «середняков», отнеслись к моему приходу или так же саркастически, как Пров Михайлович, или, в лучшем случае, снисходительно-недоверчиво.
Режиссер спектакля «Ревизор» Л. А. Волков принадлежал к последней группе. Он и в Первой студии МХАТ, где мы играли вместе в «Укрощении строптивой», как мне казалось, не очень меня долюбливал. Здесь, в Малом театре, на первой же нашей беседе, вдвоем, я почувствовал такое же к себе отношение.
Я совершенно не знал его как режиссера и поэтому отвечал той же настороженностью. Но после каждой нашей встречи мы становились ближе и ближе друг другу. Я не пытался сдерживать его педагогические приемы, его критические и подчас колкие замечания в мой адрес. А он беспощадно вскрывал формальные интонации, внешние приемчики, игру «под обаяние» и ставил передо мной более углубленные задачи, которые заключались как в раскрытии сути Хлестакова, его зерна, так и его психологии, его образа мыслей и действий. Он терпеливо добивался, чтобы этот образ мыслей и действий стал моим собственным и чтобы я не показывал бы Хлестакова, не представлял бы Хлестакова, а был бы и жил Ильинским — Хлестаковым на сцене. Как это ни странным покажется, но, несмотря на то, что я работал в двух пьесах в Первой студии МХАТ, несмотря на то, что в течение двадцати лет моей работы я встречался со многими режиссерами Художественного театра и в какой-то степени знал «систему» К.С. Станиславского, Л.А. Волков впервые на практике заставил меня полюбить и органически впитать многие гениальные воспитательные приемы и положения «системы» Константина Сергеевича.
Мне было легко работать с Волковым, так как он был учеником Е.Б. Вахтангова, который привил ему и любовь к театральности и помог творчески освоить «систему» Константина Сергеевича, не делая из нее догмы. До той поры почти всякое знакомство с «системой» Константина Сергеевича, кроме разве азбучных истин, меня сковывало в работе. Грубо говоря, если мне говорили: «Переживайте!» — то я не мог переживать, если мне говорили: «Идите от себя, делайте так, как если бы это с вами случилось, а в дальнейшем физически действуйте, не думайте о словах», — то у меня получались просто какие-то несуразности и я становился творчески мертв и скован.
Впервые в работе с Л. А. Волковым над Хлестаковым я ощутил значение сквозного действия. Я, конечно, знал, что это такое. Но всякое определение сквозного действия и поиски его до сей поры творчески утомляли меня, а, определенное разумом, это сквозное действие, пожалуй, только мешало свободно чувствовать себя и развиваться мне как актеру в роли. В работе над Хлестаковым я вдруг почувствовал, что сквозное действие подхлестывает и побуждает меня к правильному самочувствию, к чувству удовлетворения актерскими находками, которые нанизывались на данное сквозное действие. А сквозное действие для Хлестакова было: бездумно срывать цветы удовольствия, попадающиеся на его жизненном пути. Я также практически почувствовал, что это сквозное действие помогает актеру в роли Хлестакова распознать главное, что определяет его поведение и отношение к окружающему и помогает актеру двигаться в роли вперед, не задерживаясь, не излишне располагаясь и разыгрываясь по мелочам, не отдавая слишком большого места украшениям, которые без ощущения сквозного действия практически отяжелили бы роль.
Л. А. Волков имел вкус к смелой и острой актерской игре, он очень скоро полюбил во мне мои возможности — комедийный темперамент, органическую любовь к юмору а понимание его. Он, как мне казалось, с большим удовольствием работал со мной, он видел, что я искренне радуюсь вместе с ним нашим общим находкам, а главное, что мы говорим с ним на одном языке и что у нас с ним есть общность вкусов. Как режиссера и педагога его не могло не радовать и то, что, несмотря на мою «известность» и авторитет комедийного актера, я всегда без какой-либо амбиции шел за ним по пути большей взыскательности к самому себе, правильно оценивая его режиссерские замыслы и доверяя ему на пути их осуществления и воплощения. Перед тем как перейти непосредственно к рассказу о работе над образом Хлестакова, я бы хотел коснуться некоторых важных общих вопросов поведения актера на сцене, о которых мне пришлось задуматься в процессе работы над ролью Хлестакова.
Раньше, играя одно или другое место в роли, произнося слова монолога, я бывал рабом найденного и установленного ритма, а подчас и внешнего рисунка роли. Если я не чувствовал себя, как говорится, в своей тарелке в каком-либо месте роли, то я переходил к другому куску, торопясь покончить с местом, которое не было по-настоящему и глубоко зацеплено и вспахано актерски. Исполнение роли, таким образом, катилось по поверхности, становилось поверхностным, внешним. Работая над Хлестаковым, я пришел к выводу, что актер должен так крепко «сидеть в седле» роли, так постоянно ощущать свой образ в сквозном действии, чтобы мочь в любом месте роли как бы остановиться и продолжать жить в роли без слов и без использования каких-либо средств внешнего выражения. Если актер выдерживает такую заданную самому себе проверку в любом месте монолога или диалога, то он может быть уверен, что нашел правильный внутренний ритм роли. Если такие остановки не мешают его самочувствию, не выбивают его из этого самочувствия, значит, он живет в роли достаточно глубоко и правдиво.
Очень важен стал для меня также вопрос общения с партнерами и связи с ними. Я принадлежал, да и теперь принадлежу, к очень точным актерам. Мне бывает иногда очень дорог найденный кусок в роли, найденное удачное разрешение дуэтной сцены, ритм этой сцены, точная взаимосвязь и взаимопомощь актеров. Хорошо если партнер или партнеры понимают так же, как и ты, данную сцену, сцеплены с тобой живым общением, чувствуют правильно общий, а также твой и свой ритмы в отдельности. Хорошо, если они, по образному выражению О. О. Садовской, «вяжут общее вязание: я тебе петельку, а ты мне крючочек». Хорошо, если они говорят с тобой и общаются на одном сценическом языке. В спектаклях Мейерхольда такой общности помогал железный режиссерский рисунок, железное построение сцены, но и то часто это построение нарушалось и разбалтывалось неверным исполнением, неверной внутренней жизнью, что бывало в тех случаях, когда актеры разыгрывались и вольно или невольно видоизменяли первоначальное построение сцены.
В Малом театре для актеров-мастеров существовала принципиально большая свобода. Поэтому мне, вновь пришедшему актеру, было трудно уславливаться с партнерами. Если не вмешивался режиссер, то мне как актеру неудобно было просить что-либо у актеров, особенно старшего поколения. Такая просьба могла восприниматься как мое замечание, пусть деликатное, но замечание. Если же и приходилось обращаться с просьбами, вроде: поактивнее в таком-то месте ко мне обратиться, при этих словах взять мою руку и пр. и пр., то актеры, особенно старшего поколения, крайне неохотно шли на такие просьбы. В тех же случаях, когда они проявляли неожиданно свою активность, то есть делали что-либо такое, что было, на мой взгляд, излишне, и «брали меня за руку» тогда, когда мне это было не нужно или мешало игре, то мне было еще труднее попросить этого не делать. Повторяю, что я привык к режиссерской дисциплине и точности рисунка, поэтому когда я встречался с какой-либо неточностью партнера, то мне это настолько мешало, что я терял настроение и даже самообладание.
Как-то я заговорил о таких случаях с Л. А. Волковым. Само собой разумеется, что он также был расстроен теми фактами, когда ломался и комкался задуманный рисунок или ритм сцены. Но он посоветовал мне в таких случаях воспринимать партнера таким, какой он есть на самом деле, чувствовать его реально, что бы он ни делал. Он предлагал в таких случаях менять свою игру соответственно поведению партнера, а не жить на сцене отдельно. В дальнейшем я окончательно осознал, что поведение и действия партнера не могут не влиять на актера. Но актер должен для этого глубоко «сидеть в седле» роли, убежденно знать, чего он хочет в данный момент роли, и тогда при таком положении любое поведение партнера не может сбить актера с его действия. Я считаю, что актер, владеющий подобной техникой, техникой свободной связи с партнером, достигает уже высоких ступеней мастерства.
Актер в своей игре должен опираться и отталкиваться от реального поведения партнера. Связь с партнером дает очень большие результаты. Так, в сцене с Растаковским мне казалось, что сцена нестерпимо тянется и что мне нечего делать и я выключаюсь из действия. Но когда я стал надлежащим образом, то есть тяготясь рассказом Растаковского, заставлять себя — Хлестакова внимательно слушать его, то однажды мое слушание было принято аплодисментами.
Работа над Хлестаковым, как всякая работа, которая является для актера новым этапом в его творчестве, была для меня бесконечно радостна и вместе с тем бесконечно трудна.
Почему так трудно играть Гоголя, ярчайшего театрального писателя, умеющего расцветить, сделать зримым, конкретным каждый образ, вплоть до эпизодических? Мне кажется—да не упрекнут меня в парадоксальности суждения, — что причина именно в этой яркости. Пьесы Гоголя создают непреодолимую иллюзию преувеличения, гиперболизма сценических характеров. Изображаемые Гоголем события развертываются перед нами как исключительные, чрезвычайные; его герои ведут себя неожиданно, резко, почти фантастично, их образ мысли всегда причудлив, а свойства выражены гиперболически. «Прошедшего житья подлейшие черты» — русская действительность времени николаевского царствования — предстают в этих пьесах как бы в сгущении, в концентрате.
Эта особая природа гоголевского реализма в первую очередь поражает воображение как актера, так и режиссера. Вот тогда-то и возникает тенденция «заострить» Гоголя, найти особую форму сценического поведения персонажа, которая отвечала бы стилю писателя и характеру его сатиры. Но в том-то и дело, что эту форму никак нельзя найти самостоятельно, как ни существенно понятие формы для Гоголя. Сколько ни «заостряли» Гоголя, а такие попытки делались, получался либо дурной водевиль, либо условный гротеск, либо фарс — и тогда уходила глубокая мысль, ускользала жизненная сложность образов, спектакль становился плоскостным, однолинейным.
Я не могу не сказать, что «заострять» Гоголя—значит маслить масляное, схватывать, перефразируя его же собственное выражение, — одно только платье, а не душу роли. Вся моя многолетняя практика убеждает меня в том, что Гоголь «открывается» только тем актерам, которые играют его реалистически, без подчеркивания, целиком отдаваясь предлагаемым обстоятельствам пьесы и роли.
Чем больше я вчитываюсь в комедии Гоголя, тем больше утверждаюсь в мысли, что, играя его произведения, нужно лишь строго следовать его ремаркам и «предуведомлениям», его советам для тех, «которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». Гоголь свято верил, что «драма живет только на сцене. Без нее она, как душа без тела». Он очень заботился о том, чтобы его пьесы были сыграны реалистически, все время\\\\\\\' пытался, как сказали бы мы сегодня, режиссировать, подсказывать актеру пути раскрытия характеров. И потому в его пьесах все, что требуется актеру, написано, и потому там все, без исключения, важно, начиная от выразительнейших гоголевских ремарок и кончая знаками препинания, последовательностью слов в фразе, каждым многоточием, каждой паузой.
Словом, нужно лишь правильно прочесть Гоголя — но какая бездна творческих барьеров заключается в этом «лишь»! Гоголь пишет: «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного... даже в последних ролях... Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той сурьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии. Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшею задачею своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их заботы».
Вот это указание Гоголя я считаю важнейшим. Гоголь учит актера ухватывать жизненную логику каждого персонажа, требует от исполнителя умения до конца поверить в ситуацию пьесы—пусть особую, «чрезвычайную» ситуацию, требует полнейшей искренности и простоты на сцене. Гоголь требует от актера «правды и веры», то есть как раз того, чего требует от актера и Станиславский,
Станиславский сказал однажды про героев водевиля, что это самые обыкновенные люди, но с ними на каждом шагу происходят необычайные происшествия, и они не берут под сомнение подлинность этих происшествий—вот их главнейшее свойство. В наивности и доверчивости персонажей, населяющих старый водевиль, заключается тайна его обаяния, внутренней правды, в нем сокрытой. «Ревизор» Гоголя вырос из водевильной традиции и сохранил это ее свойство. Герои Гоголя алогичны только на первый взгляд; на самом же деле они мыслят и действуют с глубокой последовательностью; и даже в полнейшей, казалось бы, алогичности Хлестакова, человека, как Гоголь говорит, приглуповатого и без царя в голове, заключена особого рода логика, которую актер должен уметь раскрыть.
Вот эти-то принципы драматургии Гоголя чрезвычайно близки моим собственным взглядам на природу комедии, на задачи реалистического актера в ней. Вопреки своей давней репутации «чистого» комика, я считаю и считал всегда, что комедия—дело серьезное. Она жестоко мстит каждому, кто вздумает выкидывать в комической роли коленца и «антраша», кто задастся целью смешить, «обличать» нарочито, выставлять в глупом виде героя, не проникаясь его чувствами и мыслями, не следуя тем внутренним импульсам, которые определяют его поведение в пьесе. Без «правды» и «веры» комедию не сыграть. «Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет», — замечает Гоголь по поводу Хлестакова. Думаю, что мы имеем право толковать эту формулу расширительно, применяя ее ко всем остальным ролям знаменитой гоголевской комедии.
И если простота и чистосердечие присутствуют, если они сцементированы к тому же яростным, неудержимым, страстным темпераментом, присущим всем, без исключения, героям Гоголя, то смешное роли выявится само собой, обнаружит себя в серии ярких приспособлений, органичных для данной комедии, но это будет уже реалистический образ, а не гротеск, острота формы, а не преувеличение, раздувание известного социального явления. Последнее так же вредно у Гоголя, как и в советской сатирической пьесе.
Когда я приступил к работе над Хлестаковым, мы вместе с постановщиком спектакля Волковым много думали о «зерне» этого сложного образа. С тех пор как бы ни менялся образ в своих деталях, мое отношение к нему осталось неизменным. Мне представляется, что в паразитизме Хлестакова, в той «легкости необыкновенной», с какой он умеет потребительски использовать каждую жизненную ситуацию, заключена глубочайшая типичность.
Хлестаковщина — это оборотная сторона общественной системы, основанной на взятках, казнокрадстве и чинопочитании, ее неизбежное следствие. Это подчеркивает и Гоголь, замечая: «Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми... И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым».
Хлестаков безлик, но все его представления и взгляды сформированы тем самым строем, который порождает городничих и держиморд. Вот почему в чрезвычайных обстоятельствах пьесы он ведет себя в точности так же, как мог бы вести себя настоящий ревизор: распекает, берет взятки, «пускает пыль в глаза» окружающим, все время кого-то копируя—то важного чиновника, каких видел в Петербурге, то богатого и хлебосольного барина, то ловкого светского франта, то государственного человека.
Так в безликости Хлестакова, как в огромном зеркале, отображаются многие явления породившей его эпохи. И потому понятна ошибка чиновников, принявших «елистратишку», «фитюльку» за государственного человека. В том-то и дело, что Хлестаков одновременно и пустяк и «столичная штучка». Такова сложная двойственность этой «порхающей» роли.
Как истый потребитель, Хлестаков никогда не задумывается о происхождении явлений, не постигает их концы и начала. Для этого он слишком элементарен. Мотыльком порхает он по жизни, нимало не беспокоясь о том, что с ним будет завтра, и решительно не помня того, что с ним было вчера. Для него существуют только сегодняшние, непосредственные побуждения самого примитивного порядка: если он голоден, он уже не может сосредоточиться ни на чем, кроме своего пустого желудка; если он видит женщину, он тотчас же начинает за ней ухаживать по всем правилам пошлого светского романа; если ему угрожает опасность, он старается ее избежать—механически выпрыгнуть в окно, спрятаться за вешалку с платьями, отложить неприятное дело на завтра и больше уже не возвращаться к нему.
Мне кажется очень глубоким замечание Гоголя: «Темы для разговоров ему дают выведывающие. Они сами как бы кладут ему все в рот и создают разговор». А он, Хлестаков, схватывает то одну, то другую тему и скользит себе по поверхности жизни, подталкиваемый первичными паразитическими импульсами, норовя лишь вкусно пообедать, приударить за купеческой дочкой, перекинуться в картишки, а при случае разыграть из себя персону. Мне всегда представлялся Хлестаков в виде суматошливого, глупого, визгливого щенка. Недаром я поймал себя на том, что я, репетируя Хлестакова, стал играть моего щенка, жесткошерстного фокстерьера Кузю; я старался для себя найти его взгляд — он как бы все время ищет, чем бы позабавиться, что еще есть чудесного, интересного на этом свете. Для своего Хлестакова я нашел эту собачью, щенячью радость жизни, эту безудержность в срывании цветов удовольствия.
Мое представление об образе я старался последовательно воплотить в спектакле; но на первых этапах сценической жизни роли я сам еще не был свободен от мысли, что для воплощения Гоголя нужна особая манера игры, особые приемы выразительности и, не доверяя до конца драматургу, искал дополнительных средств характеристики образа, пользуясь всякого рода «подчеркивающими» деталями; иначе говоря, не вполне следовал уже цитированному здесь завету автора: «...чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет».
Когда в 1949 году Малый театр возобновил «Ревизора», я стремился очистить образ от всех излишеств, добиться лаконичности выразительных средств. Тут-то я и имел прекрасный случай убедиться, как важно доверять самому Гоголю и ничего «не играть» сверх того, что предусмотрено им. Я старался углубить роль, но так, как этого требует Гоголь, не отяжеляя игру, а облегчая, и от этого, мне кажется, поведение Хлестакова в спектакле стало более действенным, а его несуразная логика более ясной для зрителя.
Возьмем для примера второй акт, когда Хлестаков отсылает Осипа к трактирщику. Раньше мне было трудно заполнить паузу ожидания, пока Осип ходил за трактирным слугой, и, закончив короткий монолог, я делал какие-то дополнительные переходы по сцене, придумывая себе занятия, полагая, что это интереснее зрителю, чем наблюдать, как Хлестаков без всякого дела сидит у стола и ждет. А у Гоголя выразительная ремарка:
«Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се, ни то». И вот однажды я попробовал точно выполнить предложение автора. Результат не замедлил сказаться: видя, как мой герой, с трудом испуская из себя свист, переходит от одной мелодии к другой, а потом уже свистит, сам не зная что, зритель отчетливо чувствовал, что Хлестаков полностью сосредоточен на своем пустом желудке, устремление ждет обеда и с трудом сдерживается, чтоб не пуститься на кухню, подгоняя замешкавшегося слугу. Цель, таким образом, достигалась при экономии средств.
В третьем действии, знакомясь с дамами, я в прежнем спектакле выделывал какие-то невероятные балетные па, соответствовавшие, как мне казалось, представлению Хлестакова о светских приличиях. Но, переключаясь на мои танцевальные экзерсисы, зритель невольно терял линию действия, забывая о смысле происходящего на сцене. Лишь много позже я оценил юмор двух соседствующих фраз Хлестакова: «Возле вас стоять уже есть счастье; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду». Тогда я переделал эту сцену. Галантно расшаркавшись перед дамами и возглашая: «Возле вас стоять уже есть счастье»,—Хлестаков непроизвольно рушится в кресло, но, не сознавая этого, продолжает самым учтивым тоном уверять Анну Андреевну: «Впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду». Получалось не только смешно, но и характерно: полупьяный Хлестаков, отягощенный сытным и обильным завтраком, рисуется и жуирует, ревностно следуя пошлейшим образцам столичной «светской» вежливости.
И третий пример того, как Гоголь подсказывает исполнителям необходимые краски образа—ремарки второго акта.
«Хлестаков (ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом). Послушай... эй, Осип!.. (громким, но не столь решительным голосом). Ты ступай туда... (голосом вовсе не решительным, не громким, очень близким к просьбе). Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать».
Здесь все предусмотрено автором — и состояние персонажа, человека ничтожного, растерявшегося от неудач, и особенность его натуры, заставляющей его тем энергичнее требовать пищи, чем больший голод он испытывает, и трусость, сковывающая всякий его порыв. Здесь даже интонация подсказана; актеру остается лишь прислушаться к этой мудрой подсказке.
Большая работа была проделана и над речью моего героя. Когда-то я грешил в этом смысле известной подчеркнутостью — раскрашивая слова Хлестакова, боялся говорить просто, и реплики звучали нарочито. С годами, мне кажется, я добился и большей простоты и большей подчиненности речи характеру героя.
Хлестаков в полном соответствии со своим самочувствием в жизни говорит быстро, иногда «с захлебом», спеша и глотая слова (слова обгоняют мысль потому, что героя «заносит»); его интонации, несмотря на их внешнюю экспрессивность, зыбки и незакончены — не то он утверждает что-то, не то спрашивает, не то удивляется, а приятная округлость фразы превращается в щенячье повизгивание, когда Хлестаков напуган или удручен. Зато, почувствовав себя «персоной», азартно разыгрывая перед уездными жителями «чрезвычайного» чиновника из Петербурга, Хлестаков и говорить начинает важно, впрочем, в пределах своих представлений о сановитости и солидности. Так, например, он обнадеживает Добчинского относительно возможности его сыну называться так же — Добчинским. Я произносил эту фразу ровно, однотонно, без интервалов, без малейших намеков на знаки препинания: «Хорошо хорошо я об этом постараюсь я буду говорить я надеюсь все это будет сделано да да». Тщеславная сущность Хлестакова, этого раздувшегося ничтожества, выступала здесь особенно отчетливо, заставляя вспомнить известную басню Крылова относительно лягушки и вола.
Таково было направление моей работы над образом на протяжении всех лет, что я играл Хлестакова в Малом театре. И она, эта работа, не кончена.
И в знаменитом монологе Хлестакова в идеале должны быть те же простодушие и искренность, как и во всем его поведении в спектакле. Добиться того, чтобы и в монологе «ничего не играть», ничего специально не красить, всей душой доверяясь гоголевской ситуации, — такая задача стояла передо мной. Ведь Хлестаков—и врет и не врет. Фантасмагоричность, вымороченность той жизни, в которой только и возможны свиные рыла уездной обывательщины, делают допустимой и мысль о реальности чудовищного хлестаковского вранья.
Я прожил целую жизнь бок о бок с «Ревизором», играя на сцене Малого театра Хлестакова с 1938 года, а городничего — с 1952-го, и по опыту могу сказать, что Гоголь—драматург столь же трудный, сколь и неисчерпаемый. Работа над гоголевским образом никогда не может считаться завершенной вполне. Сколь бы ни играть Хлестакова, я все ощущаю в роли кладезь неиспользованных возможностей. Что же касается роли городничего, то моя работа над ней, собственно, все еще продолжается, и меня вполне устраивает, когда мне говорят товарищи по театру или зрители, что я нахожусь «на верном пути».
Моя работа над ролью Хлестакова, относящаяся ко времени постановки Волкова 1938 года, имела громадное для меня значение. Не надо забывать, что в середине 30-х годов не только я находился еще под влиянием формалистических увлечений в театральном искусстве. Проявления «мейерхольдовщины» сказывались даже и в Малом театре, где прошли «Волки и овцы» в постановке К. Хохлова—яркий пример «мейерхольдовщины», о которой я уже упоминал. В постановке Волкова имелся также ряд сцен, которые носили характер нарочито-показной «режиссерской» выдумки. К выпуску премьеры Волков совершенно правильно умерил свою фантазию. Но все же излишества еще были. Такие места были и у меня в роли. Эти «украшения» занимали иной раз слишком большое место в спектакле. Но повторяю, что в то время такие украшения и некоторые излишества воспринимались как свежий ветер в Малом театре и поддерживались частью труппы.
Для меня лично работа над Хлестаковым была важна не этими выдумками и не свежестью ряда мест в роли, которые не в меньшей степени бывали у меня в ролях мейерхольдовского театра, а прежде всего своей общей реалистической направленностью, обогатившей и оплодотворившей мое творческое сознание. В Малом театре, с которым я отныне связал свою судьбу, работать вне этой реалистической направленности с тех пор стало для меня органически немыслимо.
Первые годы моей работы в Малом театре были для меня крайне напряженными и насыщенными. Пожалуй, я в те дни не осознавал полностью того значения, которое имело для моей дальнейшей жизни поступление в Малый театр. Сам Малый театр, на мой взгляд, представлял в то время собрание «двунадесяти языков». Да и в наши дни все его творческие силы еще не совсем ассимилировались и слились в единый по стилю творческий организм.
Конечно, представления о Малом театре и путях его развития могут быть разные. Только проведя тридцать лет своей жизни в Малом театре, распознав и на практике изучив его истоки и традиции, я могу сказать, что стал иметь достаточно ясное представление о том, каким должен быть Малый театр.
Поступая в 1938 году в Малый театр, я не мог не ощущать этих «двунадесяти языков». Здесь были «старики» — старые артисты, могикане, которые бережно несли и утверждали, в силу своего таланта, традиции Малого театра, но среди них были и такие, которые невольно смешивали щепкинские традиции с безнадежной рутиной и отсталостью. Затем были добротные, крепкие актеры провинциального склада, были «коршев-ские» актеры, столичные и умные, несколько игравшие «на зрителя», были выученики МХАТ и закрывшегося к тому времени МХАТ 2-го, была молодежь и ученики школы имени Щепкина при Малом театре. Наконец, появилось несколько мейерхольдовцев, и я в том числе.
Руководством и цементированием этого разношерстного в каждой своей части талантливого актерского состава занимался, как я уже говорил, мхатовец И. Я. Судаков.
Если анализировать путь Малого театра за последние тридцать лет, то нетрудно прийти к заключению, что имели признание зрителей и вошли в историю Малого театра только те спектакли, которые отражали основные традиции и стиль этого старейшего русского театра.
Развитие советской театральной культуры требовало от Малого театра наших дней свежести и чувства современности. Поэтому «старики», привносившие в свое творчество вместе с традициями качества современного актера, жизненные наблюдения советских художников, получали признание и благодарность взыскательного советского зрителя. То же самое происходило и с «коршевской» и «провинциальной» группами. Если они отказывались от своих штампов и приемов, если они обогащали свое мастерство благородными традициями «стариков», их ждал успех. «Формалисты» (и я в том числе) также должны были задуматься о многом и многое пересмотреть, если не хотели остаться в коллективе инородным телом.
Главный режиссер И. Я. Судаков, как мне кажется, понимал сложность всей перестройки Малого театра, и поэтому в меру, не ломая и не насилуя творческие особенности каждого из актеров, упорно внедрял во все эти группы свой «символ веры», то есть основные методы «системы» К. С. Станиславского. Когда результаты этого сложного творческого процесса не выходили из рамок представления зрителя о Малом театре, когда актеры успешно принимали участие в таком процессе, когда они, таким образом, шли вперед, то такие спектакли имели неизменный успех и выражали лицо нового, современного Малого театра. Спектакли, в которых превалировала какая-либо из групп, упорно остававшаяся верной своим особенностям, несмотря подчас на свою талантливость, — такие спектакли не вливались в основное русло Малого театра.
Это можно было наблюдать и в отношении И. Я. Судакова. В тех случаях, когда на сцене Малого театра он пытался создать спектакль МХАТ, такой спектакль, как правило, не получался.
При вступлении в Малый театр я не мог предвидеть столь сложного процесса и не имел заранее обдуманного намерения работать и жить в рамках такой сложной перестройки. Но когда я поступил в Малый театр, я почувствовал радость от желания участвовать в этом процессе перестройки, а затем и удовлетворение от моего актерского роста. В конце концов, когда я стал ощущать себя современным актером и в то же время носителем традиций Малого театра, я обрел желание бороться за единое лицо Малого театра, за понимание его предназначения и за дальнейшее укрепление его путей.
Тогда я лишь видел его многоликую несобранность и, откровенно говоря, совершенно еще не думал о своей кровной заинтересованности русского актера в отыскании путей к идейной и стилистической цельности Малого театра, о торжестве в нем единого творческого языка, а также и о том, что придет время, когда мне придется бороться за свое понимание Малого театра. Тогда при всем моем трепете перед этой прославленной сценой, я видел в ней прежде всего площадку, на которой я могу показать себя таким, каковым я был на данном своем этапе. Правда, на сей раз я мечтал не только показать себя полугастрольным образом, как то было в Александрийском театре, но и успешно соревноваться в таком показе с другими актерами.
Однако, к счастью, как я уже говорил, я попал в другую творческую обстановку, не имевшую ничего общего с положением в бывшем Александрийском театре. Очень быстро некоторое наличие такого, по-видимому, свойственного мне легкомыслия уступило место художественной работе и взыскательности. Так было с Хлестаковым, затем с Загорецким в «Горе от ума», а первая годовщина моего пребывания в Малом театре ознаменовалась для меня вводом в «Лес» Островского в постановке Л. М. Прозоровского при близком содружестве с П. М. Садовским.
Я не буду останавливаться на работе над Загорецким, которая не имела особого значения среди других первых ролей в Малом театре. Лично я большого удовлетворения здесь не изведал, и она не прибавила мне ничего нового, как то было с ролью Хлестакова. Сказалось то, что мне не было уделено достаточно внимания со стороны режиссуры (И. Я. Судаков и П. М. Садовский). Сам же я не сумел проявить инициативу во второй своей работе и скромно следовал указаниям режиссеров. Кроме двух, трех удачных, занятных интонаций и «скольжения по паркету», которое я проделывал довольно искусно, я как актер ничего не внес в этот спектакль.
Гораздо серьезнее оказалась работа над Аркашкой. Я охотно пошел за режиссером Л. М. Прозоровским, который стремился «очеловечить» моего мейерхольдовского Аркашку и пытался медленно, но верно убедить меня отказаться от многих внешних приемов и трюков в роли, заменив внешние театральные приемы углубленностью и жизненностью образа.
Пров Михайлович Садовский, который, как я уже рассказывал, весьма скептически отнесся как к моему вступлению в Малый театр, так и к успеху в Хлестакове, вдруг очень сердечно стал относиться ко мне на репетициях «Леса».
По-видимому, он вполне принимал меня как партнера, так как я не мешал ему играть и находил с ним общий сценический язык.
Я был счастлив и гордился тем, что впоследствии он мне сказал, что я лучший Счастливцев, с каким ему приходилось играть. По его словам, он не ожидал, что я заговорю с ним на репетиции тем простым языком неудачливого провинциального актера, которым я с ним заговорил, и что он увидит в моих глазах ту человеческую горечь, которая заразит его как партнера.
В дальнейшем Пров Михайлович полюбил меня, как мне кажется, как актера, сошел
Из книги Игоря Ильинского «Сам о себе»
Постановка 1938 года…
В Малый театр я был приглашен на довольно скромное положение. Оклад мне был назначен меньше, чем тот, на который я имел бы право рассчитывать. Но руководители театра, как я уже говорил, отнеслись к моему поступлению тепло. Само приглашение могло уже расцениваться как хорошее отношение. Все же настороженность и неуверенность, как я проявлю себя в этом театре, были, конечно, налицо. Мне как бы говорили: мы вам верим, приглашаем, испытаем. Пока довольствуйтесь скромным окладом: идя на этот оклад, вы докажете любовь и уважение к тому театру, в который вы вступаете, а также серьезность ваших намерений и готовность держать в этом театре ряд испытаний. А испытания впереди действительно были серьезные, большие и достаточно увлекательные.
Когда я шел на переговоры к И. Я. Судакову, я уже знал, что в Малом театре готовится новая постановка «Ревизора» режиссером Л. А. Волковым. У меня была затаенная мечта — сыграть Хлестакова. Мне казалось это маловероятным, так как и у Мейерхольда я в свое время не играл этой роли. «Сейчас мне уже тридцать семь лет, —думал я. —Я никак не могу считаться худеньким или щупленьким, что требуется для Хлестакова». Но все же, выходя из дому, чтобы идти в Малый театр для разговора с Судаковым, я еще раз оглядел себя в зеркале, подумав: «А что? Я бы, пожалуй, с натяжкой мог сыграть Хлестакова». Но решил не говорить об этом при поступлении в театр. Каково же было мое удивление, когда Илья Яковлевич сразу же спросил меня, как я отнесусь к тому, чтобы играть Хлестакова. «Я боялся сказать вам об этом, но меня эта роль крайне увлекает». — «Ну, так вот. Первая роль — Хлестаков, затем вы введетесь в «Лес», сыграете Аркашку, а дальше уже разберемся». Я радовался, что получаю реальную возможность и надежду успешно доказать свою пригодность Малому театру, так как роли мне предоставлялись великолепные. Правда, тут мне пришлось несколько умерить мою радость. «Ревизор» уже репетировался на сцене, и два актера были назначены на роль Хлестакова. Поэтому мне заранее пришлось пойти на то, что я буду играть роль Хлестакова только недели через две, а то и через месяц после премьеры. Судаков и режиссер Волков не хотели обижать прежде всего основного исполнителя роли Хлестакова В. Мейера, который уже давно репетировал эту роль. Они были не очень им довольны в этой роли, но и не считали настолько плохим его исполнение, чтобы идти на новый риск и заменить его мною. Разумеется, мне пришлось удовольствоваться таким решением, тем более что этим удлинялся срок моей работы над трудной ролью.
Встречен я был в театре по-разному. Пров Михайлович Садовский, недовольный назначением Судакова, высказался таким образом: «Ну теперь, после поступления Игоря Ильинского, ждите приглашения в Малый театр Карандаша. Придет скоро и его очередь». Встретила меня радостно только молодежь Малого театра. Большинство артистов и режиссеров, как старейших, так и «середняков», отнеслись к моему приходу или так же саркастически, как Пров Михайлович, или, в лучшем случае, снисходительно-недоверчиво.
Режиссер спектакля «Ревизор» Л. А. Волков принадлежал к последней группе. Он и в Первой студии МХАТ, где мы играли вместе в «Укрощении строптивой», как мне казалось, не очень меня долюбливал. Здесь, в Малом театре, на первой же нашей беседе, вдвоем, я почувствовал такое же к себе отношение.
Я совершенно не знал его как режиссера и поэтому отвечал той же настороженностью. Но после каждой нашей встречи мы становились ближе и ближе друг другу. Я не пытался сдерживать его педагогические приемы, его критические и подчас колкие замечания в мой адрес. А он беспощадно вскрывал формальные интонации, внешние приемчики, игру «под обаяние» и ставил передо мной более углубленные задачи, которые заключались как в раскрытии сути Хлестакова, его зерна, так и его психологии, его образа мыслей и действий. Он терпеливо добивался, чтобы этот образ мыслей и действий стал моим собственным и чтобы я не показывал бы Хлестакова, не представлял бы Хлестакова, а был бы и жил Ильинским — Хлестаковым на сцене. Как это ни странным покажется, но, несмотря на то, что я работал в двух пьесах в Первой студии МХАТ, несмотря на то, что в течение двадцати лет моей работы я встречался со многими режиссерами Художественного театра и в какой-то степени знал «систему» К.С. Станиславского, Л.А. Волков впервые на практике заставил меня полюбить и органически впитать многие гениальные воспитательные приемы и положения «системы» Константина Сергеевича.
Мне было легко работать с Волковым, так как он был учеником Е.Б. Вахтангова, который привил ему и любовь к театральности и помог творчески освоить «систему» Константина Сергеевича, не делая из нее догмы. До той поры почти всякое знакомство с «системой» Константина Сергеевича, кроме разве азбучных истин, меня сковывало в работе. Грубо говоря, если мне говорили: «Переживайте!» — то я не мог переживать, если мне говорили: «Идите от себя, делайте так, как если бы это с вами случилось, а в дальнейшем физически действуйте, не думайте о словах», — то у меня получались просто какие-то несуразности и я становился творчески мертв и скован.
Впервые в работе с Л. А. Волковым над Хлестаковым я ощутил значение сквозного действия. Я, конечно, знал, что это такое. Но всякое определение сквозного действия и поиски его до сей поры творчески утомляли меня, а, определенное разумом, это сквозное действие, пожалуй, только мешало свободно чувствовать себя и развиваться мне как актеру в роли. В работе над Хлестаковым я вдруг почувствовал, что сквозное действие подхлестывает и побуждает меня к правильному самочувствию, к чувству удовлетворения актерскими находками, которые нанизывались на данное сквозное действие. А сквозное действие для Хлестакова было: бездумно срывать цветы удовольствия, попадающиеся на его жизненном пути. Я также практически почувствовал, что это сквозное действие помогает актеру в роли Хлестакова распознать главное, что определяет его поведение и отношение к окружающему и помогает актеру двигаться в роли вперед, не задерживаясь, не излишне располагаясь и разыгрываясь по мелочам, не отдавая слишком большого места украшениям, которые без ощущения сквозного действия практически отяжелили бы роль.
Л. А. Волков имел вкус к смелой и острой актерской игре, он очень скоро полюбил во мне мои возможности — комедийный темперамент, органическую любовь к юмору а понимание его. Он, как мне казалось, с большим удовольствием работал со мной, он видел, что я искренне радуюсь вместе с ним нашим общим находкам, а главное, что мы говорим с ним на одном языке и что у нас с ним есть общность вкусов. Как режиссера и педагога его не могло не радовать и то, что, несмотря на мою «известность» и авторитет комедийного актера, я всегда без какой-либо амбиции шел за ним по пути большей взыскательности к самому себе, правильно оценивая его режиссерские замыслы и доверяя ему на пути их осуществления и воплощения. Перед тем как перейти непосредственно к рассказу о работе над образом Хлестакова, я бы хотел коснуться некоторых важных общих вопросов поведения актера на сцене, о которых мне пришлось задуматься в процессе работы над ролью Хлестакова.
Раньше, играя одно или другое место в роли, произнося слова монолога, я бывал рабом найденного и установленного ритма, а подчас и внешнего рисунка роли. Если я не чувствовал себя, как говорится, в своей тарелке в каком-либо месте роли, то я переходил к другому куску, торопясь покончить с местом, которое не было по-настоящему и глубоко зацеплено и вспахано актерски. Исполнение роли, таким образом, катилось по поверхности, становилось поверхностным, внешним. Работая над Хлестаковым, я пришел к выводу, что актер должен так крепко «сидеть в седле» роли, так постоянно ощущать свой образ в сквозном действии, чтобы мочь в любом месте роли как бы остановиться и продолжать жить в роли без слов и без использования каких-либо средств внешнего выражения. Если актер выдерживает такую заданную самому себе проверку в любом месте монолога или диалога, то он может быть уверен, что нашел правильный внутренний ритм роли. Если такие остановки не мешают его самочувствию, не выбивают его из этого самочувствия, значит, он живет в роли достаточно глубоко и правдиво.
Очень важен стал для меня также вопрос общения с партнерами и связи с ними. Я принадлежал, да и теперь принадлежу, к очень точным актерам. Мне бывает иногда очень дорог найденный кусок в роли, найденное удачное разрешение дуэтной сцены, ритм этой сцены, точная взаимосвязь и взаимопомощь актеров. Хорошо если партнер или партнеры понимают так же, как и ты, данную сцену, сцеплены с тобой живым общением, чувствуют правильно общий, а также твой и свой ритмы в отдельности. Хорошо, если они, по образному выражению О. О. Садовской, «вяжут общее вязание: я тебе петельку, а ты мне крючочек». Хорошо, если они говорят с тобой и общаются на одном сценическом языке. В спектаклях Мейерхольда такой общности помогал железный режиссерский рисунок, железное построение сцены, но и то часто это построение нарушалось и разбалтывалось неверным исполнением, неверной внутренней жизнью, что бывало в тех случаях, когда актеры разыгрывались и вольно или невольно видоизменяли первоначальное построение сцены.
В Малом театре для актеров-мастеров существовала принципиально большая свобода. Поэтому мне, вновь пришедшему актеру, было трудно уславливаться с партнерами. Если не вмешивался режиссер, то мне как актеру неудобно было просить что-либо у актеров, особенно старшего поколения. Такая просьба могла восприниматься как мое замечание, пусть деликатное, но замечание. Если же и приходилось обращаться с просьбами, вроде: поактивнее в таком-то месте ко мне обратиться, при этих словах взять мою руку и пр. и пр., то актеры, особенно старшего поколения, крайне неохотно шли на такие просьбы. В тех же случаях, когда они проявляли неожиданно свою активность, то есть делали что-либо такое, что было, на мой взгляд, излишне, и «брали меня за руку» тогда, когда мне это было не нужно или мешало игре, то мне было еще труднее попросить этого не делать. Повторяю, что я привык к режиссерской дисциплине и точности рисунка, поэтому когда я встречался с какой-либо неточностью партнера, то мне это настолько мешало, что я терял настроение и даже самообладание.
Как-то я заговорил о таких случаях с Л. А. Волковым. Само собой разумеется, что он также был расстроен теми фактами, когда ломался и комкался задуманный рисунок или ритм сцены. Но он посоветовал мне в таких случаях воспринимать партнера таким, какой он есть на самом деле, чувствовать его реально, что бы он ни делал. Он предлагал в таких случаях менять свою игру соответственно поведению партнера, а не жить на сцене отдельно. В дальнейшем я окончательно осознал, что поведение и действия партнера не могут не влиять на актера. Но актер должен для этого глубоко «сидеть в седле» роли, убежденно знать, чего он хочет в данный момент роли, и тогда при таком положении любое поведение партнера не может сбить актера с его действия. Я считаю, что актер, владеющий подобной техникой, техникой свободной связи с партнером, достигает уже высоких ступеней мастерства.
Актер в своей игре должен опираться и отталкиваться от реального поведения партнера. Связь с партнером дает очень большие результаты. Так, в сцене с Растаковским мне казалось, что сцена нестерпимо тянется и что мне нечего делать и я выключаюсь из действия. Но когда я стал надлежащим образом, то есть тяготясь рассказом Растаковского, заставлять себя — Хлестакова внимательно слушать его, то однажды мое слушание было принято аплодисментами.
Работа над Хлестаковым, как всякая работа, которая является для актера новым этапом в его творчестве, была для меня бесконечно радостна и вместе с тем бесконечно трудна.
Почему так трудно играть Гоголя, ярчайшего театрального писателя, умеющего расцветить, сделать зримым, конкретным каждый образ, вплоть до эпизодических? Мне кажется—да не упрекнут меня в парадоксальности суждения, — что причина именно в этой яркости. Пьесы Гоголя создают непреодолимую иллюзию преувеличения, гиперболизма сценических характеров. Изображаемые Гоголем события развертываются перед нами как исключительные, чрезвычайные; его герои ведут себя неожиданно, резко, почти фантастично, их образ мысли всегда причудлив, а свойства выражены гиперболически. «Прошедшего житья подлейшие черты» — русская действительность времени николаевского царствования — предстают в этих пьесах как бы в сгущении, в концентрате.
Эта особая природа гоголевского реализма в первую очередь поражает воображение как актера, так и режиссера. Вот тогда-то и возникает тенденция «заострить» Гоголя, найти особую форму сценического поведения персонажа, которая отвечала бы стилю писателя и характеру его сатиры. Но в том-то и дело, что эту форму никак нельзя найти самостоятельно, как ни существенно понятие формы для Гоголя. Сколько ни «заостряли» Гоголя, а такие попытки делались, получался либо дурной водевиль, либо условный гротеск, либо фарс — и тогда уходила глубокая мысль, ускользала жизненная сложность образов, спектакль становился плоскостным, однолинейным.
Я не могу не сказать, что «заострять» Гоголя—значит маслить масляное, схватывать, перефразируя его же собственное выражение, — одно только платье, а не душу роли. Вся моя многолетняя практика убеждает меня в том, что Гоголь «открывается» только тем актерам, которые играют его реалистически, без подчеркивания, целиком отдаваясь предлагаемым обстоятельствам пьесы и роли.
Чем больше я вчитываюсь в комедии Гоголя, тем больше утверждаюсь в мысли, что, играя его произведения, нужно лишь строго следовать его ремаркам и «предуведомлениям», его советам для тех, «которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». Гоголь свято верил, что «драма живет только на сцене. Без нее она, как душа без тела». Он очень заботился о том, чтобы его пьесы были сыграны реалистически, все время\\\\\\\' пытался, как сказали бы мы сегодня, режиссировать, подсказывать актеру пути раскрытия характеров. И потому в его пьесах все, что требуется актеру, написано, и потому там все, без исключения, важно, начиная от выразительнейших гоголевских ремарок и кончая знаками препинания, последовательностью слов в фразе, каждым многоточием, каждой паузой.
Словом, нужно лишь правильно прочесть Гоголя — но какая бездна творческих барьеров заключается в этом «лишь»! Гоголь пишет: «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного... даже в последних ролях... Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той сурьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии. Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшею задачею своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их заботы».
Вот это указание Гоголя я считаю важнейшим. Гоголь учит актера ухватывать жизненную логику каждого персонажа, требует от исполнителя умения до конца поверить в ситуацию пьесы—пусть особую, «чрезвычайную» ситуацию, требует полнейшей искренности и простоты на сцене. Гоголь требует от актера «правды и веры», то есть как раз того, чего требует от актера и Станиславский,
Станиславский сказал однажды про героев водевиля, что это самые обыкновенные люди, но с ними на каждом шагу происходят необычайные происшествия, и они не берут под сомнение подлинность этих происшествий—вот их главнейшее свойство. В наивности и доверчивости персонажей, населяющих старый водевиль, заключается тайна его обаяния, внутренней правды, в нем сокрытой. «Ревизор» Гоголя вырос из водевильной традиции и сохранил это ее свойство. Герои Гоголя алогичны только на первый взгляд; на самом же деле они мыслят и действуют с глубокой последовательностью; и даже в полнейшей, казалось бы, алогичности Хлестакова, человека, как Гоголь говорит, приглуповатого и без царя в голове, заключена особого рода логика, которую актер должен уметь раскрыть.
Вот эти-то принципы драматургии Гоголя чрезвычайно близки моим собственным взглядам на природу комедии, на задачи реалистического актера в ней. Вопреки своей давней репутации «чистого» комика, я считаю и считал всегда, что комедия—дело серьезное. Она жестоко мстит каждому, кто вздумает выкидывать в комической роли коленца и «антраша», кто задастся целью смешить, «обличать» нарочито, выставлять в глупом виде героя, не проникаясь его чувствами и мыслями, не следуя тем внутренним импульсам, которые определяют его поведение в пьесе. Без «правды» и «веры» комедию не сыграть. «Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет», — замечает Гоголь по поводу Хлестакова. Думаю, что мы имеем право толковать эту формулу расширительно, применяя ее ко всем остальным ролям знаменитой гоголевской комедии.
И если простота и чистосердечие присутствуют, если они сцементированы к тому же яростным, неудержимым, страстным темпераментом, присущим всем, без исключения, героям Гоголя, то смешное роли выявится само собой, обнаружит себя в серии ярких приспособлений, органичных для данной комедии, но это будет уже реалистический образ, а не гротеск, острота формы, а не преувеличение, раздувание известного социального явления. Последнее так же вредно у Гоголя, как и в советской сатирической пьесе.
Когда я приступил к работе над Хлестаковым, мы вместе с постановщиком спектакля Волковым много думали о «зерне» этого сложного образа. С тех пор как бы ни менялся образ в своих деталях, мое отношение к нему осталось неизменным. Мне представляется, что в паразитизме Хлестакова, в той «легкости необыкновенной», с какой он умеет потребительски использовать каждую жизненную ситуацию, заключена глубочайшая типичность.
Хлестаковщина — это оборотная сторона общественной системы, основанной на взятках, казнокрадстве и чинопочитании, ее неизбежное следствие. Это подчеркивает и Гоголь, замечая: «Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми... И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым».
Хлестаков безлик, но все его представления и взгляды сформированы тем самым строем, который порождает городничих и держиморд. Вот почему в чрезвычайных обстоятельствах пьесы он ведет себя в точности так же, как мог бы вести себя настоящий ревизор: распекает, берет взятки, «пускает пыль в глаза» окружающим, все время кого-то копируя—то важного чиновника, каких видел в Петербурге, то богатого и хлебосольного барина, то ловкого светского франта, то государственного человека.
Так в безликости Хлестакова, как в огромном зеркале, отображаются многие явления породившей его эпохи. И потому понятна ошибка чиновников, принявших «елистратишку», «фитюльку» за государственного человека. В том-то и дело, что Хлестаков одновременно и пустяк и «столичная штучка». Такова сложная двойственность этой «порхающей» роли.
Как истый потребитель, Хлестаков никогда не задумывается о происхождении явлений, не постигает их концы и начала. Для этого он слишком элементарен. Мотыльком порхает он по жизни, нимало не беспокоясь о том, что с ним будет завтра, и решительно не помня того, что с ним было вчера. Для него существуют только сегодняшние, непосредственные побуждения самого примитивного порядка: если он голоден, он уже не может сосредоточиться ни на чем, кроме своего пустого желудка; если он видит женщину, он тотчас же начинает за ней ухаживать по всем правилам пошлого светского романа; если ему угрожает опасность, он старается ее избежать—механически выпрыгнуть в окно, спрятаться за вешалку с платьями, отложить неприятное дело на завтра и больше уже не возвращаться к нему.
Мне кажется очень глубоким замечание Гоголя: «Темы для разговоров ему дают выведывающие. Они сами как бы кладут ему все в рот и создают разговор». А он, Хлестаков, схватывает то одну, то другую тему и скользит себе по поверхности жизни, подталкиваемый первичными паразитическими импульсами, норовя лишь вкусно пообедать, приударить за купеческой дочкой, перекинуться в картишки, а при случае разыграть из себя персону. Мне всегда представлялся Хлестаков в виде суматошливого, глупого, визгливого щенка. Недаром я поймал себя на том, что я, репетируя Хлестакова, стал играть моего щенка, жесткошерстного фокстерьера Кузю; я старался для себя найти его взгляд — он как бы все время ищет, чем бы позабавиться, что еще есть чудесного, интересного на этом свете. Для своего Хлестакова я нашел эту собачью, щенячью радость жизни, эту безудержность в срывании цветов удовольствия.
Мое представление об образе я старался последовательно воплотить в спектакле; но на первых этапах сценической жизни роли я сам еще не был свободен от мысли, что для воплощения Гоголя нужна особая манера игры, особые приемы выразительности и, не доверяя до конца драматургу, искал дополнительных средств характеристики образа, пользуясь всякого рода «подчеркивающими» деталями; иначе говоря, не вполне следовал уже цитированному здесь завету автора: «...чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет».
Когда в 1949 году Малый театр возобновил «Ревизора», я стремился очистить образ от всех излишеств, добиться лаконичности выразительных средств. Тут-то я и имел прекрасный случай убедиться, как важно доверять самому Гоголю и ничего «не играть» сверх того, что предусмотрено им. Я старался углубить роль, но так, как этого требует Гоголь, не отяжеляя игру, а облегчая, и от этого, мне кажется, поведение Хлестакова в спектакле стало более действенным, а его несуразная логика более ясной для зрителя.
Возьмем для примера второй акт, когда Хлестаков отсылает Осипа к трактирщику. Раньше мне было трудно заполнить паузу ожидания, пока Осип ходил за трактирным слугой, и, закончив короткий монолог, я делал какие-то дополнительные переходы по сцене, придумывая себе занятия, полагая, что это интереснее зрителю, чем наблюдать, как Хлестаков без всякого дела сидит у стола и ждет. А у Гоголя выразительная ремарка:
«Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се, ни то». И вот однажды я попробовал точно выполнить предложение автора. Результат не замедлил сказаться: видя, как мой герой, с трудом испуская из себя свист, переходит от одной мелодии к другой, а потом уже свистит, сам не зная что, зритель отчетливо чувствовал, что Хлестаков полностью сосредоточен на своем пустом желудке, устремление ждет обеда и с трудом сдерживается, чтоб не пуститься на кухню, подгоняя замешкавшегося слугу. Цель, таким образом, достигалась при экономии средств.
В третьем действии, знакомясь с дамами, я в прежнем спектакле выделывал какие-то невероятные балетные па, соответствовавшие, как мне казалось, представлению Хлестакова о светских приличиях. Но, переключаясь на мои танцевальные экзерсисы, зритель невольно терял линию действия, забывая о смысле происходящего на сцене. Лишь много позже я оценил юмор двух соседствующих фраз Хлестакова: «Возле вас стоять уже есть счастье; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду». Тогда я переделал эту сцену. Галантно расшаркавшись перед дамами и возглашая: «Возле вас стоять уже есть счастье»,—Хлестаков непроизвольно рушится в кресло, но, не сознавая этого, продолжает самым учтивым тоном уверять Анну Андреевну: «Впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду». Получалось не только смешно, но и характерно: полупьяный Хлестаков, отягощенный сытным и обильным завтраком, рисуется и жуирует, ревностно следуя пошлейшим образцам столичной «светской» вежливости.
И третий пример того, как Гоголь подсказывает исполнителям необходимые краски образа—ремарки второго акта.
«Хлестаков (ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом). Послушай... эй, Осип!.. (громким, но не столь решительным голосом). Ты ступай туда... (голосом вовсе не решительным, не громким, очень близким к просьбе). Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать».
Здесь все предусмотрено автором — и состояние персонажа, человека ничтожного, растерявшегося от неудач, и особенность его натуры, заставляющей его тем энергичнее требовать пищи, чем больший голод он испытывает, и трусость, сковывающая всякий его порыв. Здесь даже интонация подсказана; актеру остается лишь прислушаться к этой мудрой подсказке.
Большая работа была проделана и над речью моего героя. Когда-то я грешил в этом смысле известной подчеркнутостью — раскрашивая слова Хлестакова, боялся говорить просто, и реплики звучали нарочито. С годами, мне кажется, я добился и большей простоты и большей подчиненности речи характеру героя.
Хлестаков в полном соответствии со своим самочувствием в жизни говорит быстро, иногда «с захлебом», спеша и глотая слова (слова обгоняют мысль потому, что героя «заносит»); его интонации, несмотря на их внешнюю экспрессивность, зыбки и незакончены — не то он утверждает что-то, не то спрашивает, не то удивляется, а приятная округлость фразы превращается в щенячье повизгивание, когда Хлестаков напуган или удручен. Зато, почувствовав себя «персоной», азартно разыгрывая перед уездными жителями «чрезвычайного» чиновника из Петербурга, Хлестаков и говорить начинает важно, впрочем, в пределах своих представлений о сановитости и солидности. Так, например, он обнадеживает Добчинского относительно возможности его сыну называться так же — Добчинским. Я произносил эту фразу ровно, однотонно, без интервалов, без малейших намеков на знаки препинания: «Хорошо хорошо я об этом постараюсь я буду говорить я надеюсь все это будет сделано да да». Тщеславная сущность Хлестакова, этого раздувшегося ничтожества, выступала здесь особенно отчетливо, заставляя вспомнить известную басню Крылова относительно лягушки и вола.
Таково было направление моей работы над образом на протяжении всех лет, что я играл Хлестакова в Малом театре. И она, эта работа, не кончена.
И в знаменитом монологе Хлестакова в идеале должны быть те же простодушие и искренность, как и во всем его поведении в спектакле. Добиться того, чтобы и в монологе «ничего не играть», ничего специально не красить, всей душой доверяясь гоголевской ситуации, — такая задача стояла передо мной. Ведь Хлестаков—и врет и не врет. Фантасмагоричность, вымороченность той жизни, в которой только и возможны свиные рыла уездной обывательщины, делают допустимой и мысль о реальности чудовищного хлестаковского вранья.
Я прожил целую жизнь бок о бок с «Ревизором», играя на сцене Малого театра Хлестакова с 1938 года, а городничего — с 1952-го, и по опыту могу сказать, что Гоголь—драматург столь же трудный, сколь и неисчерпаемый. Работа над гоголевским образом никогда не может считаться завершенной вполне. Сколь бы ни играть Хлестакова, я все ощущаю в роли кладезь неиспользованных возможностей. Что же касается роли городничего, то моя работа над ней, собственно, все еще продолжается, и меня вполне устраивает, когда мне говорят товарищи по театру или зрители, что я нахожусь «на верном пути».
Моя работа над ролью Хлестакова, относящаяся ко времени постановки Волкова 1938 года, имела громадное для меня значение. Не надо забывать, что в середине 30-х годов не только я находился еще под влиянием формалистических увлечений в театральном искусстве. Проявления «мейерхольдовщины» сказывались даже и в Малом театре, где прошли «Волки и овцы» в постановке К. Хохлова—яркий пример «мейерхольдовщины», о которой я уже упоминал. В постановке Волкова имелся также ряд сцен, которые носили характер нарочито-показной «режиссерской» выдумки. К выпуску премьеры Волков совершенно правильно умерил свою фантазию. Но все же излишества еще были. Такие места были и у меня в роли. Эти «украшения» занимали иной раз слишком большое место в спектакле. Но повторяю, что в то время такие украшения и некоторые излишества воспринимались как свежий ветер в Малом театре и поддерживались частью труппы.
Для меня лично работа над Хлестаковым была важна не этими выдумками и не свежестью ряда мест в роли, которые не в меньшей степени бывали у меня в ролях мейерхольдовского театра, а прежде всего своей общей реалистической направленностью, обогатившей и оплодотворившей мое творческое сознание. В Малом театре, с которым я отныне связал свою судьбу, работать вне этой реалистической направленности с тех пор стало для меня органически немыслимо.
Первые годы моей работы в Малом театре были для меня крайне напряженными и насыщенными. Пожалуй, я в те дни не осознавал полностью того значения, которое имело для моей дальнейшей жизни поступление в Малый театр. Сам Малый театр, на мой взгляд, представлял в то время собрание «двунадесяти языков». Да и в наши дни все его творческие силы еще не совсем ассимилировались и слились в единый по стилю творческий организм.
Конечно, представления о Малом театре и путях его развития могут быть разные. Только проведя тридцать лет своей жизни в Малом театре, распознав и на практике изучив его истоки и традиции, я могу сказать, что стал иметь достаточно ясное представление о том, каким должен быть Малый театр.
Поступая в 1938 году в Малый театр, я не мог не ощущать этих «двунадесяти языков». Здесь были «старики» — старые артисты, могикане, которые бережно несли и утверждали, в силу своего таланта, традиции Малого театра, но среди них были и такие, которые невольно смешивали щепкинские традиции с безнадежной рутиной и отсталостью. Затем были добротные, крепкие актеры провинциального склада, были «коршев-ские» актеры, столичные и умные, несколько игравшие «на зрителя», были выученики МХАТ и закрывшегося к тому времени МХАТ 2-го, была молодежь и ученики школы имени Щепкина при Малом театре. Наконец, появилось несколько мейерхольдовцев, и я в том числе.
Руководством и цементированием этого разношерстного в каждой своей части талантливого актерского состава занимался, как я уже говорил, мхатовец И. Я. Судаков.
Если анализировать путь Малого театра за последние тридцать лет, то нетрудно прийти к заключению, что имели признание зрителей и вошли в историю Малого театра только те спектакли, которые отражали основные традиции и стиль этого старейшего русского театра.
Развитие советской театральной культуры требовало от Малого театра наших дней свежести и чувства современности. Поэтому «старики», привносившие в свое творчество вместе с традициями качества современного актера, жизненные наблюдения советских художников, получали признание и благодарность взыскательного советского зрителя. То же самое происходило и с «коршевской» и «провинциальной» группами. Если они отказывались от своих штампов и приемов, если они обогащали свое мастерство благородными традициями «стариков», их ждал успех. «Формалисты» (и я в том числе) также должны были задуматься о многом и многое пересмотреть, если не хотели остаться в коллективе инородным телом.
Главный режиссер И. Я. Судаков, как мне кажется, понимал сложность всей перестройки Малого театра, и поэтому в меру, не ломая и не насилуя творческие особенности каждого из актеров, упорно внедрял во все эти группы свой «символ веры», то есть основные методы «системы» К. С. Станиславского. Когда результаты этого сложного творческого процесса не выходили из рамок представления зрителя о Малом театре, когда актеры успешно принимали участие в таком процессе, когда они, таким образом, шли вперед, то такие спектакли имели неизменный успех и выражали лицо нового, современного Малого театра. Спектакли, в которых превалировала какая-либо из групп, упорно остававшаяся верной своим особенностям, несмотря подчас на свою талантливость, — такие спектакли не вливались в основное русло Малого театра.
Это можно было наблюдать и в отношении И. Я. Судакова. В тех случаях, когда на сцене Малого театра он пытался создать спектакль МХАТ, такой спектакль, как правило, не получался.
При вступлении в Малый театр я не мог предвидеть столь сложного процесса и не имел заранее обдуманного намерения работать и жить в рамках такой сложной перестройки. Но когда я поступил в Малый театр, я почувствовал радость от желания участвовать в этом процессе перестройки, а затем и удовлетворение от моего актерского роста. В конце концов, когда я стал ощущать себя современным актером и в то же время носителем традиций Малого театра, я обрел желание бороться за единое лицо Малого театра, за понимание его предназначения и за дальнейшее укрепление его путей.
Тогда я лишь видел его многоликую несобранность и, откровенно говоря, совершенно еще не думал о своей кровной заинтересованности русского актера в отыскании путей к идейной и стилистической цельности Малого театра, о торжестве в нем единого творческого языка, а также и о том, что придет время, когда мне придется бороться за свое понимание Малого театра. Тогда при всем моем трепете перед этой прославленной сценой, я видел в ней прежде всего площадку, на которой я могу показать себя таким, каковым я был на данном своем этапе. Правда, на сей раз я мечтал не только показать себя полугастрольным образом, как то было в Александрийском театре, но и успешно соревноваться в таком показе с другими актерами.
Однако, к счастью, как я уже говорил, я попал в другую творческую обстановку, не имевшую ничего общего с положением в бывшем Александрийском театре. Очень быстро некоторое наличие такого, по-видимому, свойственного мне легкомыслия уступило место художественной работе и взыскательности. Так было с Хлестаковым, затем с Загорецким в «Горе от ума», а первая годовщина моего пребывания в Малом театре ознаменовалась для меня вводом в «Лес» Островского в постановке Л. М. Прозоровского при близком содружестве с П. М. Садовским.
Я не буду останавливаться на работе над Загорецким, которая не имела особого значения среди других первых ролей в Малом театре. Лично я большого удовлетворения здесь не изведал, и она не прибавила мне ничего нового, как то было с ролью Хлестакова. Сказалось то, что мне не было уделено достаточно внимания со стороны режиссуры (И. Я. Судаков и П. М. Садовский). Сам же я не сумел проявить инициативу во второй своей работе и скромно следовал указаниям режиссеров. Кроме двух, трех удачных, занятных интонаций и «скольжения по паркету», которое я проделывал довольно искусно, я как актер ничего не внес в этот спектакль.
Гораздо серьезнее оказалась работа над Аркашкой. Я охотно пошел за режиссером Л. М. Прозоровским, который стремился «очеловечить» моего мейерхольдовского Аркашку и пытался медленно, но верно убедить меня отказаться от многих внешних приемов и трюков в роли, заменив внешние театральные приемы углубленностью и жизненностью образа.
Пров Михайлович Садовский, который, как я уже рассказывал, весьма скептически отнесся как к моему вступлению в Малый театр, так и к успеху в Хлестакове, вдруг очень сердечно стал относиться ко мне на репетициях «Леса».
По-видимому, он вполне принимал меня как партнера, так как я не мешал ему играть и находил с ним общий сценический язык.
Я был счастлив и гордился тем, что впоследствии он мне сказал, что я лучший Счастливцев, с каким ему приходилось играть. По его словам, он не ожидал, что я заговорю с ним на репетиции тем простым языком неудачливого провинциального актера, которым я с ним заговорил, и что он увидит в моих глазах ту человеческую горечь, которая заразит его как партнера.
В дальнейшем Пров Михайлович полюбил меня, как мне кажется, как актера, сошел
Дата публикации: 28.03.2006