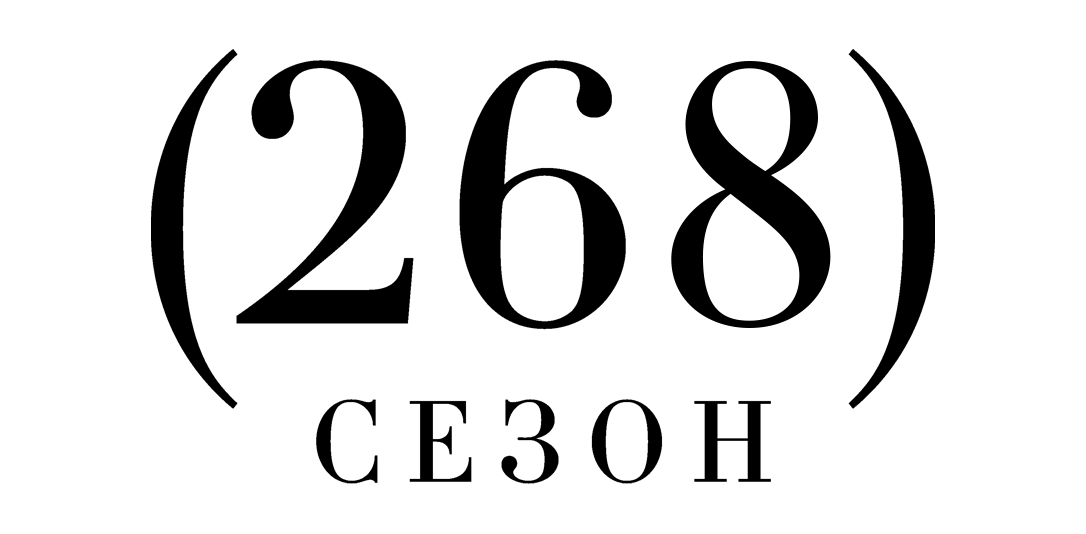Новости
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой» Е.Н. ГОГОЛЕВА
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
В конце 40-х—начале 50-х годов у меня были интересные работы. В пьесе Н. Вирты «Заговор обреченных», поставленной Зубовым, я играла члена Бюро ЦК компартии Ганну Лихта. Особенного резонанса спектакль не имел, хоть заняты в нем были лучшие актеры: Зеркалова, Межинский, Царев, сам Зубов. Но что-то, очевидно, не удалось найти, и спектакль по-настоящему до зрителя не дошел.
В эти годы в театр пришел Евгений Матвеев. Зубов поставил «Северные зори» Н. Никитина. Тема пьесы оккупация американцами нашего Севера в 1919 году. Хороший был спектакль. Чудесно играли и Матвеев, и Хорькова, и Роек. Моя крошечная сценка всегда доставляла мне огромную радость. Я играла мать покончившей с собой девочки, которую изнасиловали офицер американской контрразведки и его пьяные дружки. Я – мать, интеллигентка, лояльно настроенная к американцам, прихожу к полковнику, высшему начальнику контрразведки, требовать наказания виновных. И убеждаюсь в зверином облике американской военной администрации. Перелом от доверия к полному прозрению, к пониманию истинного лица полковника... И страшная боль от потери дочери — вот сущность роли. Спектакль имел успех у зрителей и общественное признание.
В управлении Малым театром наступили перемены. Ушел Л. Е. Шаповалов. Директором театра назначили М. И. Царева. Случилось так, что несколько сезонов я почти не имела новой работы. И я предложила Цареву несколько пьес с ролями, соответствующими моему возрасту. Были выбраны «Привидения» Ибсена. Однако первоначально предложенный режиссер Б. В. Эрин, по общему мнению участников будущего спектакля, не обладал достаточными творческими возможностями. Репетиции затягивались.
Два сезона у меня были простойные. И вот в 1955 году К. А. Зубов осуществил свою мечту — поставил «Макбета» Шекспира. Мне кажется, что эта работа была не под силу Зубову. Блестяще раскрывая идею и форму в далеко не совершенных современных пьесах. Зубов с Шекспиром явно не сладил. И тем не менее спектакль имел большой успех, шел всегда при переполненном зале. Я лично не была удовлетворена своей первой картиной, хотя Зубов долго и мучительно искал пути ее раскрытия. А вот сцену убийства Дункана и особенно сцену со стиранием кровавых пятен на руках, думается, я играла верно.
Любопытны были две рецензии в журнале «Театр» — критика А. Штейна и поэта И. Сельвинского. Первый очень хвалил Макбета — Царева и резко критиковал мое исполнение, называя его большой неудачей, но конкретно ничего не анализируя; а Сельвинский, в противоположность ему, писал о моей большой удаче. Вот и пойми, как надо относиться к критике! Причем Сельвинский довольно обоснованно писал, что и почему мне удалось, а Штейн просто: «...надо считать большой неудачей Гоголевой исполнение роли леди Макбет». Обе рецензии были помещены одна за другой в одном и том же номере журнала. И это доставило мне много веселых минут.
Переводчиком трагедии Шекспира был Борис Леонидович Пастернак. Это обстоятельство дало мне возможность познакомиться с одним из величайших поэтов современности. Немножко странный и чудаковатый на первый взгляд, он поражал своей искренностью и увлеченностью искусством.
Поскольку каждая строка замечательного человека интересна, я позволю себе привести письмо Пастернака, адресованное мне, и посвящение, написанное им на книге его стихов.
29 дек. 1955
Дорогая Елена Николаевна!
Я просил вчера Михаила Ивановича и Константина Александровича передать Вам мои восторги и поздравления. И они, наверное, сделали это так хорошо, что мне нечего прибавить, и я не стану утомлять Вас подробно разработанным славословием, разбором частностей. Скажу одно. Наверное, Вы и свое собственное восприятие леди Макбет, задуманное и выношенное, с таким счастьем и победою перешагнули и превысили в исполнении, что вправе теперь забыть о первой исходной мысли, которая привела Вас к Вашему торжеству. Что касается меня, то у меня, наверное, были тоже свои представления этого образа, но они так бесследно вылетели из головы, так вытеснены Вами, что мне кажется, будто Вы и есть леди Макбет подлинника, будто Шекспир писал ее с Вас, будто он Вас переводил на английский. Но это еще не высшая похвала. А высшая — это когда искусство или какое-нибудь из его проявлений растет на наших глазах от положения к положению, как растет человеческая жизнь. Когда, уходя со спектакля, зритель выносит впечатление, будто не смотрел Вас в Вашей, часами измерявшейся роли, а прожил век вместе с Вашей дерзостью и Вашим горем. Так это и было. Какой стремительный и большой шаг в преддверии нового года, какой взгляд вдаль, какое предзнаменование! Слава Вам!
... Хотя это было когда-то скорее специальностью Художественного, нежели Малого театра — улавливать и овеществлять невоплотимое, я не помню ни одной попытки, даже у Комиссаржевской и Мейерхольда, где бы театр так далеко и успешно заходил в передаче фантастического и таинственного. Знаменитые пузыри земли явились материализованными. Весь Макбет, как зрелище, поднялся вверх в дыму и испарениях авторского замысла. Я хотел перечислить все, что говорил вчера Михаилу Ивановичу и Константину Александровичу, но это затянет письмо и заслонит то главное, что я с благодарностью и головной болью от вчерашних слез сказал Вам в начале.
Ваш Б. Пастернак
Артистке, настолько стершей границы между ролью и исполнительницей, между леди Макбет и Гоголевой, что я искренне не знаю, кому надписываю тетрадку и к кому из них, в ужасе и восхищении, обращаюсь.
Б. Пастернак 20 янв. 1956 г.
Кроме совместной работы над «Макбетом» нас объединяла с Пастернаком общая любовь к грузинской поэзии и грузинскому искусству.
Мы встретились однажды у него на даче в Переделкине. За столом присутствовал и Генрих Нейгауз, который принимал участие в моих концертах. Разговор шел о грузинской поэзии. Пастернак был удивительно мил, весел и остроумен.
Таковы впечатления, связанные с «Макбетом».
После «Макбета» — Ибсен. Сжалившись над нами, участниками «Привидений», за постановку взялся В. И. Цыганков, хороший педагог и, увы, очень посредственный постановщик. Зубов видел и понимал, что Ибсен требует более серьезного подхода. Незадолго до своей смерти он вдруг сказал: «Знаю, знаю, только теперь понял, как надо ставить «Привидения», вот поправлюсь, приду и все выправим». К сожалению, он уже не вставал с постели и вскоре скончался. Мне кажется, за те почти пятнадцать-шестнадцать лет, что мы играли этот спектакль, мы сами, участники, многое выправили, углубили. Конечно, если бы с самого начала дана была прочная основа, все бы это произошло быстрее.
Очень интересно играл Освальда Никита Подгорный. Я рада, что именно по моей инициативе этот замечательный актер, по уходе из театра Матвеева, был назначен на роль Освальда.
Бывают партнеры, которых чувствуешь сразу, с которыми говоришь как бы на одном языке. Бывают партнеры, которые тебе чужды. Ты никак не можешь к ним приладиться, хотя в жизни с ними дружишь и даже считаешь единомышленниками во взглядах на театр. Глухой Остужев был мне близок и понятен на сцене, а с Радиным я не могла найти общий язык.
Матвеев играл Освальда сильно и ярко. Работать с ним было удобно и хорошо, но, мне думается, Женя делал ошибку, слишком много внимания уделяя изучению больных в специальных клиниках. Из-за этого у него во многом ушло творческое, романтическое существо Освальда-художника. Ведь трагедия в том, что гибнет художник, и большой художник, а не только человек. У Подгорного (мой любимейший партнер) существо художника, каким был Освальд, как-то особенно ярко прочерчивалось. И это было правильно.
Мне почему-то казалось, что Подгорный действительно мой сын. Он был чутким, необыкновенно творческим партнером. Мне доставляло огромное наслаждение играть с ним. Как часто после спектакля мы радостно делились внезапно возникшей на сцене свежей интонацией, новой мыслью, новым взглядом. Необычайно одаренный актер, Подгорный обладал внутренней интеллигентностью, умом и обаянием, которые, к сожалению, не всегда встречаешь даже в очень талантливых актерах.
Когда играешь роль в продолжение нескольких лет, да еще с разными партнерами, невольно пересматриваешь и свое исполнение. Да и зритель часто наталкивает на новое толкование отдельных кусков. Не говорю уже о том, что требования самой жизни не позволяют роли стоять на месте. Так случилось и с моей фру Альвинг.
В сущности, как я уже говорила, режиссерского решения не было никакого. Был текст, были актеры, были приблизительные мизансцены. Мы и играли, кто как «почувствует» роль. Вначале я все эмоции вкладывала в трагедию матери. Испытав измены, разврат, пьянство мужа, не получив никакой нравственной поддержки от своей семьи, которая считала этот брак блестящей партией, я главным образом страдала из-за сына. Последняя надежда была на пастора, но он оттолкнул молодую фру Альвинг. Что же дальше? Фру Альвинг замкнулась, отстранилась от отвратительного мужа и всю любовь перенесла на сына. Подчиняя все именно материнским чувствам, я совершенно обходила первопричину несчастий.
Ибсен назвал свою пьесу «Привидения» (в иных переводах — «Призраки»). Второе мне кажется точнее. Прошло время, и я все чаще стала вдумываться в слово «Призраки». Это не привидения, явившиеся фру Альвинг в виде легкомысленной игры, флирта Освальда с Региной. Дело не только в том, что фру Альвинг видела в этой паре как бы возрождение самого Альвинга и матери Регины. Пьесу надо понимать глубже. «Призраки» или «Привидения», о которых говорит Ибсен, это те самые ложные предрассудки общества, на страже которых стоит церковь. Яростным, глубоко убежденным защитником этих предрассудков является пастор. Вот что бичевал в первую очередь Ибсен и что надо особенно ярко вычертить в спектакле.
Поняв это, я стала придавать особое значение сценам с пастором. И потому рассказ фру Альвинг о совместной жизни с мужем — это не воспоминания о страданиях, это почти иронично-торжествующая исповедь. Виновником ее страданий был недалекий, недальновидный пастор, который, находясь в шорах своих «священных обязанностей», совершил злое дело. Вторая сцена объяснения с пастором — это уже гневное обличение слепоты, приведшей к катастрофе.
В последние годы моего исполнения роли фру Альвинг я делала сильнейший акцент именно на конфликт с фальшивыми взглядами лживого общества, которое коверкает души, ломает жизнь свободных и мыслящих людей. А ведь будучи совсем одинокой, фру Альвинг много читала, много думала, многое осознавала и, разумеется, стояла выше общества, из которого вышла и с которым не смогла бороться. Мне кажется, именно так надо было с самого начала разрешать пьесу Ибсена. И жаль, что мое прозрение, прозрение актрисы, пришло слишком поздно.
Как это часто бывало, пресса не заметила этой моей работы. Хотя во время гастролей в других городах в периферийных газетах появились интересные отзывы.
Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна! Пишет Вам одна девушка, которой Вы не знаете, но которая знает и любит Вас. Всего один раз я видела Вас, когда приезжали Вы в Пятигорск, в «Привидениях» Ибсена... Благодаря Вам я тогда впервые испытала удивительное, прекрасное чувство, которому и теперь не могу найти названия. Вы чем-то отравили меня, чем-то ранили мое сердце тогда так хорошо и так больно. Вы дали мне узнать тоску по невозможному. Тогда я узнала, что существует священный ужас, когда Вы пошатнулись, было жутко и необычно и как-то сладко. И страшно и восторг какой-то. Кажется, в Ваших глазах светились все чувства. Они менялись с какой-то бешеной быстротой, захлестывая друг друга. Не могу понять, что это такое, что делает человека, женщину такой прекрасной, прекраснее самой красивой женщины на свете…
Н. Желябовская, г. Пятигорск.
Дорогая, уважаемая Елена Николаевна! Вчера смотрела спектакль «Привидения». Не могу удержаться от того, чтобы не написать Вам о моей бесконечной благодарности за образ, созданный Вами. Сколько благородства, трагической глубины и реализма.
Это целая школа. Ваш образ до сих пор у меня перед глазами. Я его никогда не забуду.
Благодарная Фатьма Кадри (народная артистка республики), г. Баку.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
В конце 40-х—начале 50-х годов у меня были интересные работы. В пьесе Н. Вирты «Заговор обреченных», поставленной Зубовым, я играла члена Бюро ЦК компартии Ганну Лихта. Особенного резонанса спектакль не имел, хоть заняты в нем были лучшие актеры: Зеркалова, Межинский, Царев, сам Зубов. Но что-то, очевидно, не удалось найти, и спектакль по-настоящему до зрителя не дошел.
В эти годы в театр пришел Евгений Матвеев. Зубов поставил «Северные зори» Н. Никитина. Тема пьесы оккупация американцами нашего Севера в 1919 году. Хороший был спектакль. Чудесно играли и Матвеев, и Хорькова, и Роек. Моя крошечная сценка всегда доставляла мне огромную радость. Я играла мать покончившей с собой девочки, которую изнасиловали офицер американской контрразведки и его пьяные дружки. Я – мать, интеллигентка, лояльно настроенная к американцам, прихожу к полковнику, высшему начальнику контрразведки, требовать наказания виновных. И убеждаюсь в зверином облике американской военной администрации. Перелом от доверия к полному прозрению, к пониманию истинного лица полковника... И страшная боль от потери дочери — вот сущность роли. Спектакль имел успех у зрителей и общественное признание.
В управлении Малым театром наступили перемены. Ушел Л. Е. Шаповалов. Директором театра назначили М. И. Царева. Случилось так, что несколько сезонов я почти не имела новой работы. И я предложила Цареву несколько пьес с ролями, соответствующими моему возрасту. Были выбраны «Привидения» Ибсена. Однако первоначально предложенный режиссер Б. В. Эрин, по общему мнению участников будущего спектакля, не обладал достаточными творческими возможностями. Репетиции затягивались.
Два сезона у меня были простойные. И вот в 1955 году К. А. Зубов осуществил свою мечту — поставил «Макбета» Шекспира. Мне кажется, что эта работа была не под силу Зубову. Блестяще раскрывая идею и форму в далеко не совершенных современных пьесах. Зубов с Шекспиром явно не сладил. И тем не менее спектакль имел большой успех, шел всегда при переполненном зале. Я лично не была удовлетворена своей первой картиной, хотя Зубов долго и мучительно искал пути ее раскрытия. А вот сцену убийства Дункана и особенно сцену со стиранием кровавых пятен на руках, думается, я играла верно.
Любопытны были две рецензии в журнале «Театр» — критика А. Штейна и поэта И. Сельвинского. Первый очень хвалил Макбета — Царева и резко критиковал мое исполнение, называя его большой неудачей, но конкретно ничего не анализируя; а Сельвинский, в противоположность ему, писал о моей большой удаче. Вот и пойми, как надо относиться к критике! Причем Сельвинский довольно обоснованно писал, что и почему мне удалось, а Штейн просто: «...надо считать большой неудачей Гоголевой исполнение роли леди Макбет». Обе рецензии были помещены одна за другой в одном и том же номере журнала. И это доставило мне много веселых минут.
Переводчиком трагедии Шекспира был Борис Леонидович Пастернак. Это обстоятельство дало мне возможность познакомиться с одним из величайших поэтов современности. Немножко странный и чудаковатый на первый взгляд, он поражал своей искренностью и увлеченностью искусством.
Поскольку каждая строка замечательного человека интересна, я позволю себе привести письмо Пастернака, адресованное мне, и посвящение, написанное им на книге его стихов.
29 дек. 1955
Дорогая Елена Николаевна!
Я просил вчера Михаила Ивановича и Константина Александровича передать Вам мои восторги и поздравления. И они, наверное, сделали это так хорошо, что мне нечего прибавить, и я не стану утомлять Вас подробно разработанным славословием, разбором частностей. Скажу одно. Наверное, Вы и свое собственное восприятие леди Макбет, задуманное и выношенное, с таким счастьем и победою перешагнули и превысили в исполнении, что вправе теперь забыть о первой исходной мысли, которая привела Вас к Вашему торжеству. Что касается меня, то у меня, наверное, были тоже свои представления этого образа, но они так бесследно вылетели из головы, так вытеснены Вами, что мне кажется, будто Вы и есть леди Макбет подлинника, будто Шекспир писал ее с Вас, будто он Вас переводил на английский. Но это еще не высшая похвала. А высшая — это когда искусство или какое-нибудь из его проявлений растет на наших глазах от положения к положению, как растет человеческая жизнь. Когда, уходя со спектакля, зритель выносит впечатление, будто не смотрел Вас в Вашей, часами измерявшейся роли, а прожил век вместе с Вашей дерзостью и Вашим горем. Так это и было. Какой стремительный и большой шаг в преддверии нового года, какой взгляд вдаль, какое предзнаменование! Слава Вам!
... Хотя это было когда-то скорее специальностью Художественного, нежели Малого театра — улавливать и овеществлять невоплотимое, я не помню ни одной попытки, даже у Комиссаржевской и Мейерхольда, где бы театр так далеко и успешно заходил в передаче фантастического и таинственного. Знаменитые пузыри земли явились материализованными. Весь Макбет, как зрелище, поднялся вверх в дыму и испарениях авторского замысла. Я хотел перечислить все, что говорил вчера Михаилу Ивановичу и Константину Александровичу, но это затянет письмо и заслонит то главное, что я с благодарностью и головной болью от вчерашних слез сказал Вам в начале.
Ваш Б. Пастернак
Артистке, настолько стершей границы между ролью и исполнительницей, между леди Макбет и Гоголевой, что я искренне не знаю, кому надписываю тетрадку и к кому из них, в ужасе и восхищении, обращаюсь.
Б. Пастернак 20 янв. 1956 г.
Кроме совместной работы над «Макбетом» нас объединяла с Пастернаком общая любовь к грузинской поэзии и грузинскому искусству.
Мы встретились однажды у него на даче в Переделкине. За столом присутствовал и Генрих Нейгауз, который принимал участие в моих концертах. Разговор шел о грузинской поэзии. Пастернак был удивительно мил, весел и остроумен.
Таковы впечатления, связанные с «Макбетом».
После «Макбета» — Ибсен. Сжалившись над нами, участниками «Привидений», за постановку взялся В. И. Цыганков, хороший педагог и, увы, очень посредственный постановщик. Зубов видел и понимал, что Ибсен требует более серьезного подхода. Незадолго до своей смерти он вдруг сказал: «Знаю, знаю, только теперь понял, как надо ставить «Привидения», вот поправлюсь, приду и все выправим». К сожалению, он уже не вставал с постели и вскоре скончался. Мне кажется, за те почти пятнадцать-шестнадцать лет, что мы играли этот спектакль, мы сами, участники, многое выправили, углубили. Конечно, если бы с самого начала дана была прочная основа, все бы это произошло быстрее.
Очень интересно играл Освальда Никита Подгорный. Я рада, что именно по моей инициативе этот замечательный актер, по уходе из театра Матвеева, был назначен на роль Освальда.
Бывают партнеры, которых чувствуешь сразу, с которыми говоришь как бы на одном языке. Бывают партнеры, которые тебе чужды. Ты никак не можешь к ним приладиться, хотя в жизни с ними дружишь и даже считаешь единомышленниками во взглядах на театр. Глухой Остужев был мне близок и понятен на сцене, а с Радиным я не могла найти общий язык.
Матвеев играл Освальда сильно и ярко. Работать с ним было удобно и хорошо, но, мне думается, Женя делал ошибку, слишком много внимания уделяя изучению больных в специальных клиниках. Из-за этого у него во многом ушло творческое, романтическое существо Освальда-художника. Ведь трагедия в том, что гибнет художник, и большой художник, а не только человек. У Подгорного (мой любимейший партнер) существо художника, каким был Освальд, как-то особенно ярко прочерчивалось. И это было правильно.
Мне почему-то казалось, что Подгорный действительно мой сын. Он был чутким, необыкновенно творческим партнером. Мне доставляло огромное наслаждение играть с ним. Как часто после спектакля мы радостно делились внезапно возникшей на сцене свежей интонацией, новой мыслью, новым взглядом. Необычайно одаренный актер, Подгорный обладал внутренней интеллигентностью, умом и обаянием, которые, к сожалению, не всегда встречаешь даже в очень талантливых актерах.
Когда играешь роль в продолжение нескольких лет, да еще с разными партнерами, невольно пересматриваешь и свое исполнение. Да и зритель часто наталкивает на новое толкование отдельных кусков. Не говорю уже о том, что требования самой жизни не позволяют роли стоять на месте. Так случилось и с моей фру Альвинг.
В сущности, как я уже говорила, режиссерского решения не было никакого. Был текст, были актеры, были приблизительные мизансцены. Мы и играли, кто как «почувствует» роль. Вначале я все эмоции вкладывала в трагедию матери. Испытав измены, разврат, пьянство мужа, не получив никакой нравственной поддержки от своей семьи, которая считала этот брак блестящей партией, я главным образом страдала из-за сына. Последняя надежда была на пастора, но он оттолкнул молодую фру Альвинг. Что же дальше? Фру Альвинг замкнулась, отстранилась от отвратительного мужа и всю любовь перенесла на сына. Подчиняя все именно материнским чувствам, я совершенно обходила первопричину несчастий.
Ибсен назвал свою пьесу «Привидения» (в иных переводах — «Призраки»). Второе мне кажется точнее. Прошло время, и я все чаще стала вдумываться в слово «Призраки». Это не привидения, явившиеся фру Альвинг в виде легкомысленной игры, флирта Освальда с Региной. Дело не только в том, что фру Альвинг видела в этой паре как бы возрождение самого Альвинга и матери Регины. Пьесу надо понимать глубже. «Призраки» или «Привидения», о которых говорит Ибсен, это те самые ложные предрассудки общества, на страже которых стоит церковь. Яростным, глубоко убежденным защитником этих предрассудков является пастор. Вот что бичевал в первую очередь Ибсен и что надо особенно ярко вычертить в спектакле.
Поняв это, я стала придавать особое значение сценам с пастором. И потому рассказ фру Альвинг о совместной жизни с мужем — это не воспоминания о страданиях, это почти иронично-торжествующая исповедь. Виновником ее страданий был недалекий, недальновидный пастор, который, находясь в шорах своих «священных обязанностей», совершил злое дело. Вторая сцена объяснения с пастором — это уже гневное обличение слепоты, приведшей к катастрофе.
В последние годы моего исполнения роли фру Альвинг я делала сильнейший акцент именно на конфликт с фальшивыми взглядами лживого общества, которое коверкает души, ломает жизнь свободных и мыслящих людей. А ведь будучи совсем одинокой, фру Альвинг много читала, много думала, многое осознавала и, разумеется, стояла выше общества, из которого вышла и с которым не смогла бороться. Мне кажется, именно так надо было с самого начала разрешать пьесу Ибсена. И жаль, что мое прозрение, прозрение актрисы, пришло слишком поздно.
Как это часто бывало, пресса не заметила этой моей работы. Хотя во время гастролей в других городах в периферийных газетах появились интересные отзывы.
Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна! Пишет Вам одна девушка, которой Вы не знаете, но которая знает и любит Вас. Всего один раз я видела Вас, когда приезжали Вы в Пятигорск, в «Привидениях» Ибсена... Благодаря Вам я тогда впервые испытала удивительное, прекрасное чувство, которому и теперь не могу найти названия. Вы чем-то отравили меня, чем-то ранили мое сердце тогда так хорошо и так больно. Вы дали мне узнать тоску по невозможному. Тогда я узнала, что существует священный ужас, когда Вы пошатнулись, было жутко и необычно и как-то сладко. И страшно и восторг какой-то. Кажется, в Ваших глазах светились все чувства. Они менялись с какой-то бешеной быстротой, захлестывая друг друга. Не могу понять, что это такое, что делает человека, женщину такой прекрасной, прекраснее самой красивой женщины на свете…
Н. Желябовская, г. Пятигорск.
Дорогая, уважаемая Елена Николаевна! Вчера смотрела спектакль «Привидения». Не могу удержаться от того, чтобы не написать Вам о моей бесконечной благодарности за образ, созданный Вами. Сколько благородства, трагической глубины и реализма.
Это целая школа. Ваш образ до сих пор у меня перед глазами. Я его никогда не забуду.
Благодарная Фатьма Кадри (народная артистка республики), г. Баку.
Дата публикации: 27.07.2005

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
В конце 40-х—начале 50-х годов у меня были интересные работы. В пьесе Н. Вирты «Заговор обреченных», поставленной Зубовым, я играла члена Бюро ЦК компартии Ганну Лихта. Особенного резонанса спектакль не имел, хоть заняты в нем были лучшие актеры: Зеркалова, Межинский, Царев, сам Зубов. Но что-то, очевидно, не удалось найти, и спектакль по-настоящему до зрителя не дошел.
В эти годы в театр пришел Евгений Матвеев. Зубов поставил «Северные зори» Н. Никитина. Тема пьесы оккупация американцами нашего Севера в 1919 году. Хороший был спектакль. Чудесно играли и Матвеев, и Хорькова, и Роек. Моя крошечная сценка всегда доставляла мне огромную радость. Я играла мать покончившей с собой девочки, которую изнасиловали офицер американской контрразведки и его пьяные дружки. Я – мать, интеллигентка, лояльно настроенная к американцам, прихожу к полковнику, высшему начальнику контрразведки, требовать наказания виновных. И убеждаюсь в зверином облике американской военной администрации. Перелом от доверия к полному прозрению, к пониманию истинного лица полковника... И страшная боль от потери дочери — вот сущность роли. Спектакль имел успех у зрителей и общественное признание.
В управлении Малым театром наступили перемены. Ушел Л. Е. Шаповалов. Директором театра назначили М. И. Царева. Случилось так, что несколько сезонов я почти не имела новой работы. И я предложила Цареву несколько пьес с ролями, соответствующими моему возрасту. Были выбраны «Привидения» Ибсена. Однако первоначально предложенный режиссер Б. В. Эрин, по общему мнению участников будущего спектакля, не обладал достаточными творческими возможностями. Репетиции затягивались.
Два сезона у меня были простойные. И вот в 1955 году К. А. Зубов осуществил свою мечту — поставил «Макбета» Шекспира. Мне кажется, что эта работа была не под силу Зубову. Блестяще раскрывая идею и форму в далеко не совершенных современных пьесах. Зубов с Шекспиром явно не сладил. И тем не менее спектакль имел большой успех, шел всегда при переполненном зале. Я лично не была удовлетворена своей первой картиной, хотя Зубов долго и мучительно искал пути ее раскрытия. А вот сцену убийства Дункана и особенно сцену со стиранием кровавых пятен на руках, думается, я играла верно.
Любопытны были две рецензии в журнале «Театр» — критика А. Штейна и поэта И. Сельвинского. Первый очень хвалил Макбета — Царева и резко критиковал мое исполнение, называя его большой неудачей, но конкретно ничего не анализируя; а Сельвинский, в противоположность ему, писал о моей большой удаче. Вот и пойми, как надо относиться к критике! Причем Сельвинский довольно обоснованно писал, что и почему мне удалось, а Штейн просто: «...надо считать большой неудачей Гоголевой исполнение роли леди Макбет». Обе рецензии были помещены одна за другой в одном и том же номере журнала. И это доставило мне много веселых минут.
Переводчиком трагедии Шекспира был Борис Леонидович Пастернак. Это обстоятельство дало мне возможность познакомиться с одним из величайших поэтов современности. Немножко странный и чудаковатый на первый взгляд, он поражал своей искренностью и увлеченностью искусством.
Поскольку каждая строка замечательного человека интересна, я позволю себе привести письмо Пастернака, адресованное мне, и посвящение, написанное им на книге его стихов.
29 дек. 1955
Дорогая Елена Николаевна!
Я просил вчера Михаила Ивановича и Константина Александровича передать Вам мои восторги и поздравления. И они, наверное, сделали это так хорошо, что мне нечего прибавить, и я не стану утомлять Вас подробно разработанным славословием, разбором частностей. Скажу одно. Наверное, Вы и свое собственное восприятие леди Макбет, задуманное и выношенное, с таким счастьем и победою перешагнули и превысили в исполнении, что вправе теперь забыть о первой исходной мысли, которая привела Вас к Вашему торжеству. Что касается меня, то у меня, наверное, были тоже свои представления этого образа, но они так бесследно вылетели из головы, так вытеснены Вами, что мне кажется, будто Вы и есть леди Макбет подлинника, будто Шекспир писал ее с Вас, будто он Вас переводил на английский. Но это еще не высшая похвала. А высшая — это когда искусство или какое-нибудь из его проявлений растет на наших глазах от положения к положению, как растет человеческая жизнь. Когда, уходя со спектакля, зритель выносит впечатление, будто не смотрел Вас в Вашей, часами измерявшейся роли, а прожил век вместе с Вашей дерзостью и Вашим горем. Так это и было. Какой стремительный и большой шаг в преддверии нового года, какой взгляд вдаль, какое предзнаменование! Слава Вам!
... Хотя это было когда-то скорее специальностью Художественного, нежели Малого театра — улавливать и овеществлять невоплотимое, я не помню ни одной попытки, даже у Комиссаржевской и Мейерхольда, где бы театр так далеко и успешно заходил в передаче фантастического и таинственного. Знаменитые пузыри земли явились материализованными. Весь Макбет, как зрелище, поднялся вверх в дыму и испарениях авторского замысла. Я хотел перечислить все, что говорил вчера Михаилу Ивановичу и Константину Александровичу, но это затянет письмо и заслонит то главное, что я с благодарностью и головной болью от вчерашних слез сказал Вам в начале.
Ваш Б. Пастернак
Артистке, настолько стершей границы между ролью и исполнительницей, между леди Макбет и Гоголевой, что я искренне не знаю, кому надписываю тетрадку и к кому из них, в ужасе и восхищении, обращаюсь.
Б. Пастернак 20 янв. 1956 г.
Кроме совместной работы над «Макбетом» нас объединяла с Пастернаком общая любовь к грузинской поэзии и грузинскому искусству.
Мы встретились однажды у него на даче в Переделкине. За столом присутствовал и Генрих Нейгауз, который принимал участие в моих концертах. Разговор шел о грузинской поэзии. Пастернак был удивительно мил, весел и остроумен.
Таковы впечатления, связанные с «Макбетом».
После «Макбета» — Ибсен. Сжалившись над нами, участниками «Привидений», за постановку взялся В. И. Цыганков, хороший педагог и, увы, очень посредственный постановщик. Зубов видел и понимал, что Ибсен требует более серьезного подхода. Незадолго до своей смерти он вдруг сказал: «Знаю, знаю, только теперь понял, как надо ставить «Привидения», вот поправлюсь, приду и все выправим». К сожалению, он уже не вставал с постели и вскоре скончался. Мне кажется, за те почти пятнадцать-шестнадцать лет, что мы играли этот спектакль, мы сами, участники, многое выправили, углубили. Конечно, если бы с самого начала дана была прочная основа, все бы это произошло быстрее.
Очень интересно играл Освальда Никита Подгорный. Я рада, что именно по моей инициативе этот замечательный актер, по уходе из театра Матвеева, был назначен на роль Освальда.
Бывают партнеры, которых чувствуешь сразу, с которыми говоришь как бы на одном языке. Бывают партнеры, которые тебе чужды. Ты никак не можешь к ним приладиться, хотя в жизни с ними дружишь и даже считаешь единомышленниками во взглядах на театр. Глухой Остужев был мне близок и понятен на сцене, а с Радиным я не могла найти общий язык.
Матвеев играл Освальда сильно и ярко. Работать с ним было удобно и хорошо, но, мне думается, Женя делал ошибку, слишком много внимания уделяя изучению больных в специальных клиниках. Из-за этого у него во многом ушло творческое, романтическое существо Освальда-художника. Ведь трагедия в том, что гибнет художник, и большой художник, а не только человек. У Подгорного (мой любимейший партнер) существо художника, каким был Освальд, как-то особенно ярко прочерчивалось. И это было правильно.
Мне почему-то казалось, что Подгорный действительно мой сын. Он был чутким, необыкновенно творческим партнером. Мне доставляло огромное наслаждение играть с ним. Как часто после спектакля мы радостно делились внезапно возникшей на сцене свежей интонацией, новой мыслью, новым взглядом. Необычайно одаренный актер, Подгорный обладал внутренней интеллигентностью, умом и обаянием, которые, к сожалению, не всегда встречаешь даже в очень талантливых актерах.
Когда играешь роль в продолжение нескольких лет, да еще с разными партнерами, невольно пересматриваешь и свое исполнение. Да и зритель часто наталкивает на новое толкование отдельных кусков. Не говорю уже о том, что требования самой жизни не позволяют роли стоять на месте. Так случилось и с моей фру Альвинг.
В сущности, как я уже говорила, режиссерского решения не было никакого. Был текст, были актеры, были приблизительные мизансцены. Мы и играли, кто как «почувствует» роль. Вначале я все эмоции вкладывала в трагедию матери. Испытав измены, разврат, пьянство мужа, не получив никакой нравственной поддержки от своей семьи, которая считала этот брак блестящей партией, я главным образом страдала из-за сына. Последняя надежда была на пастора, но он оттолкнул молодую фру Альвинг. Что же дальше? Фру Альвинг замкнулась, отстранилась от отвратительного мужа и всю любовь перенесла на сына. Подчиняя все именно материнским чувствам, я совершенно обходила первопричину несчастий.
Ибсен назвал свою пьесу «Привидения» (в иных переводах — «Призраки»). Второе мне кажется точнее. Прошло время, и я все чаще стала вдумываться в слово «Призраки». Это не привидения, явившиеся фру Альвинг в виде легкомысленной игры, флирта Освальда с Региной. Дело не только в том, что фру Альвинг видела в этой паре как бы возрождение самого Альвинга и матери Регины. Пьесу надо понимать глубже. «Призраки» или «Привидения», о которых говорит Ибсен, это те самые ложные предрассудки общества, на страже которых стоит церковь. Яростным, глубоко убежденным защитником этих предрассудков является пастор. Вот что бичевал в первую очередь Ибсен и что надо особенно ярко вычертить в спектакле.
Поняв это, я стала придавать особое значение сценам с пастором. И потому рассказ фру Альвинг о совместной жизни с мужем — это не воспоминания о страданиях, это почти иронично-торжествующая исповедь. Виновником ее страданий был недалекий, недальновидный пастор, который, находясь в шорах своих «священных обязанностей», совершил злое дело. Вторая сцена объяснения с пастором — это уже гневное обличение слепоты, приведшей к катастрофе.
В последние годы моего исполнения роли фру Альвинг я делала сильнейший акцент именно на конфликт с фальшивыми взглядами лживого общества, которое коверкает души, ломает жизнь свободных и мыслящих людей. А ведь будучи совсем одинокой, фру Альвинг много читала, много думала, многое осознавала и, разумеется, стояла выше общества, из которого вышла и с которым не смогла бороться. Мне кажется, именно так надо было с самого начала разрешать пьесу Ибсена. И жаль, что мое прозрение, прозрение актрисы, пришло слишком поздно.
Как это часто бывало, пресса не заметила этой моей работы. Хотя во время гастролей в других городах в периферийных газетах появились интересные отзывы.
Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна! Пишет Вам одна девушка, которой Вы не знаете, но которая знает и любит Вас. Всего один раз я видела Вас, когда приезжали Вы в Пятигорск, в «Привидениях» Ибсена... Благодаря Вам я тогда впервые испытала удивительное, прекрасное чувство, которому и теперь не могу найти названия. Вы чем-то отравили меня, чем-то ранили мое сердце тогда так хорошо и так больно. Вы дали мне узнать тоску по невозможному. Тогда я узнала, что существует священный ужас, когда Вы пошатнулись, было жутко и необычно и как-то сладко. И страшно и восторг какой-то. Кажется, в Ваших глазах светились все чувства. Они менялись с какой-то бешеной быстротой, захлестывая друг друга. Не могу понять, что это такое, что делает человека, женщину такой прекрасной, прекраснее самой красивой женщины на свете…
Н. Желябовская, г. Пятигорск.
Дорогая, уважаемая Елена Николаевна! Вчера смотрела спектакль «Привидения». Не могу удержаться от того, чтобы не написать Вам о моей бесконечной благодарности за образ, созданный Вами. Сколько благородства, трагической глубины и реализма.
Это целая школа. Ваш образ до сих пор у меня перед глазами. Я его никогда не забуду.
Благодарная Фатьма Кадри (народная артистка республики), г. Баку.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
В конце 40-х—начале 50-х годов у меня были интересные работы. В пьесе Н. Вирты «Заговор обреченных», поставленной Зубовым, я играла члена Бюро ЦК компартии Ганну Лихта. Особенного резонанса спектакль не имел, хоть заняты в нем были лучшие актеры: Зеркалова, Межинский, Царев, сам Зубов. Но что-то, очевидно, не удалось найти, и спектакль по-настоящему до зрителя не дошел.
В эти годы в театр пришел Евгений Матвеев. Зубов поставил «Северные зори» Н. Никитина. Тема пьесы оккупация американцами нашего Севера в 1919 году. Хороший был спектакль. Чудесно играли и Матвеев, и Хорькова, и Роек. Моя крошечная сценка всегда доставляла мне огромную радость. Я играла мать покончившей с собой девочки, которую изнасиловали офицер американской контрразведки и его пьяные дружки. Я – мать, интеллигентка, лояльно настроенная к американцам, прихожу к полковнику, высшему начальнику контрразведки, требовать наказания виновных. И убеждаюсь в зверином облике американской военной администрации. Перелом от доверия к полному прозрению, к пониманию истинного лица полковника... И страшная боль от потери дочери — вот сущность роли. Спектакль имел успех у зрителей и общественное признание.
В управлении Малым театром наступили перемены. Ушел Л. Е. Шаповалов. Директором театра назначили М. И. Царева. Случилось так, что несколько сезонов я почти не имела новой работы. И я предложила Цареву несколько пьес с ролями, соответствующими моему возрасту. Были выбраны «Привидения» Ибсена. Однако первоначально предложенный режиссер Б. В. Эрин, по общему мнению участников будущего спектакля, не обладал достаточными творческими возможностями. Репетиции затягивались.
Два сезона у меня были простойные. И вот в 1955 году К. А. Зубов осуществил свою мечту — поставил «Макбета» Шекспира. Мне кажется, что эта работа была не под силу Зубову. Блестяще раскрывая идею и форму в далеко не совершенных современных пьесах. Зубов с Шекспиром явно не сладил. И тем не менее спектакль имел большой успех, шел всегда при переполненном зале. Я лично не была удовлетворена своей первой картиной, хотя Зубов долго и мучительно искал пути ее раскрытия. А вот сцену убийства Дункана и особенно сцену со стиранием кровавых пятен на руках, думается, я играла верно.
Любопытны были две рецензии в журнале «Театр» — критика А. Штейна и поэта И. Сельвинского. Первый очень хвалил Макбета — Царева и резко критиковал мое исполнение, называя его большой неудачей, но конкретно ничего не анализируя; а Сельвинский, в противоположность ему, писал о моей большой удаче. Вот и пойми, как надо относиться к критике! Причем Сельвинский довольно обоснованно писал, что и почему мне удалось, а Штейн просто: «...надо считать большой неудачей Гоголевой исполнение роли леди Макбет». Обе рецензии были помещены одна за другой в одном и том же номере журнала. И это доставило мне много веселых минут.
Переводчиком трагедии Шекспира был Борис Леонидович Пастернак. Это обстоятельство дало мне возможность познакомиться с одним из величайших поэтов современности. Немножко странный и чудаковатый на первый взгляд, он поражал своей искренностью и увлеченностью искусством.
Поскольку каждая строка замечательного человека интересна, я позволю себе привести письмо Пастернака, адресованное мне, и посвящение, написанное им на книге его стихов.
29 дек. 1955
Дорогая Елена Николаевна!
Я просил вчера Михаила Ивановича и Константина Александровича передать Вам мои восторги и поздравления. И они, наверное, сделали это так хорошо, что мне нечего прибавить, и я не стану утомлять Вас подробно разработанным славословием, разбором частностей. Скажу одно. Наверное, Вы и свое собственное восприятие леди Макбет, задуманное и выношенное, с таким счастьем и победою перешагнули и превысили в исполнении, что вправе теперь забыть о первой исходной мысли, которая привела Вас к Вашему торжеству. Что касается меня, то у меня, наверное, были тоже свои представления этого образа, но они так бесследно вылетели из головы, так вытеснены Вами, что мне кажется, будто Вы и есть леди Макбет подлинника, будто Шекспир писал ее с Вас, будто он Вас переводил на английский. Но это еще не высшая похвала. А высшая — это когда искусство или какое-нибудь из его проявлений растет на наших глазах от положения к положению, как растет человеческая жизнь. Когда, уходя со спектакля, зритель выносит впечатление, будто не смотрел Вас в Вашей, часами измерявшейся роли, а прожил век вместе с Вашей дерзостью и Вашим горем. Так это и было. Какой стремительный и большой шаг в преддверии нового года, какой взгляд вдаль, какое предзнаменование! Слава Вам!
... Хотя это было когда-то скорее специальностью Художественного, нежели Малого театра — улавливать и овеществлять невоплотимое, я не помню ни одной попытки, даже у Комиссаржевской и Мейерхольда, где бы театр так далеко и успешно заходил в передаче фантастического и таинственного. Знаменитые пузыри земли явились материализованными. Весь Макбет, как зрелище, поднялся вверх в дыму и испарениях авторского замысла. Я хотел перечислить все, что говорил вчера Михаилу Ивановичу и Константину Александровичу, но это затянет письмо и заслонит то главное, что я с благодарностью и головной болью от вчерашних слез сказал Вам в начале.
Ваш Б. Пастернак
Артистке, настолько стершей границы между ролью и исполнительницей, между леди Макбет и Гоголевой, что я искренне не знаю, кому надписываю тетрадку и к кому из них, в ужасе и восхищении, обращаюсь.
Б. Пастернак 20 янв. 1956 г.
Кроме совместной работы над «Макбетом» нас объединяла с Пастернаком общая любовь к грузинской поэзии и грузинскому искусству.
Мы встретились однажды у него на даче в Переделкине. За столом присутствовал и Генрих Нейгауз, который принимал участие в моих концертах. Разговор шел о грузинской поэзии. Пастернак был удивительно мил, весел и остроумен.
Таковы впечатления, связанные с «Макбетом».
После «Макбета» — Ибсен. Сжалившись над нами, участниками «Привидений», за постановку взялся В. И. Цыганков, хороший педагог и, увы, очень посредственный постановщик. Зубов видел и понимал, что Ибсен требует более серьезного подхода. Незадолго до своей смерти он вдруг сказал: «Знаю, знаю, только теперь понял, как надо ставить «Привидения», вот поправлюсь, приду и все выправим». К сожалению, он уже не вставал с постели и вскоре скончался. Мне кажется, за те почти пятнадцать-шестнадцать лет, что мы играли этот спектакль, мы сами, участники, многое выправили, углубили. Конечно, если бы с самого начала дана была прочная основа, все бы это произошло быстрее.
Очень интересно играл Освальда Никита Подгорный. Я рада, что именно по моей инициативе этот замечательный актер, по уходе из театра Матвеева, был назначен на роль Освальда.
Бывают партнеры, которых чувствуешь сразу, с которыми говоришь как бы на одном языке. Бывают партнеры, которые тебе чужды. Ты никак не можешь к ним приладиться, хотя в жизни с ними дружишь и даже считаешь единомышленниками во взглядах на театр. Глухой Остужев был мне близок и понятен на сцене, а с Радиным я не могла найти общий язык.
Матвеев играл Освальда сильно и ярко. Работать с ним было удобно и хорошо, но, мне думается, Женя делал ошибку, слишком много внимания уделяя изучению больных в специальных клиниках. Из-за этого у него во многом ушло творческое, романтическое существо Освальда-художника. Ведь трагедия в том, что гибнет художник, и большой художник, а не только человек. У Подгорного (мой любимейший партнер) существо художника, каким был Освальд, как-то особенно ярко прочерчивалось. И это было правильно.
Мне почему-то казалось, что Подгорный действительно мой сын. Он был чутким, необыкновенно творческим партнером. Мне доставляло огромное наслаждение играть с ним. Как часто после спектакля мы радостно делились внезапно возникшей на сцене свежей интонацией, новой мыслью, новым взглядом. Необычайно одаренный актер, Подгорный обладал внутренней интеллигентностью, умом и обаянием, которые, к сожалению, не всегда встречаешь даже в очень талантливых актерах.
Когда играешь роль в продолжение нескольких лет, да еще с разными партнерами, невольно пересматриваешь и свое исполнение. Да и зритель часто наталкивает на новое толкование отдельных кусков. Не говорю уже о том, что требования самой жизни не позволяют роли стоять на месте. Так случилось и с моей фру Альвинг.
В сущности, как я уже говорила, режиссерского решения не было никакого. Был текст, были актеры, были приблизительные мизансцены. Мы и играли, кто как «почувствует» роль. Вначале я все эмоции вкладывала в трагедию матери. Испытав измены, разврат, пьянство мужа, не получив никакой нравственной поддержки от своей семьи, которая считала этот брак блестящей партией, я главным образом страдала из-за сына. Последняя надежда была на пастора, но он оттолкнул молодую фру Альвинг. Что же дальше? Фру Альвинг замкнулась, отстранилась от отвратительного мужа и всю любовь перенесла на сына. Подчиняя все именно материнским чувствам, я совершенно обходила первопричину несчастий.
Ибсен назвал свою пьесу «Привидения» (в иных переводах — «Призраки»). Второе мне кажется точнее. Прошло время, и я все чаще стала вдумываться в слово «Призраки». Это не привидения, явившиеся фру Альвинг в виде легкомысленной игры, флирта Освальда с Региной. Дело не только в том, что фру Альвинг видела в этой паре как бы возрождение самого Альвинга и матери Регины. Пьесу надо понимать глубже. «Призраки» или «Привидения», о которых говорит Ибсен, это те самые ложные предрассудки общества, на страже которых стоит церковь. Яростным, глубоко убежденным защитником этих предрассудков является пастор. Вот что бичевал в первую очередь Ибсен и что надо особенно ярко вычертить в спектакле.
Поняв это, я стала придавать особое значение сценам с пастором. И потому рассказ фру Альвинг о совместной жизни с мужем — это не воспоминания о страданиях, это почти иронично-торжествующая исповедь. Виновником ее страданий был недалекий, недальновидный пастор, который, находясь в шорах своих «священных обязанностей», совершил злое дело. Вторая сцена объяснения с пастором — это уже гневное обличение слепоты, приведшей к катастрофе.
В последние годы моего исполнения роли фру Альвинг я делала сильнейший акцент именно на конфликт с фальшивыми взглядами лживого общества, которое коверкает души, ломает жизнь свободных и мыслящих людей. А ведь будучи совсем одинокой, фру Альвинг много читала, много думала, многое осознавала и, разумеется, стояла выше общества, из которого вышла и с которым не смогла бороться. Мне кажется, именно так надо было с самого начала разрешать пьесу Ибсена. И жаль, что мое прозрение, прозрение актрисы, пришло слишком поздно.
Как это часто бывало, пресса не заметила этой моей работы. Хотя во время гастролей в других городах в периферийных газетах появились интересные отзывы.
Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна! Пишет Вам одна девушка, которой Вы не знаете, но которая знает и любит Вас. Всего один раз я видела Вас, когда приезжали Вы в Пятигорск, в «Привидениях» Ибсена... Благодаря Вам я тогда впервые испытала удивительное, прекрасное чувство, которому и теперь не могу найти названия. Вы чем-то отравили меня, чем-то ранили мое сердце тогда так хорошо и так больно. Вы дали мне узнать тоску по невозможному. Тогда я узнала, что существует священный ужас, когда Вы пошатнулись, было жутко и необычно и как-то сладко. И страшно и восторг какой-то. Кажется, в Ваших глазах светились все чувства. Они менялись с какой-то бешеной быстротой, захлестывая друг друга. Не могу понять, что это такое, что делает человека, женщину такой прекрасной, прекраснее самой красивой женщины на свете…
Н. Желябовская, г. Пятигорск.
Дорогая, уважаемая Елена Николаевна! Вчера смотрела спектакль «Привидения». Не могу удержаться от того, чтобы не написать Вам о моей бесконечной благодарности за образ, созданный Вами. Сколько благородства, трагической глубины и реализма.
Это целая школа. Ваш образ до сих пор у меня перед глазами. Я его никогда не забуду.
Благодарная Фатьма Кадри (народная артистка республики), г. Баку.
Дата публикации: 27.07.2005