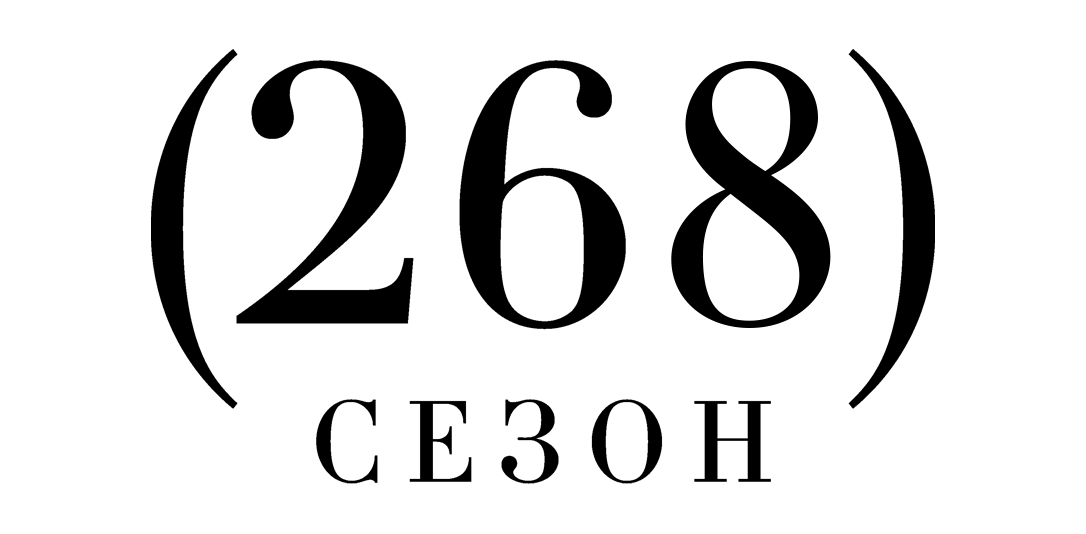Новости
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой» Е.Н. ГОГОЛЕВА
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
СОРОКОВЫЕ ГОДЫ
Начало 40-х годов было в театре очень тяжелым. Для атмосферы, царившей в театре, типичен такой случай. Заболел Остужев. Но «Уриэля Акосту» не отменили, заглавную роль играл постановщик спектакля, механически копировавший жесты и интонации Остужева.
В репертуаре театра ведущее место занимали спектакли, не отвечающие ни стилю, ни духу Малого театра.
Я редко бывала в театре. Играла «Стакан воды» и «Уриэля» с новым исполнителем. Смотрела, как то, что могла бы играть я, играют другие. Были еще и «Варвары». Но, как я уже говорила, ни в прессе, ни в театре меня не замечали. Болезнь, еженедельный пневмоторакс не позволяли мне опять ехать с бригадами на фронт. Единственное, что я могла, — это обслуживать призывные пункты и госпитали Москвы. Я завидовала Остужеву. Он рвался в военно-шефские бригады. И настоял, поехал, читал на фронте отрывки из «Войны и мира».
В театре готовили пьесу А. Н. Толстого «Иван Грозный». Конечно, я не была занята. Внезапно звонит мне наша всеми любимая секретарь дирекции Елизавета Фирсовна и предупреждает, что сегодняшняя премьера висит на волоске. Все в панике. Мне будут звонить, так как исполнительница главной роли—Марьи Темрюковны—сообщила, что играть не будет, «заболела». Это в Малом-то театре? Сорвать премьеру? Да у нас никогда ничего подобного не было! Хоть умирай, а премьеру играй!
В кабинете у директора Л.Е. Шаповалова экстренное совещание — постановщик Судаков, Пашенная и сам Шаповалов. Отменять спектакль нельзя. На премьеру ждали членов правительства. Что делать? До спектакля остается четыре часа. В три часа Елизавета Фирсовна официально вызывает меня к Шаповалову. «Выручайте, Елена Николаевна, надо играть». Но ведь я даже в зале на репетициях не бывала, роль мне не предлагали, я не упоминалась в приказе. Я надеялась на свою память, знала, что Темрюковна не все время на сцене, что есть свободные промежуточные картины. Думаю: текст успею подучить, но отказываться нельзя. Ведь я актриса Малого театра. «Идемте репетировать», — сказала я мрачному Судакову. Мы пошли на сцену, мне быстро показали мизансцены, сунули в руки листки роли, и заведующая костюмерной О. Севастьянова стала подбирать костюмы, так как уже сшитые были мне не в пору, да я бы в них и не играла.
В общем, примеряя, репетируя, я уже учила текст, и вдруг — звонок от премьерши, что она вечером играть будет. Судаков очень обрадовался, все опять в растерянности, до спектакля два часа.
Шаповалов в бешенстве требует: «Играть будет Гоголева!»
Я вижу и понимаю общую растерянность. И говорю Судакову и всем присутствующим: «Вот что, товарищи, если она выздоровела, пусть сегодня играет она. Всем участвующим, а главное, Коле Соловьеву (он играл Грозного) будет спокойнее играть премьеру с ней, а за меня все станут волноваться, и это скажется на спектакле. О спектакле надо думать прежде всего. Ну а я сыграю в следующий раз. Так будет справедливее».
Стоило большого труда убедить Шаповалова, который был возмущен выходкой премьерши. Именно я уговорила его думать о спектакле, и именно он настоял на моем вводе во второй спектакль.
Однако премьера прошла неудачно, было сделано несколько существенных замечаний. Вскоре последовал уход из театра Судакова. И ставить «Грозного» заново поручили Прову Михайловичу Садовскому, который был назначен художественным руководителем театра. Роль Марьи Темрюковны перешла ко мне.
Война и впечатления от фронтовой поездки многое заставили меня пересмотреть и в себе самой и в моих товарищах. Как мне хотелось тогда сыграть положительную советскую героиню, как глубоко чувствовала я современность! Но если мне и выпадали роли в советском репертуаре, все это были шпионки или «роковые» женщины. Я опять сидела без работы, играла старые роли, непрерывно думая о них и находя все новые и новые черточки. Иногда, может быть, ошибаясь, а иногда достигая успеха. Стала пересматривать «Стакан воды», глубже понимать Надежду в «Варварах». Думалось, что иду правильным путем. Мое несчастье заключалось в том, что генеральные репетиции и первые спектакли я всегда играла плохо, с нажимом, не веря в себя. Роль получалась уже на десятом-двенадцатом спектакле. Помогал зрительный зал. Чувствовала его тепло, проходила скованность от недоброжелательства, как мне казалось, первых зрителей, своих же «товарищей», а их было не так уж мало.
В 1943 году я получила роль Лауренсии в «Овечьем источнике». Ставил Б. И. Вершилов, художник — И.М. Рабинович. Репетировали долго, с перерывами. Работа шла как-то судорожно. Я знала, что симпатий постановка не вызовет. Однако генеральная прошла с огромным успехом, в зале были работники и секретари нашего райкома. Но премьера не пошла. Почему? Не знаю. До сих пор мне это неясно. Может быть, действительно я не вытянула, может, Вершилов был непригоден для этой постановки. А райкомовцы долго потом говорили мне о громадном впечатлении, какое они получили от нашего «Овечьего источника».
Очень хороши были Фрондосо — Анненков и Командор — Аксенов. Всеволод тогда опять вернулся в театр, но ненадолго, и ушел, уже окончательно, через год.
Переживала ли я свой «провал»? Нет. Я была к нему готова. Да и некогда было особенно грустить — Игорь ведь пропал без вести. И еще. В то же время я получила настойчивое приглашение от Эйзенштейна сниматься у него в «Иване Грозном» в роли Ефросиньи Старицкой. Ехать надо было в Алма-Ату. Вероятно, я сделала огромную ошибку — отказалась. Что меня заставило это сделать? Да, до некоторой степени — моя болезнь. Не отпускали меня врачи. Но Эйзенштейн! Работать с таким режиссером! Да, ошибка, которую я никогда себе не прощу.
Как-то случилось, что заболела исполнительница роли Ольги в «Нашествии» — Ксюша Тарасова. «Вспомнили», что эта роль была дана мне. Опять пришлось выручать и без репетиций входить в постановку. Когда после спектакля товарищи окружили меня и стали поздравлять, Коля Соловьев обнял меня и закричал: «Говорили — нет у нас социальной героини, да вот же она! Вот!» Да, кажется, я сыграла правильно, во всяком случае, мне было почему-то легко. А тут еще пришла открытка от летчика, с которым на пикировщике летал Горик. Летчик сообщил, что их самолет горел, и он приказал Игорю прыгать, и что Игорь, прыгая, был жив. Произошло это в районе Харькова. Сам летчик дотянул до своих, но долго добирался до части. Значит, жив! Это главное: жив мой Игорь! Шел 1943 год.
И опять молчание. Лечение мое давало хорошие результаты, и я решила, что могу и должна делать что-то важное. Новых ролей нет, значит, надо отдать силы и время общественной работе, не сидеть сложа руки.
В 1934—1936 годах я была председателем месткома театра. Хотела вступить в партию. Тогда не существовало кандидатского стажа, его заменял как бы институт сочувствующих. Я была в эти годы так называемой «сочувствующей», выполняла большую работу как предместкома и являлась членом районной избирательной комиссии по выборам в Советы. Однако болезнь прекратила мою общественную деятельность. Но теперь, когда шла война, когда я на многое смотрела более пристальным и внимательным взглядом, мне казалось, что идти в партию без» общественного багажа нельзя. Это несерьезно. И вот все свободное от театра время я стала отдавать общественной работе. Меня опять избрали председателем месткома, и если мне нельзя было ехать на фронт, то уж работать в месткоме и по военно-шефской линии в Москве — мой прямой долг. Почти все дни я проводила в административном крыле театра, встречалась со всеми бригадами, отправлявшимися на фронт, и всех просила: дать знать, если услышат что-нибудь об Игоре. В 1944 году мне позвонил незнакомый голос и пригласил зайти по такому-то адресу в один из переулков на Якиманке. Мне сообщат кое-что об Игоре. Не помня себя, я бросилась по указанному адресу. Оказалось, что мальчик из этой семьи был в плену вместе с Игорем в 1943 году. Игоря сначала держали в «цивильном» отделении, но потом один подлец его опознал, сказал немцам, что это военный летчик, сын артистки Гоголевой, что его видели со мной в Вахтанговском театре. Игоря сейчас же перевели в военный концлагерь и, кажется, отправили из Краматорска в Лодзь.
Это была все же весточка. Значит, в 1943 году Игорь был жив. Жив. Шел уже 1944 год. Что же произошло за этот год? Жив ли сейчас? С мыслью об этом я и жила. Ждала и верила, что будет жив, что увижу его. Верила!
В конце 1944 года опять неожиданная весточка. Звонок. Открываю дверь. Стоит молодой парень. «Вы Елена Николаевна Гоголева?» — «Я». — «Я хочу кое-что сообщить о вашем сыне». Затаскиваю его в квартиру. Симпатичное, грустное лицо и весь такой застенчивый, смущенный. Говорит, что видел Игоря в начале 1944 года, январе—феврале. Концлагерь где-то около Магдебурга, точно не знает. В лагере прошел слух, что привезли какого-то летчика, сразу в карцер. Потом летчика отправили в другой лагерь — куда, конечно, неизвестно. Говорили, что этот летчик несколько раз бежал, его ловили. Смелый, и потому с ним обращаются особо строго. Но не расстрел. Видел его мельком, когда выводили из карцера. Вот и все. Значит, в начале 1944 года был жив. А теперь война шла к концу. И во мне крепла вера, что Игорь вот-вот вернется.
Незабываемы дни Победы. Помню, в Большом зале консерватории был концерт s помощь пострадавшим от войны семьям. После концерта за скромным чаем сидели в аванложе дирекции. И вдруг приносят известие: «Берлин взят!» Ждали этого, были готовы, а все-таки не верилось в такое счастье. Концерт был днем, а вечером в антракте вышел перед занавесом к публике кто-то из актеров и объявил: «Товарищи, Берлин взят нашими войсками!!!»
Что было в Москве 9 мая — описать невозможно. В театре шел спектакль «Иван Грозный». Машина не могла протиснуться сквозь толпы ликующих, плачущих, обнимающихся людей. Кого-то качали, в воздух взлетали военные. Непрерывный салют на Красной площади. Я все это видела, понимала, чувствовала, а в горле комок — от Игоря ни звука.
В театре, как и повсюду, было ликование. Шли бурные митинги, потом импровизированный не то пляс, не то бешеная кадриль. Я не смогла прийти в театр. Боялась, что расплачусь, внесу горькую ноту в общий праздник.
И вот в июле 1945 года — письмо. Наша Тося, чудесная домоправительница, действительно верный друг, вдруг кричит: «Письмо, Елена Николаевна, письмо от Игоря!» Надо сказать, что все письма всегда просматривала Тося, она даже скрыла от меня похоронку на Игоря, и я не знала о ней, пока не получила второе извещение: «Пропал без вести». Так вот и сейчас—письмо от Игоря, ее радостный крик, а я, которая все время верила и ждала Игоря или хотя бы весточки от него или о нем, я не поверила. Держала письмо, видела почерк Игоря, обратный адрес с его фамилией, а не верила. «Да распечатайте же, прочитайте!» — кричала Тося. А я окаменела, в буквальном смысле этого слова. Как, через кого ему удалось дать о себе знать—не понимаю. Но это было его письмо, он писал уже после Победы.
Значит, живой! Дальнейшее происходило как во сне. Через два месяца Игорь был со мной, дома. Вся его жизнь за годы плена — это отдельная, почти фантастическая книга. И как он уцелел, при его характере, при его побегах, при его дерзости, — это чудо! Без всяких с моей стороны просьб и нажимов ему сразу выдали московский паспорт, все проверки он прошел еще до возвращения. Но вернуться в армию он уже не мог и мучительно переживал отрыв от военной авиации. Служить в гражданской авиации Игорь не хотел, а поскольку у него был абсолютный слух, отец устроил его тонмейстером-режиссером в Дом звукозаписи, где сам тогда работал.
Так прошел знаменательный 1945 год. С удвоенной энергией работала я в месткоме театра. Я уже совсем выздоровела. Пневмоторакс сделал свое дело. И я все упорнее стала думать о вступлении в партию. Теперь, казалось мне, я могу быть полезной, могу выполнять партийную работу. В 1947 году я подала заявление и была принята кандидатом в члены ВКП(б).
Здесь я хочу вспомнить о П. Л. Войкове, человеке, который сыграл огромную роль в формировании моего гражданского сознания. В начале 20-х годов моя дальняя родственница. Вера Лукьяновская, работала секретарем Войкова. Я часто забегала навестить мою родственницу, благо, ее служба находилась недалеко от театра. Войков редко вызывал Веру в свой кабинет и предпочитал сам приносить некоторые бумаги для перепечатки. Так и состоялось наше знакомство. Зная от Веры, что я актриса Малого театра, он задерживался на несколько минут, расспрашивая меня о театре. Всегда предупредительный, вежливый, внимательный, в элегантном костюме, Войков производил впечатление человека большой культуры, безукоризненного воспитания, прекрасно разбирающегося в литературе и искусстве. И вот, несколько осмелев, я стала вступать с ним в споры о некоторых мне непонятных «директивах большевиков». Осторожно, ненавязчиво Войков поправлял мои обывательские суждения, подчас глупую критику действий молодого правительства, и его спокойные и доходчивые слова все глубже входили в мое сознание, заставляли задуматься о том, что несла революция. Я думаю, что эти, хотя и немногочисленные, беседы с Войковым были для меня первыми зернами сознательности и понимания Октября.
В 1947 году исполнилось и заветное мое желание создать образ положительной советской героини. Б. А. Лавренев принес в театр пьесу «За тех, кто в море!». Центральную роль поручили Д. В. Зеркаловой, но в пьесе была еще роль Гореловой, актрисы фронтового театра, которая потеряла во время войны мужа и ребенка. На флоте она встретила, как ей казалось, человека смелого, умного, честного, которого полюбила... и ошиблась.
Я уже перестала ходить с моими вечными просьбами о положительной женской роли, как вдруг счастье мне улыбнулось. А. Д. Дикий, который сначала был назначен постановщиком, почему-то отказался, и спектакль взялись ставить К. А. Зубов и В. И. Цыганков. Роль Гореловой дали мне. Я думаю, что и болезнь, и фронтовые впечатления, и переживания за Игоря что-то очень переменили в моем творчестве. Ушел штамп роковых женщин, вечных злодеек, любовниц, шпионок. Пришло нечто другое, простое, глубокое и непоказное. Я перестала «представлять», «декламировать», стала жить и даже говорить просто. Да и вся роль Гореловой оказалась мне близкой. Я бывала на фронте, я теряла сына, мне все это было понятно. По-видимому, и для окружающих я вдруг стала иной. Было радостно, когда Лавренев на премьере подошел ко мне и сказал: «Вы сыграли больше, чем я написал, благодарю вас».
Спектакль «За тех, кто в море!» получил Государственную премию СССР — были отмечены постановщики, исполнители центральных мужских ролей, а из женщин только я.
Скоро мы переехали опять в наш старый, родной Малый театр. Его отремонтировали. — В уборной Южина стали гримироваться Яблочкина и Пашенная. Теперь эта гримуборная перешла ко мне.
Всегда вспоминаю, что именно в этой уборной у Александра Ивановича был и кабинет, и гримерная, и приемная. Я постаралась расставить мебель так, как было при Южине. Сюда он однажды вызвал меня во время антракта «Горя от ума». Волновалась я страшно — вызов к Южину во время спектакля?! Что-нибудь я сделала не так? Что случилось? Содрогаясь, я постучала. Вошла. Южин был не один. Рядом с ним сидела молоденькая девушка. Очень приветливо, как всегда, и немного церемонно Александр Иванович произнес: «Позвольте вам представить вашу пламенную поклонницу—это моя племянница». Не знаю, кто из нас был более смущен, я или Муся — Мария Александровна Богуславская, та молоденькая девушка с чудесными косами, Муся, навсегда ставшая моим другом. А было это, когда обеим нам не исполнилось еще и двадцати лет. В моей уборной всегда висят портреты Южина и Ермоловой. Часто, часто смотрю я на них.
Итак, в 1947 году меня приняли кандидатом в члены ВКП(б), а в 1948 году я получила красную книжечку— билет члена Коммунистической партии. Как-то по-особому стала относиться я и к своей работе в театре, и к общественным делам, и... к жизни. Ответственность коммуниста—это и серьезно, и дорого, и почетно!
Почти сейчас же после «За тех, кто в море!» Зубов пригласил Н. В. Петрова на постановку пьесы Б. С. Ромашова «Великая сила». Директора института Милягина хорошо играл недавно вступивший в труппу Ф. В. Григорьев, академика Остроумова — также только пришедший в коллектив Н. В. Комиссаров. Творчески очень интересные люди, эти актеры как-то сразу вошли в Малый театр, как-то сразу очень пришлись ко двору. Я в «Великой силе» играла Лаврову. Этот спектакль тоже получил Государственную премию СССР. Играли мы его на сцене Малого театра, а вот силы, духа Малого театра уже не было. Корабль наш начал крениться. И хоть были. премии и как будто и успех, а все же стало что-то провинциальное, не академия.
Получила я и еще одну Государственную премию СССР—за «Московский характер» А. В. Софронова. Играла я секретаря райкома. Спектакль ставил А. Д. Дикий. Приятно было, что вошел в театр мастер, но я как-то не чувствовала его режиссерской руки, мало он делал мне замечаний. Центральную роль — директора завода — играл Ф. В. Григорьев, Гриневу — Е. М. Шатрова. Молодую работницу — только что приглашенная из Таганрогского театра Е. М. Солодова. Как будто бы все- шло хорошо, но... Пров Михайлович Садовский уже ушел из жизни, умер и Николай Капитонович Яковлев. Умирал и старый Малый театр.
Кончались 40-е годы. Все шире разворачивалась моя общественная работа, но на душе было тревожно. Не та атмосфера, не та сплоченность коллектива, и репертуар как-то не соответствовал назначению и масштабу Малого театра, ушла куда-то классика. Правда, и «Горе от ума», и «Ревизор», и Островский еще не сходили с афиши театра, но ни о Шекспире, ни о Мольере никто не заикался. Современные пьесы игрались, скорее, по-коршевски. Все как-то принижалось, и, я бы сказала, что-то дешевое вползало к нам. Тем не менее и в 40-е годы были и успехи и интересные замыслы.
В 1946 году в Малый театр были приглашены на постановку пьесы Скриба и Легуве «Новеллы Маргариты Наваррской» режиссеры О. И. Пыжова и Б. В. Бибиков. Как и во всех пьесах Скриба, в ней немного ролей, всего шесть. Интрига ее очень занимательная, и характеры выписаны интересно. Короля Карла со свойственным ему мастерством играл С. Б. Межинский, роль инфанты Изабеллы очаровательно исполняла недавно пришедшая к нам из Тамбова Т.А. Еремеева, совсем молоденькой придворной дамы — выпускница Щепкинского училища И.А. Ликсо. Маргариту играла я, моего преданного рыцаря —Д.С. Павлов. Блестяще сыграл Франциска I М.И. Царев. Играл эту роль и Аксенов, но посредственно и небрежно. А жаль! У него были для нее все данные.
Я много читала о Маргарите Наваррской, даже достала и прочла в подлиннике и в переводе ее «Новеллы», была очень увлечена этой ролью. Спектакль прошел с успехом, однако после шести представлений в филиале его сняли с репертуара по причине безыдейности пьесы.
Из других моих работ 40-х годов я хотела бы отметить новый вариант леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь», поставленном режиссером В. Абашидзе в 1937 году. Постановщик и художник П. Оцхели стремились восстановить XVIII век, но трактовали его в манере «Мира искусства», представляли в условном и стилизованном виде. Это определило и мою трактовку образа леди Мильфорд. На протяжении всего спектакля я изображала из себя фарфоровую статуэтку.
Иное толкование характера леди Мильфорд давала я в спектакле, поставленном в 1949 году режиссером В. И. Цыганковым. Это было вызвано и самим стилем постановки и тем, что роль Фердинанда играл такой актер, как Царев. Сохраняя амплуа любовника, необходимое для этой роли, будучи чрезвычайно обаятельным, Царев вносил в свое исполнение большую человечность. Она проявлялась прежде всего в его чувстве к Луизе, которую очень хорошо, мягко играла Еремеева.
Моя леди Мильфорд была и сильная и глубоко любящая женщина. Я оправдывала ее уход из герцогства. Леди Мильфорд понимает, что она всего только фаворитка, и гордо покидает двор, сохраняя этим свое достоинство. Образ был освобожден от внешней мишуры, стал более сложным.
Таким образом, в 40-е годы мне удалось сделать известные шаги в развитии своего мастерства.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
СОРОКОВЫЕ ГОДЫ
Начало 40-х годов было в театре очень тяжелым. Для атмосферы, царившей в театре, типичен такой случай. Заболел Остужев. Но «Уриэля Акосту» не отменили, заглавную роль играл постановщик спектакля, механически копировавший жесты и интонации Остужева.
В репертуаре театра ведущее место занимали спектакли, не отвечающие ни стилю, ни духу Малого театра.
Я редко бывала в театре. Играла «Стакан воды» и «Уриэля» с новым исполнителем. Смотрела, как то, что могла бы играть я, играют другие. Были еще и «Варвары». Но, как я уже говорила, ни в прессе, ни в театре меня не замечали. Болезнь, еженедельный пневмоторакс не позволяли мне опять ехать с бригадами на фронт. Единственное, что я могла, — это обслуживать призывные пункты и госпитали Москвы. Я завидовала Остужеву. Он рвался в военно-шефские бригады. И настоял, поехал, читал на фронте отрывки из «Войны и мира».
В театре готовили пьесу А. Н. Толстого «Иван Грозный». Конечно, я не была занята. Внезапно звонит мне наша всеми любимая секретарь дирекции Елизавета Фирсовна и предупреждает, что сегодняшняя премьера висит на волоске. Все в панике. Мне будут звонить, так как исполнительница главной роли—Марьи Темрюковны—сообщила, что играть не будет, «заболела». Это в Малом-то театре? Сорвать премьеру? Да у нас никогда ничего подобного не было! Хоть умирай, а премьеру играй!
В кабинете у директора Л.Е. Шаповалова экстренное совещание — постановщик Судаков, Пашенная и сам Шаповалов. Отменять спектакль нельзя. На премьеру ждали членов правительства. Что делать? До спектакля остается четыре часа. В три часа Елизавета Фирсовна официально вызывает меня к Шаповалову. «Выручайте, Елена Николаевна, надо играть». Но ведь я даже в зале на репетициях не бывала, роль мне не предлагали, я не упоминалась в приказе. Я надеялась на свою память, знала, что Темрюковна не все время на сцене, что есть свободные промежуточные картины. Думаю: текст успею подучить, но отказываться нельзя. Ведь я актриса Малого театра. «Идемте репетировать», — сказала я мрачному Судакову. Мы пошли на сцену, мне быстро показали мизансцены, сунули в руки листки роли, и заведующая костюмерной О. Севастьянова стала подбирать костюмы, так как уже сшитые были мне не в пору, да я бы в них и не играла.
В общем, примеряя, репетируя, я уже учила текст, и вдруг — звонок от премьерши, что она вечером играть будет. Судаков очень обрадовался, все опять в растерянности, до спектакля два часа.
Шаповалов в бешенстве требует: «Играть будет Гоголева!»
Я вижу и понимаю общую растерянность. И говорю Судакову и всем присутствующим: «Вот что, товарищи, если она выздоровела, пусть сегодня играет она. Всем участвующим, а главное, Коле Соловьеву (он играл Грозного) будет спокойнее играть премьеру с ней, а за меня все станут волноваться, и это скажется на спектакле. О спектакле надо думать прежде всего. Ну а я сыграю в следующий раз. Так будет справедливее».
Стоило большого труда убедить Шаповалова, который был возмущен выходкой премьерши. Именно я уговорила его думать о спектакле, и именно он настоял на моем вводе во второй спектакль.
Однако премьера прошла неудачно, было сделано несколько существенных замечаний. Вскоре последовал уход из театра Судакова. И ставить «Грозного» заново поручили Прову Михайловичу Садовскому, который был назначен художественным руководителем театра. Роль Марьи Темрюковны перешла ко мне.
Война и впечатления от фронтовой поездки многое заставили меня пересмотреть и в себе самой и в моих товарищах. Как мне хотелось тогда сыграть положительную советскую героиню, как глубоко чувствовала я современность! Но если мне и выпадали роли в советском репертуаре, все это были шпионки или «роковые» женщины. Я опять сидела без работы, играла старые роли, непрерывно думая о них и находя все новые и новые черточки. Иногда, может быть, ошибаясь, а иногда достигая успеха. Стала пересматривать «Стакан воды», глубже понимать Надежду в «Варварах». Думалось, что иду правильным путем. Мое несчастье заключалось в том, что генеральные репетиции и первые спектакли я всегда играла плохо, с нажимом, не веря в себя. Роль получалась уже на десятом-двенадцатом спектакле. Помогал зрительный зал. Чувствовала его тепло, проходила скованность от недоброжелательства, как мне казалось, первых зрителей, своих же «товарищей», а их было не так уж мало.
В 1943 году я получила роль Лауренсии в «Овечьем источнике». Ставил Б. И. Вершилов, художник — И.М. Рабинович. Репетировали долго, с перерывами. Работа шла как-то судорожно. Я знала, что симпатий постановка не вызовет. Однако генеральная прошла с огромным успехом, в зале были работники и секретари нашего райкома. Но премьера не пошла. Почему? Не знаю. До сих пор мне это неясно. Может быть, действительно я не вытянула, может, Вершилов был непригоден для этой постановки. А райкомовцы долго потом говорили мне о громадном впечатлении, какое они получили от нашего «Овечьего источника».
Очень хороши были Фрондосо — Анненков и Командор — Аксенов. Всеволод тогда опять вернулся в театр, но ненадолго, и ушел, уже окончательно, через год.
Переживала ли я свой «провал»? Нет. Я была к нему готова. Да и некогда было особенно грустить — Игорь ведь пропал без вести. И еще. В то же время я получила настойчивое приглашение от Эйзенштейна сниматься у него в «Иване Грозном» в роли Ефросиньи Старицкой. Ехать надо было в Алма-Ату. Вероятно, я сделала огромную ошибку — отказалась. Что меня заставило это сделать? Да, до некоторой степени — моя болезнь. Не отпускали меня врачи. Но Эйзенштейн! Работать с таким режиссером! Да, ошибка, которую я никогда себе не прощу.
Как-то случилось, что заболела исполнительница роли Ольги в «Нашествии» — Ксюша Тарасова. «Вспомнили», что эта роль была дана мне. Опять пришлось выручать и без репетиций входить в постановку. Когда после спектакля товарищи окружили меня и стали поздравлять, Коля Соловьев обнял меня и закричал: «Говорили — нет у нас социальной героини, да вот же она! Вот!» Да, кажется, я сыграла правильно, во всяком случае, мне было почему-то легко. А тут еще пришла открытка от летчика, с которым на пикировщике летал Горик. Летчик сообщил, что их самолет горел, и он приказал Игорю прыгать, и что Игорь, прыгая, был жив. Произошло это в районе Харькова. Сам летчик дотянул до своих, но долго добирался до части. Значит, жив! Это главное: жив мой Игорь! Шел 1943 год.
И опять молчание. Лечение мое давало хорошие результаты, и я решила, что могу и должна делать что-то важное. Новых ролей нет, значит, надо отдать силы и время общественной работе, не сидеть сложа руки.
В 1934—1936 годах я была председателем месткома театра. Хотела вступить в партию. Тогда не существовало кандидатского стажа, его заменял как бы институт сочувствующих. Я была в эти годы так называемой «сочувствующей», выполняла большую работу как предместкома и являлась членом районной избирательной комиссии по выборам в Советы. Однако болезнь прекратила мою общественную деятельность. Но теперь, когда шла война, когда я на многое смотрела более пристальным и внимательным взглядом, мне казалось, что идти в партию без» общественного багажа нельзя. Это несерьезно. И вот все свободное от театра время я стала отдавать общественной работе. Меня опять избрали председателем месткома, и если мне нельзя было ехать на фронт, то уж работать в месткоме и по военно-шефской линии в Москве — мой прямой долг. Почти все дни я проводила в административном крыле театра, встречалась со всеми бригадами, отправлявшимися на фронт, и всех просила: дать знать, если услышат что-нибудь об Игоре. В 1944 году мне позвонил незнакомый голос и пригласил зайти по такому-то адресу в один из переулков на Якиманке. Мне сообщат кое-что об Игоре. Не помня себя, я бросилась по указанному адресу. Оказалось, что мальчик из этой семьи был в плену вместе с Игорем в 1943 году. Игоря сначала держали в «цивильном» отделении, но потом один подлец его опознал, сказал немцам, что это военный летчик, сын артистки Гоголевой, что его видели со мной в Вахтанговском театре. Игоря сейчас же перевели в военный концлагерь и, кажется, отправили из Краматорска в Лодзь.
Это была все же весточка. Значит, в 1943 году Игорь был жив. Жив. Шел уже 1944 год. Что же произошло за этот год? Жив ли сейчас? С мыслью об этом я и жила. Ждала и верила, что будет жив, что увижу его. Верила!
В конце 1944 года опять неожиданная весточка. Звонок. Открываю дверь. Стоит молодой парень. «Вы Елена Николаевна Гоголева?» — «Я». — «Я хочу кое-что сообщить о вашем сыне». Затаскиваю его в квартиру. Симпатичное, грустное лицо и весь такой застенчивый, смущенный. Говорит, что видел Игоря в начале 1944 года, январе—феврале. Концлагерь где-то около Магдебурга, точно не знает. В лагере прошел слух, что привезли какого-то летчика, сразу в карцер. Потом летчика отправили в другой лагерь — куда, конечно, неизвестно. Говорили, что этот летчик несколько раз бежал, его ловили. Смелый, и потому с ним обращаются особо строго. Но не расстрел. Видел его мельком, когда выводили из карцера. Вот и все. Значит, в начале 1944 года был жив. А теперь война шла к концу. И во мне крепла вера, что Игорь вот-вот вернется.
Незабываемы дни Победы. Помню, в Большом зале консерватории был концерт s помощь пострадавшим от войны семьям. После концерта за скромным чаем сидели в аванложе дирекции. И вдруг приносят известие: «Берлин взят!» Ждали этого, были готовы, а все-таки не верилось в такое счастье. Концерт был днем, а вечером в антракте вышел перед занавесом к публике кто-то из актеров и объявил: «Товарищи, Берлин взят нашими войсками!!!»
Что было в Москве 9 мая — описать невозможно. В театре шел спектакль «Иван Грозный». Машина не могла протиснуться сквозь толпы ликующих, плачущих, обнимающихся людей. Кого-то качали, в воздух взлетали военные. Непрерывный салют на Красной площади. Я все это видела, понимала, чувствовала, а в горле комок — от Игоря ни звука.
В театре, как и повсюду, было ликование. Шли бурные митинги, потом импровизированный не то пляс, не то бешеная кадриль. Я не смогла прийти в театр. Боялась, что расплачусь, внесу горькую ноту в общий праздник.
И вот в июле 1945 года — письмо. Наша Тося, чудесная домоправительница, действительно верный друг, вдруг кричит: «Письмо, Елена Николаевна, письмо от Игоря!» Надо сказать, что все письма всегда просматривала Тося, она даже скрыла от меня похоронку на Игоря, и я не знала о ней, пока не получила второе извещение: «Пропал без вести». Так вот и сейчас—письмо от Игоря, ее радостный крик, а я, которая все время верила и ждала Игоря или хотя бы весточки от него или о нем, я не поверила. Держала письмо, видела почерк Игоря, обратный адрес с его фамилией, а не верила. «Да распечатайте же, прочитайте!» — кричала Тося. А я окаменела, в буквальном смысле этого слова. Как, через кого ему удалось дать о себе знать—не понимаю. Но это было его письмо, он писал уже после Победы.
Значит, живой! Дальнейшее происходило как во сне. Через два месяца Игорь был со мной, дома. Вся его жизнь за годы плена — это отдельная, почти фантастическая книга. И как он уцелел, при его характере, при его побегах, при его дерзости, — это чудо! Без всяких с моей стороны просьб и нажимов ему сразу выдали московский паспорт, все проверки он прошел еще до возвращения. Но вернуться в армию он уже не мог и мучительно переживал отрыв от военной авиации. Служить в гражданской авиации Игорь не хотел, а поскольку у него был абсолютный слух, отец устроил его тонмейстером-режиссером в Дом звукозаписи, где сам тогда работал.
Так прошел знаменательный 1945 год. С удвоенной энергией работала я в месткоме театра. Я уже совсем выздоровела. Пневмоторакс сделал свое дело. И я все упорнее стала думать о вступлении в партию. Теперь, казалось мне, я могу быть полезной, могу выполнять партийную работу. В 1947 году я подала заявление и была принята кандидатом в члены ВКП(б).
Здесь я хочу вспомнить о П. Л. Войкове, человеке, который сыграл огромную роль в формировании моего гражданского сознания. В начале 20-х годов моя дальняя родственница. Вера Лукьяновская, работала секретарем Войкова. Я часто забегала навестить мою родственницу, благо, ее служба находилась недалеко от театра. Войков редко вызывал Веру в свой кабинет и предпочитал сам приносить некоторые бумаги для перепечатки. Так и состоялось наше знакомство. Зная от Веры, что я актриса Малого театра, он задерживался на несколько минут, расспрашивая меня о театре. Всегда предупредительный, вежливый, внимательный, в элегантном костюме, Войков производил впечатление человека большой культуры, безукоризненного воспитания, прекрасно разбирающегося в литературе и искусстве. И вот, несколько осмелев, я стала вступать с ним в споры о некоторых мне непонятных «директивах большевиков». Осторожно, ненавязчиво Войков поправлял мои обывательские суждения, подчас глупую критику действий молодого правительства, и его спокойные и доходчивые слова все глубже входили в мое сознание, заставляли задуматься о том, что несла революция. Я думаю, что эти, хотя и немногочисленные, беседы с Войковым были для меня первыми зернами сознательности и понимания Октября.
В 1947 году исполнилось и заветное мое желание создать образ положительной советской героини. Б. А. Лавренев принес в театр пьесу «За тех, кто в море!». Центральную роль поручили Д. В. Зеркаловой, но в пьесе была еще роль Гореловой, актрисы фронтового театра, которая потеряла во время войны мужа и ребенка. На флоте она встретила, как ей казалось, человека смелого, умного, честного, которого полюбила... и ошиблась.
Я уже перестала ходить с моими вечными просьбами о положительной женской роли, как вдруг счастье мне улыбнулось. А. Д. Дикий, который сначала был назначен постановщиком, почему-то отказался, и спектакль взялись ставить К. А. Зубов и В. И. Цыганков. Роль Гореловой дали мне. Я думаю, что и болезнь, и фронтовые впечатления, и переживания за Игоря что-то очень переменили в моем творчестве. Ушел штамп роковых женщин, вечных злодеек, любовниц, шпионок. Пришло нечто другое, простое, глубокое и непоказное. Я перестала «представлять», «декламировать», стала жить и даже говорить просто. Да и вся роль Гореловой оказалась мне близкой. Я бывала на фронте, я теряла сына, мне все это было понятно. По-видимому, и для окружающих я вдруг стала иной. Было радостно, когда Лавренев на премьере подошел ко мне и сказал: «Вы сыграли больше, чем я написал, благодарю вас».
Спектакль «За тех, кто в море!» получил Государственную премию СССР — были отмечены постановщики, исполнители центральных мужских ролей, а из женщин только я.
Скоро мы переехали опять в наш старый, родной Малый театр. Его отремонтировали. — В уборной Южина стали гримироваться Яблочкина и Пашенная. Теперь эта гримуборная перешла ко мне.
Всегда вспоминаю, что именно в этой уборной у Александра Ивановича был и кабинет, и гримерная, и приемная. Я постаралась расставить мебель так, как было при Южине. Сюда он однажды вызвал меня во время антракта «Горя от ума». Волновалась я страшно — вызов к Южину во время спектакля?! Что-нибудь я сделала не так? Что случилось? Содрогаясь, я постучала. Вошла. Южин был не один. Рядом с ним сидела молоденькая девушка. Очень приветливо, как всегда, и немного церемонно Александр Иванович произнес: «Позвольте вам представить вашу пламенную поклонницу—это моя племянница». Не знаю, кто из нас был более смущен, я или Муся — Мария Александровна Богуславская, та молоденькая девушка с чудесными косами, Муся, навсегда ставшая моим другом. А было это, когда обеим нам не исполнилось еще и двадцати лет. В моей уборной всегда висят портреты Южина и Ермоловой. Часто, часто смотрю я на них.
Итак, в 1947 году меня приняли кандидатом в члены ВКП(б), а в 1948 году я получила красную книжечку— билет члена Коммунистической партии. Как-то по-особому стала относиться я и к своей работе в театре, и к общественным делам, и... к жизни. Ответственность коммуниста—это и серьезно, и дорого, и почетно!
Почти сейчас же после «За тех, кто в море!» Зубов пригласил Н. В. Петрова на постановку пьесы Б. С. Ромашова «Великая сила». Директора института Милягина хорошо играл недавно вступивший в труппу Ф. В. Григорьев, академика Остроумова — также только пришедший в коллектив Н. В. Комиссаров. Творчески очень интересные люди, эти актеры как-то сразу вошли в Малый театр, как-то сразу очень пришлись ко двору. Я в «Великой силе» играла Лаврову. Этот спектакль тоже получил Государственную премию СССР. Играли мы его на сцене Малого театра, а вот силы, духа Малого театра уже не было. Корабль наш начал крениться. И хоть были. премии и как будто и успех, а все же стало что-то провинциальное, не академия.
Получила я и еще одну Государственную премию СССР—за «Московский характер» А. В. Софронова. Играла я секретаря райкома. Спектакль ставил А. Д. Дикий. Приятно было, что вошел в театр мастер, но я как-то не чувствовала его режиссерской руки, мало он делал мне замечаний. Центральную роль — директора завода — играл Ф. В. Григорьев, Гриневу — Е. М. Шатрова. Молодую работницу — только что приглашенная из Таганрогского театра Е. М. Солодова. Как будто бы все- шло хорошо, но... Пров Михайлович Садовский уже ушел из жизни, умер и Николай Капитонович Яковлев. Умирал и старый Малый театр.
Кончались 40-е годы. Все шире разворачивалась моя общественная работа, но на душе было тревожно. Не та атмосфера, не та сплоченность коллектива, и репертуар как-то не соответствовал назначению и масштабу Малого театра, ушла куда-то классика. Правда, и «Горе от ума», и «Ревизор», и Островский еще не сходили с афиши театра, но ни о Шекспире, ни о Мольере никто не заикался. Современные пьесы игрались, скорее, по-коршевски. Все как-то принижалось, и, я бы сказала, что-то дешевое вползало к нам. Тем не менее и в 40-е годы были и успехи и интересные замыслы.
В 1946 году в Малый театр были приглашены на постановку пьесы Скриба и Легуве «Новеллы Маргариты Наваррской» режиссеры О. И. Пыжова и Б. В. Бибиков. Как и во всех пьесах Скриба, в ней немного ролей, всего шесть. Интрига ее очень занимательная, и характеры выписаны интересно. Короля Карла со свойственным ему мастерством играл С. Б. Межинский, роль инфанты Изабеллы очаровательно исполняла недавно пришедшая к нам из Тамбова Т.А. Еремеева, совсем молоденькой придворной дамы — выпускница Щепкинского училища И.А. Ликсо. Маргариту играла я, моего преданного рыцаря —Д.С. Павлов. Блестяще сыграл Франциска I М.И. Царев. Играл эту роль и Аксенов, но посредственно и небрежно. А жаль! У него были для нее все данные.
Я много читала о Маргарите Наваррской, даже достала и прочла в подлиннике и в переводе ее «Новеллы», была очень увлечена этой ролью. Спектакль прошел с успехом, однако после шести представлений в филиале его сняли с репертуара по причине безыдейности пьесы.
Из других моих работ 40-х годов я хотела бы отметить новый вариант леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь», поставленном режиссером В. Абашидзе в 1937 году. Постановщик и художник П. Оцхели стремились восстановить XVIII век, но трактовали его в манере «Мира искусства», представляли в условном и стилизованном виде. Это определило и мою трактовку образа леди Мильфорд. На протяжении всего спектакля я изображала из себя фарфоровую статуэтку.
Иное толкование характера леди Мильфорд давала я в спектакле, поставленном в 1949 году режиссером В. И. Цыганковым. Это было вызвано и самим стилем постановки и тем, что роль Фердинанда играл такой актер, как Царев. Сохраняя амплуа любовника, необходимое для этой роли, будучи чрезвычайно обаятельным, Царев вносил в свое исполнение большую человечность. Она проявлялась прежде всего в его чувстве к Луизе, которую очень хорошо, мягко играла Еремеева.
Моя леди Мильфорд была и сильная и глубоко любящая женщина. Я оправдывала ее уход из герцогства. Леди Мильфорд понимает, что она всего только фаворитка, и гордо покидает двор, сохраняя этим свое достоинство. Образ был освобожден от внешней мишуры, стал более сложным.
Таким образом, в 40-е годы мне удалось сделать известные шаги в развитии своего мастерства.
Дата публикации: 16.06.2005

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
СОРОКОВЫЕ ГОДЫ
Начало 40-х годов было в театре очень тяжелым. Для атмосферы, царившей в театре, типичен такой случай. Заболел Остужев. Но «Уриэля Акосту» не отменили, заглавную роль играл постановщик спектакля, механически копировавший жесты и интонации Остужева.
В репертуаре театра ведущее место занимали спектакли, не отвечающие ни стилю, ни духу Малого театра.
Я редко бывала в театре. Играла «Стакан воды» и «Уриэля» с новым исполнителем. Смотрела, как то, что могла бы играть я, играют другие. Были еще и «Варвары». Но, как я уже говорила, ни в прессе, ни в театре меня не замечали. Болезнь, еженедельный пневмоторакс не позволяли мне опять ехать с бригадами на фронт. Единственное, что я могла, — это обслуживать призывные пункты и госпитали Москвы. Я завидовала Остужеву. Он рвался в военно-шефские бригады. И настоял, поехал, читал на фронте отрывки из «Войны и мира».
В театре готовили пьесу А. Н. Толстого «Иван Грозный». Конечно, я не была занята. Внезапно звонит мне наша всеми любимая секретарь дирекции Елизавета Фирсовна и предупреждает, что сегодняшняя премьера висит на волоске. Все в панике. Мне будут звонить, так как исполнительница главной роли—Марьи Темрюковны—сообщила, что играть не будет, «заболела». Это в Малом-то театре? Сорвать премьеру? Да у нас никогда ничего подобного не было! Хоть умирай, а премьеру играй!
В кабинете у директора Л.Е. Шаповалова экстренное совещание — постановщик Судаков, Пашенная и сам Шаповалов. Отменять спектакль нельзя. На премьеру ждали членов правительства. Что делать? До спектакля остается четыре часа. В три часа Елизавета Фирсовна официально вызывает меня к Шаповалову. «Выручайте, Елена Николаевна, надо играть». Но ведь я даже в зале на репетициях не бывала, роль мне не предлагали, я не упоминалась в приказе. Я надеялась на свою память, знала, что Темрюковна не все время на сцене, что есть свободные промежуточные картины. Думаю: текст успею подучить, но отказываться нельзя. Ведь я актриса Малого театра. «Идемте репетировать», — сказала я мрачному Судакову. Мы пошли на сцену, мне быстро показали мизансцены, сунули в руки листки роли, и заведующая костюмерной О. Севастьянова стала подбирать костюмы, так как уже сшитые были мне не в пору, да я бы в них и не играла.
В общем, примеряя, репетируя, я уже учила текст, и вдруг — звонок от премьерши, что она вечером играть будет. Судаков очень обрадовался, все опять в растерянности, до спектакля два часа.
Шаповалов в бешенстве требует: «Играть будет Гоголева!»
Я вижу и понимаю общую растерянность. И говорю Судакову и всем присутствующим: «Вот что, товарищи, если она выздоровела, пусть сегодня играет она. Всем участвующим, а главное, Коле Соловьеву (он играл Грозного) будет спокойнее играть премьеру с ней, а за меня все станут волноваться, и это скажется на спектакле. О спектакле надо думать прежде всего. Ну а я сыграю в следующий раз. Так будет справедливее».
Стоило большого труда убедить Шаповалова, который был возмущен выходкой премьерши. Именно я уговорила его думать о спектакле, и именно он настоял на моем вводе во второй спектакль.
Однако премьера прошла неудачно, было сделано несколько существенных замечаний. Вскоре последовал уход из театра Судакова. И ставить «Грозного» заново поручили Прову Михайловичу Садовскому, который был назначен художественным руководителем театра. Роль Марьи Темрюковны перешла ко мне.
Война и впечатления от фронтовой поездки многое заставили меня пересмотреть и в себе самой и в моих товарищах. Как мне хотелось тогда сыграть положительную советскую героиню, как глубоко чувствовала я современность! Но если мне и выпадали роли в советском репертуаре, все это были шпионки или «роковые» женщины. Я опять сидела без работы, играла старые роли, непрерывно думая о них и находя все новые и новые черточки. Иногда, может быть, ошибаясь, а иногда достигая успеха. Стала пересматривать «Стакан воды», глубже понимать Надежду в «Варварах». Думалось, что иду правильным путем. Мое несчастье заключалось в том, что генеральные репетиции и первые спектакли я всегда играла плохо, с нажимом, не веря в себя. Роль получалась уже на десятом-двенадцатом спектакле. Помогал зрительный зал. Чувствовала его тепло, проходила скованность от недоброжелательства, как мне казалось, первых зрителей, своих же «товарищей», а их было не так уж мало.
В 1943 году я получила роль Лауренсии в «Овечьем источнике». Ставил Б. И. Вершилов, художник — И.М. Рабинович. Репетировали долго, с перерывами. Работа шла как-то судорожно. Я знала, что симпатий постановка не вызовет. Однако генеральная прошла с огромным успехом, в зале были работники и секретари нашего райкома. Но премьера не пошла. Почему? Не знаю. До сих пор мне это неясно. Может быть, действительно я не вытянула, может, Вершилов был непригоден для этой постановки. А райкомовцы долго потом говорили мне о громадном впечатлении, какое они получили от нашего «Овечьего источника».
Очень хороши были Фрондосо — Анненков и Командор — Аксенов. Всеволод тогда опять вернулся в театр, но ненадолго, и ушел, уже окончательно, через год.
Переживала ли я свой «провал»? Нет. Я была к нему готова. Да и некогда было особенно грустить — Игорь ведь пропал без вести. И еще. В то же время я получила настойчивое приглашение от Эйзенштейна сниматься у него в «Иване Грозном» в роли Ефросиньи Старицкой. Ехать надо было в Алма-Ату. Вероятно, я сделала огромную ошибку — отказалась. Что меня заставило это сделать? Да, до некоторой степени — моя болезнь. Не отпускали меня врачи. Но Эйзенштейн! Работать с таким режиссером! Да, ошибка, которую я никогда себе не прощу.
Как-то случилось, что заболела исполнительница роли Ольги в «Нашествии» — Ксюша Тарасова. «Вспомнили», что эта роль была дана мне. Опять пришлось выручать и без репетиций входить в постановку. Когда после спектакля товарищи окружили меня и стали поздравлять, Коля Соловьев обнял меня и закричал: «Говорили — нет у нас социальной героини, да вот же она! Вот!» Да, кажется, я сыграла правильно, во всяком случае, мне было почему-то легко. А тут еще пришла открытка от летчика, с которым на пикировщике летал Горик. Летчик сообщил, что их самолет горел, и он приказал Игорю прыгать, и что Игорь, прыгая, был жив. Произошло это в районе Харькова. Сам летчик дотянул до своих, но долго добирался до части. Значит, жив! Это главное: жив мой Игорь! Шел 1943 год.
И опять молчание. Лечение мое давало хорошие результаты, и я решила, что могу и должна делать что-то важное. Новых ролей нет, значит, надо отдать силы и время общественной работе, не сидеть сложа руки.
В 1934—1936 годах я была председателем месткома театра. Хотела вступить в партию. Тогда не существовало кандидатского стажа, его заменял как бы институт сочувствующих. Я была в эти годы так называемой «сочувствующей», выполняла большую работу как предместкома и являлась членом районной избирательной комиссии по выборам в Советы. Однако болезнь прекратила мою общественную деятельность. Но теперь, когда шла война, когда я на многое смотрела более пристальным и внимательным взглядом, мне казалось, что идти в партию без» общественного багажа нельзя. Это несерьезно. И вот все свободное от театра время я стала отдавать общественной работе. Меня опять избрали председателем месткома, и если мне нельзя было ехать на фронт, то уж работать в месткоме и по военно-шефской линии в Москве — мой прямой долг. Почти все дни я проводила в административном крыле театра, встречалась со всеми бригадами, отправлявшимися на фронт, и всех просила: дать знать, если услышат что-нибудь об Игоре. В 1944 году мне позвонил незнакомый голос и пригласил зайти по такому-то адресу в один из переулков на Якиманке. Мне сообщат кое-что об Игоре. Не помня себя, я бросилась по указанному адресу. Оказалось, что мальчик из этой семьи был в плену вместе с Игорем в 1943 году. Игоря сначала держали в «цивильном» отделении, но потом один подлец его опознал, сказал немцам, что это военный летчик, сын артистки Гоголевой, что его видели со мной в Вахтанговском театре. Игоря сейчас же перевели в военный концлагерь и, кажется, отправили из Краматорска в Лодзь.
Это была все же весточка. Значит, в 1943 году Игорь был жив. Жив. Шел уже 1944 год. Что же произошло за этот год? Жив ли сейчас? С мыслью об этом я и жила. Ждала и верила, что будет жив, что увижу его. Верила!
В конце 1944 года опять неожиданная весточка. Звонок. Открываю дверь. Стоит молодой парень. «Вы Елена Николаевна Гоголева?» — «Я». — «Я хочу кое-что сообщить о вашем сыне». Затаскиваю его в квартиру. Симпатичное, грустное лицо и весь такой застенчивый, смущенный. Говорит, что видел Игоря в начале 1944 года, январе—феврале. Концлагерь где-то около Магдебурга, точно не знает. В лагере прошел слух, что привезли какого-то летчика, сразу в карцер. Потом летчика отправили в другой лагерь — куда, конечно, неизвестно. Говорили, что этот летчик несколько раз бежал, его ловили. Смелый, и потому с ним обращаются особо строго. Но не расстрел. Видел его мельком, когда выводили из карцера. Вот и все. Значит, в начале 1944 года был жив. А теперь война шла к концу. И во мне крепла вера, что Игорь вот-вот вернется.
Незабываемы дни Победы. Помню, в Большом зале консерватории был концерт s помощь пострадавшим от войны семьям. После концерта за скромным чаем сидели в аванложе дирекции. И вдруг приносят известие: «Берлин взят!» Ждали этого, были готовы, а все-таки не верилось в такое счастье. Концерт был днем, а вечером в антракте вышел перед занавесом к публике кто-то из актеров и объявил: «Товарищи, Берлин взят нашими войсками!!!»
Что было в Москве 9 мая — описать невозможно. В театре шел спектакль «Иван Грозный». Машина не могла протиснуться сквозь толпы ликующих, плачущих, обнимающихся людей. Кого-то качали, в воздух взлетали военные. Непрерывный салют на Красной площади. Я все это видела, понимала, чувствовала, а в горле комок — от Игоря ни звука.
В театре, как и повсюду, было ликование. Шли бурные митинги, потом импровизированный не то пляс, не то бешеная кадриль. Я не смогла прийти в театр. Боялась, что расплачусь, внесу горькую ноту в общий праздник.
И вот в июле 1945 года — письмо. Наша Тося, чудесная домоправительница, действительно верный друг, вдруг кричит: «Письмо, Елена Николаевна, письмо от Игоря!» Надо сказать, что все письма всегда просматривала Тося, она даже скрыла от меня похоронку на Игоря, и я не знала о ней, пока не получила второе извещение: «Пропал без вести». Так вот и сейчас—письмо от Игоря, ее радостный крик, а я, которая все время верила и ждала Игоря или хотя бы весточки от него или о нем, я не поверила. Держала письмо, видела почерк Игоря, обратный адрес с его фамилией, а не верила. «Да распечатайте же, прочитайте!» — кричала Тося. А я окаменела, в буквальном смысле этого слова. Как, через кого ему удалось дать о себе знать—не понимаю. Но это было его письмо, он писал уже после Победы.
Значит, живой! Дальнейшее происходило как во сне. Через два месяца Игорь был со мной, дома. Вся его жизнь за годы плена — это отдельная, почти фантастическая книга. И как он уцелел, при его характере, при его побегах, при его дерзости, — это чудо! Без всяких с моей стороны просьб и нажимов ему сразу выдали московский паспорт, все проверки он прошел еще до возвращения. Но вернуться в армию он уже не мог и мучительно переживал отрыв от военной авиации. Служить в гражданской авиации Игорь не хотел, а поскольку у него был абсолютный слух, отец устроил его тонмейстером-режиссером в Дом звукозаписи, где сам тогда работал.
Так прошел знаменательный 1945 год. С удвоенной энергией работала я в месткоме театра. Я уже совсем выздоровела. Пневмоторакс сделал свое дело. И я все упорнее стала думать о вступлении в партию. Теперь, казалось мне, я могу быть полезной, могу выполнять партийную работу. В 1947 году я подала заявление и была принята кандидатом в члены ВКП(б).
Здесь я хочу вспомнить о П. Л. Войкове, человеке, который сыграл огромную роль в формировании моего гражданского сознания. В начале 20-х годов моя дальняя родственница. Вера Лукьяновская, работала секретарем Войкова. Я часто забегала навестить мою родственницу, благо, ее служба находилась недалеко от театра. Войков редко вызывал Веру в свой кабинет и предпочитал сам приносить некоторые бумаги для перепечатки. Так и состоялось наше знакомство. Зная от Веры, что я актриса Малого театра, он задерживался на несколько минут, расспрашивая меня о театре. Всегда предупредительный, вежливый, внимательный, в элегантном костюме, Войков производил впечатление человека большой культуры, безукоризненного воспитания, прекрасно разбирающегося в литературе и искусстве. И вот, несколько осмелев, я стала вступать с ним в споры о некоторых мне непонятных «директивах большевиков». Осторожно, ненавязчиво Войков поправлял мои обывательские суждения, подчас глупую критику действий молодого правительства, и его спокойные и доходчивые слова все глубже входили в мое сознание, заставляли задуматься о том, что несла революция. Я думаю, что эти, хотя и немногочисленные, беседы с Войковым были для меня первыми зернами сознательности и понимания Октября.
В 1947 году исполнилось и заветное мое желание создать образ положительной советской героини. Б. А. Лавренев принес в театр пьесу «За тех, кто в море!». Центральную роль поручили Д. В. Зеркаловой, но в пьесе была еще роль Гореловой, актрисы фронтового театра, которая потеряла во время войны мужа и ребенка. На флоте она встретила, как ей казалось, человека смелого, умного, честного, которого полюбила... и ошиблась.
Я уже перестала ходить с моими вечными просьбами о положительной женской роли, как вдруг счастье мне улыбнулось. А. Д. Дикий, который сначала был назначен постановщиком, почему-то отказался, и спектакль взялись ставить К. А. Зубов и В. И. Цыганков. Роль Гореловой дали мне. Я думаю, что и болезнь, и фронтовые впечатления, и переживания за Игоря что-то очень переменили в моем творчестве. Ушел штамп роковых женщин, вечных злодеек, любовниц, шпионок. Пришло нечто другое, простое, глубокое и непоказное. Я перестала «представлять», «декламировать», стала жить и даже говорить просто. Да и вся роль Гореловой оказалась мне близкой. Я бывала на фронте, я теряла сына, мне все это было понятно. По-видимому, и для окружающих я вдруг стала иной. Было радостно, когда Лавренев на премьере подошел ко мне и сказал: «Вы сыграли больше, чем я написал, благодарю вас».
Спектакль «За тех, кто в море!» получил Государственную премию СССР — были отмечены постановщики, исполнители центральных мужских ролей, а из женщин только я.
Скоро мы переехали опять в наш старый, родной Малый театр. Его отремонтировали. — В уборной Южина стали гримироваться Яблочкина и Пашенная. Теперь эта гримуборная перешла ко мне.
Всегда вспоминаю, что именно в этой уборной у Александра Ивановича был и кабинет, и гримерная, и приемная. Я постаралась расставить мебель так, как было при Южине. Сюда он однажды вызвал меня во время антракта «Горя от ума». Волновалась я страшно — вызов к Южину во время спектакля?! Что-нибудь я сделала не так? Что случилось? Содрогаясь, я постучала. Вошла. Южин был не один. Рядом с ним сидела молоденькая девушка. Очень приветливо, как всегда, и немного церемонно Александр Иванович произнес: «Позвольте вам представить вашу пламенную поклонницу—это моя племянница». Не знаю, кто из нас был более смущен, я или Муся — Мария Александровна Богуславская, та молоденькая девушка с чудесными косами, Муся, навсегда ставшая моим другом. А было это, когда обеим нам не исполнилось еще и двадцати лет. В моей уборной всегда висят портреты Южина и Ермоловой. Часто, часто смотрю я на них.
Итак, в 1947 году меня приняли кандидатом в члены ВКП(б), а в 1948 году я получила красную книжечку— билет члена Коммунистической партии. Как-то по-особому стала относиться я и к своей работе в театре, и к общественным делам, и... к жизни. Ответственность коммуниста—это и серьезно, и дорого, и почетно!
Почти сейчас же после «За тех, кто в море!» Зубов пригласил Н. В. Петрова на постановку пьесы Б. С. Ромашова «Великая сила». Директора института Милягина хорошо играл недавно вступивший в труппу Ф. В. Григорьев, академика Остроумова — также только пришедший в коллектив Н. В. Комиссаров. Творчески очень интересные люди, эти актеры как-то сразу вошли в Малый театр, как-то сразу очень пришлись ко двору. Я в «Великой силе» играла Лаврову. Этот спектакль тоже получил Государственную премию СССР. Играли мы его на сцене Малого театра, а вот силы, духа Малого театра уже не было. Корабль наш начал крениться. И хоть были. премии и как будто и успех, а все же стало что-то провинциальное, не академия.
Получила я и еще одну Государственную премию СССР—за «Московский характер» А. В. Софронова. Играла я секретаря райкома. Спектакль ставил А. Д. Дикий. Приятно было, что вошел в театр мастер, но я как-то не чувствовала его режиссерской руки, мало он делал мне замечаний. Центральную роль — директора завода — играл Ф. В. Григорьев, Гриневу — Е. М. Шатрова. Молодую работницу — только что приглашенная из Таганрогского театра Е. М. Солодова. Как будто бы все- шло хорошо, но... Пров Михайлович Садовский уже ушел из жизни, умер и Николай Капитонович Яковлев. Умирал и старый Малый театр.
Кончались 40-е годы. Все шире разворачивалась моя общественная работа, но на душе было тревожно. Не та атмосфера, не та сплоченность коллектива, и репертуар как-то не соответствовал назначению и масштабу Малого театра, ушла куда-то классика. Правда, и «Горе от ума», и «Ревизор», и Островский еще не сходили с афиши театра, но ни о Шекспире, ни о Мольере никто не заикался. Современные пьесы игрались, скорее, по-коршевски. Все как-то принижалось, и, я бы сказала, что-то дешевое вползало к нам. Тем не менее и в 40-е годы были и успехи и интересные замыслы.
В 1946 году в Малый театр были приглашены на постановку пьесы Скриба и Легуве «Новеллы Маргариты Наваррской» режиссеры О. И. Пыжова и Б. В. Бибиков. Как и во всех пьесах Скриба, в ней немного ролей, всего шесть. Интрига ее очень занимательная, и характеры выписаны интересно. Короля Карла со свойственным ему мастерством играл С. Б. Межинский, роль инфанты Изабеллы очаровательно исполняла недавно пришедшая к нам из Тамбова Т.А. Еремеева, совсем молоденькой придворной дамы — выпускница Щепкинского училища И.А. Ликсо. Маргариту играла я, моего преданного рыцаря —Д.С. Павлов. Блестяще сыграл Франциска I М.И. Царев. Играл эту роль и Аксенов, но посредственно и небрежно. А жаль! У него были для нее все данные.
Я много читала о Маргарите Наваррской, даже достала и прочла в подлиннике и в переводе ее «Новеллы», была очень увлечена этой ролью. Спектакль прошел с успехом, однако после шести представлений в филиале его сняли с репертуара по причине безыдейности пьесы.
Из других моих работ 40-х годов я хотела бы отметить новый вариант леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь», поставленном режиссером В. Абашидзе в 1937 году. Постановщик и художник П. Оцхели стремились восстановить XVIII век, но трактовали его в манере «Мира искусства», представляли в условном и стилизованном виде. Это определило и мою трактовку образа леди Мильфорд. На протяжении всего спектакля я изображала из себя фарфоровую статуэтку.
Иное толкование характера леди Мильфорд давала я в спектакле, поставленном в 1949 году режиссером В. И. Цыганковым. Это было вызвано и самим стилем постановки и тем, что роль Фердинанда играл такой актер, как Царев. Сохраняя амплуа любовника, необходимое для этой роли, будучи чрезвычайно обаятельным, Царев вносил в свое исполнение большую человечность. Она проявлялась прежде всего в его чувстве к Луизе, которую очень хорошо, мягко играла Еремеева.
Моя леди Мильфорд была и сильная и глубоко любящая женщина. Я оправдывала ее уход из герцогства. Леди Мильфорд понимает, что она всего только фаворитка, и гордо покидает двор, сохраняя этим свое достоинство. Образ был освобожден от внешней мишуры, стал более сложным.
Таким образом, в 40-е годы мне удалось сделать известные шаги в развитии своего мастерства.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
СОРОКОВЫЕ ГОДЫ
Начало 40-х годов было в театре очень тяжелым. Для атмосферы, царившей в театре, типичен такой случай. Заболел Остужев. Но «Уриэля Акосту» не отменили, заглавную роль играл постановщик спектакля, механически копировавший жесты и интонации Остужева.
В репертуаре театра ведущее место занимали спектакли, не отвечающие ни стилю, ни духу Малого театра.
Я редко бывала в театре. Играла «Стакан воды» и «Уриэля» с новым исполнителем. Смотрела, как то, что могла бы играть я, играют другие. Были еще и «Варвары». Но, как я уже говорила, ни в прессе, ни в театре меня не замечали. Болезнь, еженедельный пневмоторакс не позволяли мне опять ехать с бригадами на фронт. Единственное, что я могла, — это обслуживать призывные пункты и госпитали Москвы. Я завидовала Остужеву. Он рвался в военно-шефские бригады. И настоял, поехал, читал на фронте отрывки из «Войны и мира».
В театре готовили пьесу А. Н. Толстого «Иван Грозный». Конечно, я не была занята. Внезапно звонит мне наша всеми любимая секретарь дирекции Елизавета Фирсовна и предупреждает, что сегодняшняя премьера висит на волоске. Все в панике. Мне будут звонить, так как исполнительница главной роли—Марьи Темрюковны—сообщила, что играть не будет, «заболела». Это в Малом-то театре? Сорвать премьеру? Да у нас никогда ничего подобного не было! Хоть умирай, а премьеру играй!
В кабинете у директора Л.Е. Шаповалова экстренное совещание — постановщик Судаков, Пашенная и сам Шаповалов. Отменять спектакль нельзя. На премьеру ждали членов правительства. Что делать? До спектакля остается четыре часа. В три часа Елизавета Фирсовна официально вызывает меня к Шаповалову. «Выручайте, Елена Николаевна, надо играть». Но ведь я даже в зале на репетициях не бывала, роль мне не предлагали, я не упоминалась в приказе. Я надеялась на свою память, знала, что Темрюковна не все время на сцене, что есть свободные промежуточные картины. Думаю: текст успею подучить, но отказываться нельзя. Ведь я актриса Малого театра. «Идемте репетировать», — сказала я мрачному Судакову. Мы пошли на сцену, мне быстро показали мизансцены, сунули в руки листки роли, и заведующая костюмерной О. Севастьянова стала подбирать костюмы, так как уже сшитые были мне не в пору, да я бы в них и не играла.
В общем, примеряя, репетируя, я уже учила текст, и вдруг — звонок от премьерши, что она вечером играть будет. Судаков очень обрадовался, все опять в растерянности, до спектакля два часа.
Шаповалов в бешенстве требует: «Играть будет Гоголева!»
Я вижу и понимаю общую растерянность. И говорю Судакову и всем присутствующим: «Вот что, товарищи, если она выздоровела, пусть сегодня играет она. Всем участвующим, а главное, Коле Соловьеву (он играл Грозного) будет спокойнее играть премьеру с ней, а за меня все станут волноваться, и это скажется на спектакле. О спектакле надо думать прежде всего. Ну а я сыграю в следующий раз. Так будет справедливее».
Стоило большого труда убедить Шаповалова, который был возмущен выходкой премьерши. Именно я уговорила его думать о спектакле, и именно он настоял на моем вводе во второй спектакль.
Однако премьера прошла неудачно, было сделано несколько существенных замечаний. Вскоре последовал уход из театра Судакова. И ставить «Грозного» заново поручили Прову Михайловичу Садовскому, который был назначен художественным руководителем театра. Роль Марьи Темрюковны перешла ко мне.
Война и впечатления от фронтовой поездки многое заставили меня пересмотреть и в себе самой и в моих товарищах. Как мне хотелось тогда сыграть положительную советскую героиню, как глубоко чувствовала я современность! Но если мне и выпадали роли в советском репертуаре, все это были шпионки или «роковые» женщины. Я опять сидела без работы, играла старые роли, непрерывно думая о них и находя все новые и новые черточки. Иногда, может быть, ошибаясь, а иногда достигая успеха. Стала пересматривать «Стакан воды», глубже понимать Надежду в «Варварах». Думалось, что иду правильным путем. Мое несчастье заключалось в том, что генеральные репетиции и первые спектакли я всегда играла плохо, с нажимом, не веря в себя. Роль получалась уже на десятом-двенадцатом спектакле. Помогал зрительный зал. Чувствовала его тепло, проходила скованность от недоброжелательства, как мне казалось, первых зрителей, своих же «товарищей», а их было не так уж мало.
В 1943 году я получила роль Лауренсии в «Овечьем источнике». Ставил Б. И. Вершилов, художник — И.М. Рабинович. Репетировали долго, с перерывами. Работа шла как-то судорожно. Я знала, что симпатий постановка не вызовет. Однако генеральная прошла с огромным успехом, в зале были работники и секретари нашего райкома. Но премьера не пошла. Почему? Не знаю. До сих пор мне это неясно. Может быть, действительно я не вытянула, может, Вершилов был непригоден для этой постановки. А райкомовцы долго потом говорили мне о громадном впечатлении, какое они получили от нашего «Овечьего источника».
Очень хороши были Фрондосо — Анненков и Командор — Аксенов. Всеволод тогда опять вернулся в театр, но ненадолго, и ушел, уже окончательно, через год.
Переживала ли я свой «провал»? Нет. Я была к нему готова. Да и некогда было особенно грустить — Игорь ведь пропал без вести. И еще. В то же время я получила настойчивое приглашение от Эйзенштейна сниматься у него в «Иване Грозном» в роли Ефросиньи Старицкой. Ехать надо было в Алма-Ату. Вероятно, я сделала огромную ошибку — отказалась. Что меня заставило это сделать? Да, до некоторой степени — моя болезнь. Не отпускали меня врачи. Но Эйзенштейн! Работать с таким режиссером! Да, ошибка, которую я никогда себе не прощу.
Как-то случилось, что заболела исполнительница роли Ольги в «Нашествии» — Ксюша Тарасова. «Вспомнили», что эта роль была дана мне. Опять пришлось выручать и без репетиций входить в постановку. Когда после спектакля товарищи окружили меня и стали поздравлять, Коля Соловьев обнял меня и закричал: «Говорили — нет у нас социальной героини, да вот же она! Вот!» Да, кажется, я сыграла правильно, во всяком случае, мне было почему-то легко. А тут еще пришла открытка от летчика, с которым на пикировщике летал Горик. Летчик сообщил, что их самолет горел, и он приказал Игорю прыгать, и что Игорь, прыгая, был жив. Произошло это в районе Харькова. Сам летчик дотянул до своих, но долго добирался до части. Значит, жив! Это главное: жив мой Игорь! Шел 1943 год.
И опять молчание. Лечение мое давало хорошие результаты, и я решила, что могу и должна делать что-то важное. Новых ролей нет, значит, надо отдать силы и время общественной работе, не сидеть сложа руки.
В 1934—1936 годах я была председателем месткома театра. Хотела вступить в партию. Тогда не существовало кандидатского стажа, его заменял как бы институт сочувствующих. Я была в эти годы так называемой «сочувствующей», выполняла большую работу как предместкома и являлась членом районной избирательной комиссии по выборам в Советы. Однако болезнь прекратила мою общественную деятельность. Но теперь, когда шла война, когда я на многое смотрела более пристальным и внимательным взглядом, мне казалось, что идти в партию без» общественного багажа нельзя. Это несерьезно. И вот все свободное от театра время я стала отдавать общественной работе. Меня опять избрали председателем месткома, и если мне нельзя было ехать на фронт, то уж работать в месткоме и по военно-шефской линии в Москве — мой прямой долг. Почти все дни я проводила в административном крыле театра, встречалась со всеми бригадами, отправлявшимися на фронт, и всех просила: дать знать, если услышат что-нибудь об Игоре. В 1944 году мне позвонил незнакомый голос и пригласил зайти по такому-то адресу в один из переулков на Якиманке. Мне сообщат кое-что об Игоре. Не помня себя, я бросилась по указанному адресу. Оказалось, что мальчик из этой семьи был в плену вместе с Игорем в 1943 году. Игоря сначала держали в «цивильном» отделении, но потом один подлец его опознал, сказал немцам, что это военный летчик, сын артистки Гоголевой, что его видели со мной в Вахтанговском театре. Игоря сейчас же перевели в военный концлагерь и, кажется, отправили из Краматорска в Лодзь.
Это была все же весточка. Значит, в 1943 году Игорь был жив. Жив. Шел уже 1944 год. Что же произошло за этот год? Жив ли сейчас? С мыслью об этом я и жила. Ждала и верила, что будет жив, что увижу его. Верила!
В конце 1944 года опять неожиданная весточка. Звонок. Открываю дверь. Стоит молодой парень. «Вы Елена Николаевна Гоголева?» — «Я». — «Я хочу кое-что сообщить о вашем сыне». Затаскиваю его в квартиру. Симпатичное, грустное лицо и весь такой застенчивый, смущенный. Говорит, что видел Игоря в начале 1944 года, январе—феврале. Концлагерь где-то около Магдебурга, точно не знает. В лагере прошел слух, что привезли какого-то летчика, сразу в карцер. Потом летчика отправили в другой лагерь — куда, конечно, неизвестно. Говорили, что этот летчик несколько раз бежал, его ловили. Смелый, и потому с ним обращаются особо строго. Но не расстрел. Видел его мельком, когда выводили из карцера. Вот и все. Значит, в начале 1944 года был жив. А теперь война шла к концу. И во мне крепла вера, что Игорь вот-вот вернется.
Незабываемы дни Победы. Помню, в Большом зале консерватории был концерт s помощь пострадавшим от войны семьям. После концерта за скромным чаем сидели в аванложе дирекции. И вдруг приносят известие: «Берлин взят!» Ждали этого, были готовы, а все-таки не верилось в такое счастье. Концерт был днем, а вечером в антракте вышел перед занавесом к публике кто-то из актеров и объявил: «Товарищи, Берлин взят нашими войсками!!!»
Что было в Москве 9 мая — описать невозможно. В театре шел спектакль «Иван Грозный». Машина не могла протиснуться сквозь толпы ликующих, плачущих, обнимающихся людей. Кого-то качали, в воздух взлетали военные. Непрерывный салют на Красной площади. Я все это видела, понимала, чувствовала, а в горле комок — от Игоря ни звука.
В театре, как и повсюду, было ликование. Шли бурные митинги, потом импровизированный не то пляс, не то бешеная кадриль. Я не смогла прийти в театр. Боялась, что расплачусь, внесу горькую ноту в общий праздник.
И вот в июле 1945 года — письмо. Наша Тося, чудесная домоправительница, действительно верный друг, вдруг кричит: «Письмо, Елена Николаевна, письмо от Игоря!» Надо сказать, что все письма всегда просматривала Тося, она даже скрыла от меня похоронку на Игоря, и я не знала о ней, пока не получила второе извещение: «Пропал без вести». Так вот и сейчас—письмо от Игоря, ее радостный крик, а я, которая все время верила и ждала Игоря или хотя бы весточки от него или о нем, я не поверила. Держала письмо, видела почерк Игоря, обратный адрес с его фамилией, а не верила. «Да распечатайте же, прочитайте!» — кричала Тося. А я окаменела, в буквальном смысле этого слова. Как, через кого ему удалось дать о себе знать—не понимаю. Но это было его письмо, он писал уже после Победы.
Значит, живой! Дальнейшее происходило как во сне. Через два месяца Игорь был со мной, дома. Вся его жизнь за годы плена — это отдельная, почти фантастическая книга. И как он уцелел, при его характере, при его побегах, при его дерзости, — это чудо! Без всяких с моей стороны просьб и нажимов ему сразу выдали московский паспорт, все проверки он прошел еще до возвращения. Но вернуться в армию он уже не мог и мучительно переживал отрыв от военной авиации. Служить в гражданской авиации Игорь не хотел, а поскольку у него был абсолютный слух, отец устроил его тонмейстером-режиссером в Дом звукозаписи, где сам тогда работал.
Так прошел знаменательный 1945 год. С удвоенной энергией работала я в месткоме театра. Я уже совсем выздоровела. Пневмоторакс сделал свое дело. И я все упорнее стала думать о вступлении в партию. Теперь, казалось мне, я могу быть полезной, могу выполнять партийную работу. В 1947 году я подала заявление и была принята кандидатом в члены ВКП(б).
Здесь я хочу вспомнить о П. Л. Войкове, человеке, который сыграл огромную роль в формировании моего гражданского сознания. В начале 20-х годов моя дальняя родственница. Вера Лукьяновская, работала секретарем Войкова. Я часто забегала навестить мою родственницу, благо, ее служба находилась недалеко от театра. Войков редко вызывал Веру в свой кабинет и предпочитал сам приносить некоторые бумаги для перепечатки. Так и состоялось наше знакомство. Зная от Веры, что я актриса Малого театра, он задерживался на несколько минут, расспрашивая меня о театре. Всегда предупредительный, вежливый, внимательный, в элегантном костюме, Войков производил впечатление человека большой культуры, безукоризненного воспитания, прекрасно разбирающегося в литературе и искусстве. И вот, несколько осмелев, я стала вступать с ним в споры о некоторых мне непонятных «директивах большевиков». Осторожно, ненавязчиво Войков поправлял мои обывательские суждения, подчас глупую критику действий молодого правительства, и его спокойные и доходчивые слова все глубже входили в мое сознание, заставляли задуматься о том, что несла революция. Я думаю, что эти, хотя и немногочисленные, беседы с Войковым были для меня первыми зернами сознательности и понимания Октября.
В 1947 году исполнилось и заветное мое желание создать образ положительной советской героини. Б. А. Лавренев принес в театр пьесу «За тех, кто в море!». Центральную роль поручили Д. В. Зеркаловой, но в пьесе была еще роль Гореловой, актрисы фронтового театра, которая потеряла во время войны мужа и ребенка. На флоте она встретила, как ей казалось, человека смелого, умного, честного, которого полюбила... и ошиблась.
Я уже перестала ходить с моими вечными просьбами о положительной женской роли, как вдруг счастье мне улыбнулось. А. Д. Дикий, который сначала был назначен постановщиком, почему-то отказался, и спектакль взялись ставить К. А. Зубов и В. И. Цыганков. Роль Гореловой дали мне. Я думаю, что и болезнь, и фронтовые впечатления, и переживания за Игоря что-то очень переменили в моем творчестве. Ушел штамп роковых женщин, вечных злодеек, любовниц, шпионок. Пришло нечто другое, простое, глубокое и непоказное. Я перестала «представлять», «декламировать», стала жить и даже говорить просто. Да и вся роль Гореловой оказалась мне близкой. Я бывала на фронте, я теряла сына, мне все это было понятно. По-видимому, и для окружающих я вдруг стала иной. Было радостно, когда Лавренев на премьере подошел ко мне и сказал: «Вы сыграли больше, чем я написал, благодарю вас».
Спектакль «За тех, кто в море!» получил Государственную премию СССР — были отмечены постановщики, исполнители центральных мужских ролей, а из женщин только я.
Скоро мы переехали опять в наш старый, родной Малый театр. Его отремонтировали. — В уборной Южина стали гримироваться Яблочкина и Пашенная. Теперь эта гримуборная перешла ко мне.
Всегда вспоминаю, что именно в этой уборной у Александра Ивановича был и кабинет, и гримерная, и приемная. Я постаралась расставить мебель так, как было при Южине. Сюда он однажды вызвал меня во время антракта «Горя от ума». Волновалась я страшно — вызов к Южину во время спектакля?! Что-нибудь я сделала не так? Что случилось? Содрогаясь, я постучала. Вошла. Южин был не один. Рядом с ним сидела молоденькая девушка. Очень приветливо, как всегда, и немного церемонно Александр Иванович произнес: «Позвольте вам представить вашу пламенную поклонницу—это моя племянница». Не знаю, кто из нас был более смущен, я или Муся — Мария Александровна Богуславская, та молоденькая девушка с чудесными косами, Муся, навсегда ставшая моим другом. А было это, когда обеим нам не исполнилось еще и двадцати лет. В моей уборной всегда висят портреты Южина и Ермоловой. Часто, часто смотрю я на них.
Итак, в 1947 году меня приняли кандидатом в члены ВКП(б), а в 1948 году я получила красную книжечку— билет члена Коммунистической партии. Как-то по-особому стала относиться я и к своей работе в театре, и к общественным делам, и... к жизни. Ответственность коммуниста—это и серьезно, и дорого, и почетно!
Почти сейчас же после «За тех, кто в море!» Зубов пригласил Н. В. Петрова на постановку пьесы Б. С. Ромашова «Великая сила». Директора института Милягина хорошо играл недавно вступивший в труппу Ф. В. Григорьев, академика Остроумова — также только пришедший в коллектив Н. В. Комиссаров. Творчески очень интересные люди, эти актеры как-то сразу вошли в Малый театр, как-то сразу очень пришлись ко двору. Я в «Великой силе» играла Лаврову. Этот спектакль тоже получил Государственную премию СССР. Играли мы его на сцене Малого театра, а вот силы, духа Малого театра уже не было. Корабль наш начал крениться. И хоть были. премии и как будто и успех, а все же стало что-то провинциальное, не академия.
Получила я и еще одну Государственную премию СССР—за «Московский характер» А. В. Софронова. Играла я секретаря райкома. Спектакль ставил А. Д. Дикий. Приятно было, что вошел в театр мастер, но я как-то не чувствовала его режиссерской руки, мало он делал мне замечаний. Центральную роль — директора завода — играл Ф. В. Григорьев, Гриневу — Е. М. Шатрова. Молодую работницу — только что приглашенная из Таганрогского театра Е. М. Солодова. Как будто бы все- шло хорошо, но... Пров Михайлович Садовский уже ушел из жизни, умер и Николай Капитонович Яковлев. Умирал и старый Малый театр.
Кончались 40-е годы. Все шире разворачивалась моя общественная работа, но на душе было тревожно. Не та атмосфера, не та сплоченность коллектива, и репертуар как-то не соответствовал назначению и масштабу Малого театра, ушла куда-то классика. Правда, и «Горе от ума», и «Ревизор», и Островский еще не сходили с афиши театра, но ни о Шекспире, ни о Мольере никто не заикался. Современные пьесы игрались, скорее, по-коршевски. Все как-то принижалось, и, я бы сказала, что-то дешевое вползало к нам. Тем не менее и в 40-е годы были и успехи и интересные замыслы.
В 1946 году в Малый театр были приглашены на постановку пьесы Скриба и Легуве «Новеллы Маргариты Наваррской» режиссеры О. И. Пыжова и Б. В. Бибиков. Как и во всех пьесах Скриба, в ней немного ролей, всего шесть. Интрига ее очень занимательная, и характеры выписаны интересно. Короля Карла со свойственным ему мастерством играл С. Б. Межинский, роль инфанты Изабеллы очаровательно исполняла недавно пришедшая к нам из Тамбова Т.А. Еремеева, совсем молоденькой придворной дамы — выпускница Щепкинского училища И.А. Ликсо. Маргариту играла я, моего преданного рыцаря —Д.С. Павлов. Блестяще сыграл Франциска I М.И. Царев. Играл эту роль и Аксенов, но посредственно и небрежно. А жаль! У него были для нее все данные.
Я много читала о Маргарите Наваррской, даже достала и прочла в подлиннике и в переводе ее «Новеллы», была очень увлечена этой ролью. Спектакль прошел с успехом, однако после шести представлений в филиале его сняли с репертуара по причине безыдейности пьесы.
Из других моих работ 40-х годов я хотела бы отметить новый вариант леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь», поставленном режиссером В. Абашидзе в 1937 году. Постановщик и художник П. Оцхели стремились восстановить XVIII век, но трактовали его в манере «Мира искусства», представляли в условном и стилизованном виде. Это определило и мою трактовку образа леди Мильфорд. На протяжении всего спектакля я изображала из себя фарфоровую статуэтку.
Иное толкование характера леди Мильфорд давала я в спектакле, поставленном в 1949 году режиссером В. И. Цыганковым. Это было вызвано и самим стилем постановки и тем, что роль Фердинанда играл такой актер, как Царев. Сохраняя амплуа любовника, необходимое для этой роли, будучи чрезвычайно обаятельным, Царев вносил в свое исполнение большую человечность. Она проявлялась прежде всего в его чувстве к Луизе, которую очень хорошо, мягко играла Еремеева.
Моя леди Мильфорд была и сильная и глубоко любящая женщина. Я оправдывала ее уход из герцогства. Леди Мильфорд понимает, что она всего только фаворитка, и гордо покидает двор, сохраняя этим свое достоинство. Образ был освобожден от внешней мишуры, стал более сложным.
Таким образом, в 40-е годы мне удалось сделать известные шаги в развитии своего мастерства.
Дата публикации: 16.06.2005