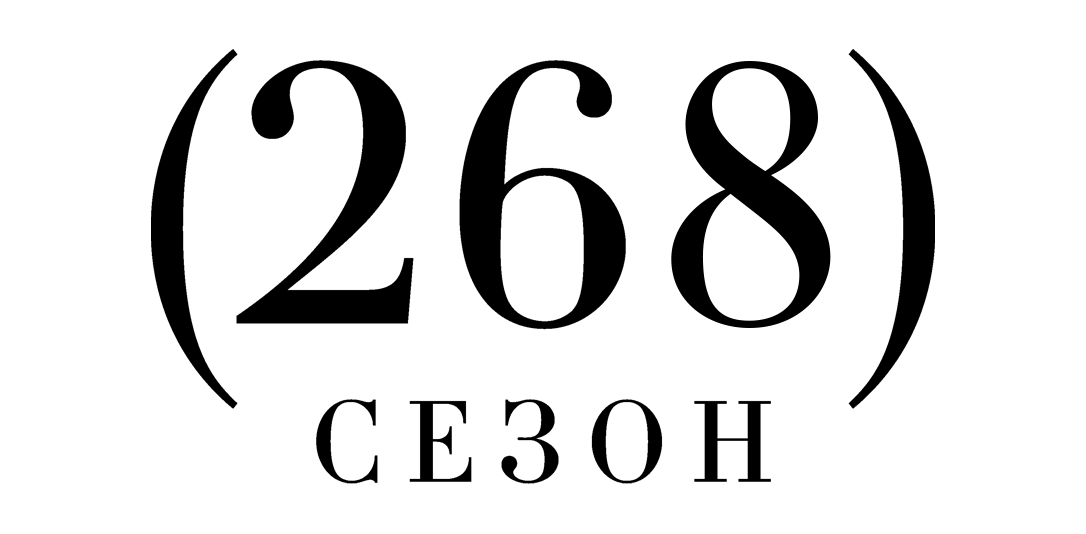Новости
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ». ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой» Е.Н. ГОГОЛЕВА «НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ». ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
Одновременно с марджановским «Дон Карлосом» Иван Степанович Платон готовил «Бешеные деньги» Островского, где Шатрова и я должны были играть Лидию. Так как Марджанов отказался от Малышевой, то я осталась единственной Эболи и большая часть репетиций «Бешеных денег» приходилась на долю Шатровой. Однако Платон считал меня в первом составе и даже проводил со мной отдельные беседы. В результате премьеру играла я. Но я не особенно любила роль Лидии. Все мои симпатии были в марджановском «Дон Карлосе», романтическая линия влекла меня больше, чем Островский. Вернувшись после долгой болезни в театр, я не высказала никакого желания снова играть Лидию, тем более что к тому времени и сам спектакль получил несколько иное звучание, чем на премьере. Яблочкина и Турчанинова не всегда участвовали в спектакле, который перевели с основной сцены в филиал, и мать Чебоксарову играла Борская. Лидия же оставалась за Шатровой.
Среди других ролей, сыгранных мною в 30-е годы, надо назвать Верочку в «Растеряевой улице». Инсценировка повести Глеба Успенского была сделана Михаилом Нароковым, который поставил великолепный спектакль. Картина мерзостей старой русской жизни, созданная замечательными артистами Малого театра — Климовым, Массалитиновой, Рыжовой, Пашенной, Сашиным-Никольским, заслуживает специальной подробной характеристики. Этот спектакль — одно из высочайших достижений искусства Малого театра. Без хвастовства могу сказать, что Наташа Белевцева в роли Липочки и я в роли Верочки не портили прекрасного ансамбля.
В театр пришел К. П. Хохлов, и я начала готовить с ним Марину Мнишек в «Борисе Годунове». Спектакль получился громоздкий и, несмотря на великолепные костюмы и интересные работы актеров (Годунов — М. Ф. Ленин, Самозванец — Анненков), в репертуаре держался недолго. Но сцену у фонтана я с успехом исполняла в концертах и с Анненковым и с Царевым.
Большую роль играла в моей жизни концертная деятельность. Она была своеобразной отдушиной и давала удовлетворение, которого я порой не получала от работы в театре. Поэтому о ней стоит поговорить особо.
Сначала у меня в репертуаре было всего два стихотворения, выученных еще в детстве для любительских вечеров в Новогирееве. Читать басни и пролог из «Орлеанской девы» было совсем не к месту. А вот «Памятники прошлого» — что-то о крепостном праве — и «Екатеринбург» — о расстреле коммунаров—годились для аудитории того времени. На бис я исполняла некрасовскую «Катерину»—это тоже подходило. Все это я читала на концертах после партийных конференций и в красноармейских клубах. А потом, увлекшись чтением, стала подбирать стихи известных поэтов. Это были Демьян Бедный, Багрицкий, Маяковский. Часто я выступала с Владимиром Яхонтовым—нас всегда приглашали вместе на концерты в Большом театре после партконференций или съездов.
Яхонтов постоянно читал, и читал превосходно, свои литературные композиции. Я же обычно исполняла стихи молодых революционных поэтов — Уткина, Жарова, Луговского и других. Нас обоих награждали благодарными аплодисментами. Но Яхонтов обладал уже большим мастерством, сделавшим его лучшим чтецом своего времени. Я же брала темпераментом и искренностью, у меня была собственная манера чтения, которую так не любят поэты и которую можно назвать актерской. Честно говоря, я не понимаю и не люблю слушать, как читают свои произведения поэты. Только Маяковский буквально завораживал меня. Услышав его исполнение, я перестала выступать с его стихами. С ним невозможно было конкурировать.
Читала я иногда и очень посредственные стихи, но отвечающие современному моменту. Как-то в «Чтеце-декламаторе» набрела на отрывок из рассказа Горького «Старуха Изергиль» — о горящем сердце Данко. Прочитав весь рассказ Горького, я решила, что в «Чтеце-декламаторе» взят самый интересный отрывок. Я стала его разучивать и через полгода выступила с ним. Так этот отрывок я и читаю всю жизнь. Я снова и снова перечитывала Пушкина и моего любимого Лермонтова. Помню, учила выбранные стихотворения дояго и долго не решалась выйти с новой вещью на публику. Очень упорно работала над поэмой Лермонтова «Мцыри», решив читать ее целиком. Это же случилось и с пушкинской «Полтавой». Сначала читала отдельные куски, а потом и всю поэму.
Так возникли уже не просто выступления в сборных концертах, а мои собственные чтецкие вечера.
Дорогая Елена Николаевна. На днях слушала Ваше чтение произведений наших классиков. Какое Вы своим талантом подарили нам наслаждение, ввели в мир настоящего искусства! Слушала затаив дыхание, и все знакомые с детства произведения как бы новыми картинами вставали перед глазами, и душа трепетно переживала виденное. Земной Вам поклон!
Е. Кочубей, г. Прокопьевск.
Я подготовила несколько программ советской и русской классической поэзии. Моя манера чтения некоторых раздражала, но у меня существовала и своя аудитория. Я была прежде всего драматической актрисой и в исполнение на эстраде вкладывала актерское перевоплощение. Так, читая «Мцыри», я сама была юношей-послушником. Я и видела и чувствовала и пластически изображала бой с барсом.
Когда я готовила «Песню о Гайавате» Лонгфелло, я сама была Гайаватой, и моя пластика на эстраде передавала пластику молодого индейца, натягивающего лук, чтобяг» безошибочно пустить стрелу. Мой Данко из «Старухи Изергиль» делал стремительные движения руками, словно разрывая свою грудь, и я высоко поднимала правую руку, как бы неся в ней сердце Данко.
Но я прибегала и к другой манере исполнения. Готовя вечер американской поэзии, я кроме Лонгфелло и Уитмена, которого читала почти без жестов, включила в программу и очень мне понравившуюся вещь Эдварда Гейля «Человек без родины». Читала я ее в сокращенном виде, но чтение длилось более часа, то есть целое отделение. Я не вставала из-за стола, с которого изредка брала чистые листы бумаги, якобы читая по ним приказы. Я любила эту вещь. И, судя по вниманию и тишине, с которой слушал зал, я знала, что она захватывала слушателей.
Однако я чувствовала, что порой недостает музыки. Выступая как-то в концерте с прекрасной арфисткой Ксенией Александровной Эрдели, я попросила у нее разрешения прийти к ней и вместе поработать над некоторыми поэтическими произведениями. Мой визит к Эрдели состоялся. И мы многие годы успешно выступали вместе на эстраде. Это не было мелодекламацией, модной и достаточно надоевшей в предреволюционные годы.
Ксения Александровна была слишком большим музыкантом, чтобы выступать просто как аккомпаниатор, так сказать, вторая скрипка. Великолепно понимая и чувствуя музыку, она упорно искала в огромном музыкальном арсенале отрывки и целые произведения, созвучные тем настроениям, которые вкладывал поэт в свои стихи. Так, чудесно получились у нас «Чайльд Гарольд» Байрона или его же «Еврейские мелодии» в переводе Лермонтова, лермонтовская «Русалка». Чудесно сливались с арфой английские баллады Бернса и Вальтера Скотта. А как прекрасно лилась «Песнь рыбки» Ипполитова-Иванова при исполнении «Мцыри»!
Дружба и работа с Ксенией Александровной Эрдели дали мне очень много. Эрдели первая сделала арфу не только оркестровым инструментом, на котором можно исполнять интимную музыку в великосветских гостиных. Эрдели упорно приспосабливала для арфы произведения, предназначенные для рояля, виолончели или скрипки. Она приблизила арфу к народному слушателю.
Во время Отечественной войны Владимир Крахт написал для нас с Ксенией Александровной поэму о блокаде Ленинграда. Стихи были не безупречны, но история двух голодных, полумертвых женщин, одна из которых в самые страшные, почти последние минуты старается поддержать себя и сестру, играя полу замерзшими пальцами вальс Чайковского (поэма так и называлась — «Вальс Чайковского»), вызывала, скажу без ложной скромности, настоящие овации. Ксения Александровна подобрала отвечающие настроению вальсы Чайковского, и обе мы, всегда до предела взволнованные, вкладывали в исполнение поэмы все свое вдохновение, всю душу.
Ксения Александровна была намного старше меня. Она рано отказалась от эстрады и целиком посвятила себя педагогической деятельности в Московской консерватории. На мои горячие просьбы продолжать выступать со мной она отвечала упорным отказом. «Я очень волнуюсь, Елена Николаевна. Ухудшение памяти не позволяет играть наизусть, а играть по нотам, с пюпитром, — конечно, уже не то. Это не совместное творчество и не вдохновение». Эрдели усиленно предлагала мне вместо себя свою лучшую ученицу. Но при всех достоинствах этой ученицы я уже не чувствовала руки, культуры, дружеского, мудрого руководства Эрдели. Так и кончился этот кусок моей эстрадной деятельности.
А потом я решила, что на эстраде должен быть юный, прекрасный чтец или чтица. Человек средних лет или пожилой — уже не годится. К тому же появилась уйма всяких исполнителей, и у меня пропал интерес к чтению с эстрады. Из моих современников остались считанные единицы. А вновь пришедшие на эстраду как-то по-иному понимали сложное искусство чтеца. Иногда у меня возникает мысль сделать новый репертуар, более подходящий моему возрасту. Но надо ли это? Так я и откладываю то, что иногда будоражит мысль. Да и читать теперь, вероятно, мне надо иначе, соответственно этому репертуару и... моим годам. А все эти вечера английской, французской, немецкой, американской поэзии, не говоря уже о русской классике и советской поэзии, — все это требует огромного труда, и все это ушло куда-то в прошлое.
Да, мне пришлось многое передумывать и переосмысливать после того, как исчезло обаяние молодости, которой многое прощалось, и наступили годы, требующие мастерства и большой ответственности.
Надо сказать, что первое десятилетие пребывания в Малом театре было самым счастливым периодом моей творческой, да и личной жизни. Я много играла в театре. В 1926 году прошла «Любовь Яровая», утвердившая мое прочное положение в прославленной труппе. Поездки Головина, в репертуаре которых я все больше занимала ведущую роль, давали мне дополнительный сценический опыт. В эти же годы росла и популярность моей концерт-вой деятельности — я выступала в сборных концертах и спектаклях в филиале Большого театра, а мои сольные концертные премьеры обычно проходили в Доме ученых, перед особо требовательной и культурной публикой. На этих концертных премьерах постоянно присутствовала директор Дома ученых — знаменитая М. Ф. Андреева. Все это приносило мне громадное творческое удовлетворение. Но и работала я неутомимо. Если к этому прибавить мою страсть к спорту и танцам, частые приглашения в иностранные посольства и вечные заботы о шляпках и туалетах—кстати, всегда покупаемых в долг, — то можно сказать, что у меня не было ни одной свободной минуты. Но внезапно меня постигло серьезное несчастье.
Слишком интенсивная работа, большое нервное потрясение, вызванное смертью Марджанова, и, наконец, полный и тяжелый разрыв с Всеволодом привели к тому, что я серьезно заболела. Еще в 1929 году, после воспаления легких, профессор В. Л. Эйнис предупреждал меня, что надо меньше работать и помнить, что легкие у меня слабые. Меньше работать?! Да разве это было возможно? Ну а беречься я никогда не умела. И, конечно, как только встала с постели, опять завертелась в вихре различных дел. Внезапно я стала замечать, что иногда подхрипываю, но при определенном повороте головы говорю лучше. Все же весной 1938 года я показалась другу артистов — знаменитому ларингологу А. И. Фельдману. Его диагноз был — переутомление связок, надо работать поменьше. Но концертов было много. К тому же приближался конец сезона в Малом. Мы с мужем, Семеном Исааковичем Каминкой, приобрели путевки в санаторий имени Орджоникидзе в Кисловодске. Я надеялась там только отдыхать и нигде не выступать. Пусть отдохнут мои связки, думала я. Однако вблизи Таганрога есть станция (кажется, Морская), где всегда продавались великолепные раки. Я очень люблю раков, и мы уплетали их за обе щеки, запивая холодным пивом. В результате я совершенно потеряла голос. Могла только шептать. Уверенная, что это от холодного пива, я опять особенно не беспокоилась: в санатории все пройдет.
Нам дали чудесную палату с балконом и видом на Эльбрус. Я была в восторге. Казалось, все тяжелое и страшное позади. И Игорек (он уже жил у меня) хорошо устроен на лето в Щелыкове с моей мамой. Вот только, палатный врач, совсем молодая девушка, с беспокойством относилась к моей температуре — 37,5. Я ее уверяла, что это моя нормальная температура и нечего обращать на нее внимание. Вот только бы вернулся голос. А голос не возвращался, и я отправилась к ларингологу. Она заглянула в мое горло, и я увидела ее испуганное и растерянное лицо. «Что у меня?» — прошептала я. «Ничего, ничего,-— стала меня успокаивать уже взявшая себя в руки тоже. молодая женщина-врач. — И знаете что? Сейчас в санатории отдыхает моя коллега, даже мой преподаватель. Вы ничего не имеете против, если я вас ей покажу?» Конечно, я согласилась. Мне бы только поскорее вернуть голос. Что происходило со мной, я не подозревала.
Дальше пошли еще какие-то необходимые обследования, и почему-то однажды Семен Исаакович сказал, что мы не будем ходить в общую столовую, а нам все будут приносить в палату: «Чтобы ты больше молчала, а то, находясь в обществе, невольно станешь разговаривать». В общем, я и этому опять не придала никакого значения. Я могла гулять, ходила в горы всегда одна и, естественно, молчала.
Но вот меня вызвали к ларингологу. Меня осмотрела ее коллега. Они о чем-то пошептались и велели прийти через два дня. Мне еще предстоял визит к невропатологу. И тут все выяснилось. Очаровательный невропатолог (он действительно был очень интересный мужчина) в процессе осмотра заинтересовался, почему я говорю шепотом. Я стала что-то объяснять насчет пива, которое выпила в дороге. Но мой палатный врач протянула ему историю болезни... и, не сдержавшись, невропатолог с изумлением воскликнул: «Как, ТВС?» Что такое ТВС—я знала! Вот, значит, почему ни с кем не общаться, почему обедать в палате! ТВС! Туберкулез! Но я, не знала до конца всей ужасной правды. Да, у меня была уже палочка Коха, и я была заразна. У меня был милиарный туберкулез легких. Но горло? Голос? Об этом мне никто не говорил. На следующий день мне сделали первое прижигание на голосовой связке. Боль была адская. Не было специальных приспособлений. Остается удивляться, как в тех условиях все же смогли справиться с этой процедурой. Но она была необходима. Дело, говоря попросту, шло к скоротечной чахотке. Директор санатория, милейший, отзывчивый человек (кстати, он во время войны командовал партизанским отрядом), посоветовал немедленно ехать в Москву, где есть серьезная профессура и где лечение может идти более успешно.
Семен Исаакович списался с Москвой. Наш замечательный адми-нистратор Матусис достал мне путевку в Барвиху. И мы расстались с Кисловодском, с прекрасным санаторием и хорошими, добрыми врачами, которые все так хотели мне помочь.
В Москве Семен Исаакович поднял на ноги всю профессуру. Профессор В. Л. Эйнис, лучший в то время фтизиатр, и профессор А. Н. Вознесенский, блестящий, фтизиоларинголог, часто навещали меня и постоянно наблюдали, пока я была в Барвихе. Я или находилась в своей палате, или гуляла, но с другими отдыхающими не общалась. Вознесенский сделал мне второе прижигание связки. Боль была меньше, ибо имелись все необходимые инструменты и соблюдались надлежащие условия. Оба профессора настаивали на моем отъезде в Крым. «В Крым — значит, умирать»,— думала я и все допытывалась, что же у меня с горлом. Рак? Видя мое смятение, мне наконец сказали правду: не рак, а туберкулез связки, каверны на связках. Нужен юг, полное молчание и серьезное лечение легких.
Я никогда не забуду необыкновенно заботливое отношение ко мне партии и правительства. Я была беспартийной и мало что собой представляла! Молодая, довольно популярная актриса, и ничего больше. Я ведь не сделала пока в искусстве ничего значительного. И вот меня отправляют в лучший туберкулезный санаторий ЦК партии, «Горное солнце», расположенный в Мисхоре. Он переполнен. Но мне дают кабинет дежурного врача. Беспрерывно идут телеграммы из Москвы от моих профессоров. В телеграммах — тщательные указания, как меня надо лечить. Специально ко мне из Ялты приезжает светило юга — профессор-фтизиоларинголог Биншток. Он предлагает лечение рентгеном. Москва категорически протестует —только прижигание. А у меня одна мысль:
конец. Голос не возвращается, температура не спадает. Долгие, мучительные ночи без сна и приглушенные шаги за дверью. Очередная смерть. Кого-то несут мимо моей палаты в морг. Скоро и меня. Думала ли я о театре? Да, конечно. Но больше—о сыне. От него многое скрывали. Он рвался ко мне, но... В Москве стояла осень. Мне почти ничего не сообщали о театре. Я старалась писать и Семену Исааковичу и Горику веселые письма. И вот вдруг температура стала падать. Значит, не умру, значит, не конец! Но голос? Голоса не было. Вернется ли он? А если нет? Что будет со мной? Нет голоса—значит, нет театра. Я не актриса, даже не смогу преподавать. Что же делать? И опять мучительные раздумья. Что делать без голоса?! Пришла мысль: писать. Я стала пробовать писать маленькие сказки об Ай-Петри, о море, о девочке, которая вчера умерла, прижав к груди любимую куклу. Так проходили недели, а из Москвы шли ободряющие письма. Врачи. «Горного солнца» отмечали улучшение в легких, но голос, голос... его не было.
Я много гуляла, прибавляла в весе, старалась правильно дышать и молчала. У меня были блокнот, карандаш и жестикуляция. Весь санаторий знал, что говорить мне запрещено. Питалась я в палате, много читала, писала, иногда смотрела кинокартины на первом этаже. И молчала, молчала, молчала. Однажды по распоряжению из Москвы мой палатный врач предложил мне ответить на его утреннее приветствие звуком, а не молчаливым поклоном. Я не могла. Мне казалось, что-то порвется у меня в горле, я боялась и... молчала. Врач настойчиво просил побороть страх и все же попробовать. Нет... не могла. И вот однажды я стояла на своем втором этаже, опираясь на балюстраду. Внизу, в холле, сидела сестра, принимавшая приехавших больных. Кажется, уже приехали все. И она куда-то отлучилась. Однако в это время прибыл еще один больной. Не видя никого в холле, он заметил наверху меня и стал довольно нервно требовать сестру. Что я ему могла сказать? Мои жесты злили его еще больше. И вдруг я невольно звучно произнесла: «Она вышла». Голос! Голос! У меня голос! И он, этот человек, там, внизу, услышал меня! Это было невероятно! Это было и страшно и радостно. Я побежала в палату и, стоя перед зеркалом, чуть не плача и смеясь, говорила, говорила, пока еще тихо, несмело, но говорила себе «здравствуй». Голос звучал еще хрипло и слабо, но звук был. Была и чистая нота.
В Москву полетела сумасшедшая телеграмма: «Голос прорезался, голос есть!»
Так шаг за шагом началось мое выздоровление.
Разумеется, я боялась много говорить и лишь по утрам позволяла себе приветствовать врача и сестер. Как они радовались! Мне кажется, они даже были рады больше, чем я. Они ведь тоже понимали, что значит для актрисы потерять голос. До сих пор я ни на минуту не забываю, чем обязана заботам этих добрых людей. Чем обязана моим истинным спасителям — Владимиру Львовичу Эйнису и Александру Николаевичу Вознесенскому. Не будь их постоянного наблюдения, их писем из Москвы—бог знает, вернулась ли бы я на сцену. Первое прижигание в Кисловодске мне сделала ассистент Вознесенского (к стыду своему, забыла ее фамилию), по счастливой случайности оказавшаяся там одновременно с нами. Если бы Вознесенский не воспротивился предложению Бинштока, возможно, голос вернулся бы ко мне скорее, но остался хриплым. Теперь туберкулез уже не страшен, медицина. сделала огромные шаги вперед. А тогда... И во время войны, когда пришло известие, что Горик пропал без вести, снова открылся мой ТВС. Крым был недоступен, и опять Эйнис и Вознесенский спасли меня — пневмотораксом. Четыре года войны — и четыре года пневмоторакс.
Итак, в 1938 году в Крыму я выздоровела, но в Москву меня не пускали, ждали, чтобы снег лег плотно, наступила зима.
Первые дни, когда Семен Исаакович привез меня в «Горное солнце», я проплакала так, как никогда еще не плакала. Ничто и никто не мог меня утешить. Семен Исаакович должен был уезжать в театр в Москву. А у меня была только одна мысль — рвется последняя нить, связывающая меня не только с театром, но и с жизнью. Я была твердо уверена, что в Крым меня привезли умирать. Эти мысли долго не оставляли меня. А тут еще письмо от Всеволода. Он просил разрешения приехать, быть около меня, простить и забыть все. Я не ответила.
Я выздоровела и вернулась в Москву в середине декабря 1938 года: Однако к работе в театре врачи меня еще не допускали. Они категорически требовали, чтобы я продолжала молчаливый режим. В редких случаях короткий тихий разговор дома. И я выдерживала этот режим. В общем, я молчала почти год, и это спасло меня. Моя беспредельная благодарность Семену Исааковичу Каминке. Его преданность и заботы всей его семьи обо мне помогли моему исцелению.
Теперь о театре. Как я рвалась к нему, как хотелось поскорее вступить на его сцену, вдохнуть запах кулис, увидеть огни рампы! Однако мне сразу пришлось встретить в его стенах много неожиданно горького.
Я вернулась в театр, уже зная, что мою Глафиру в «Волках и овцах» репетирует другая актриса. Смущаясь, главный режиссер И. Я. Судаков предложил мне репетировать в очередь с ней, но я отказалась. Зачем? «Вы взяли актрису, она уже репетирует, пусть и играет». «Евгению Гранде» на худсовете я сама отказалась играть в пользу Белевцевой. Короче говоря, в театре меня уже считали несуществующей. Ходили слухи, что Гоголева умрет не нынче завтра, а если и выживет, то у нее повреждены голосовые связки —значит, ей как актрисе конец.
И тем не менее в апреле 1939 года я впервые после болезни вышла на сцену в любимом моем «Стакане воды» в роли герцогини Мальборо с Зубовым—Болингброком.
Итак, я была здорова и могла работать, хотя под постоянным наблюдением врачей. Правда, работать в полную силу пока было нельзя. Лишь постепенно входила я в репертуар театра и в концертную деятельность.
Приходилось вновь завоевывать место в труппе Малого театра.
Не все, что происходило в нем, я понимала. В его атмосфере что-то менялось. В это время главным режиссером театра был воспитанник МХАТ И. Я. Судаков. Он привес нам много нового и полезного. Укрепил дисциплину, усовершенствовал постановочную часть. Однако некоторые особенности Малого театра были ему чужды, и он старался последовательно их преодолевать.
Кроме того, еще в 1932 году, после закрытия театра бывш. Корща, группа его артистов влилась в наш коллектив. Это были прекрасные актеры, многие из них сделали для Малого театра немало хорошего, но их стиль, отношение к искусству не всегда были нам близки.
Тем не менее в конце 30-х—начале 40-х годов, до Великой Отечественной войны, у Малого театра были большие успехи. Я напомню три особо значительных спектакля.
Во-первых, заиграл Остужев, и как заиграл! Отелло Остужева прогремел на всю страну. О нем написано много восторженных книг, статей, рецензий. А ведь произошло это случайно.
В театр для постановки «Отелло» пригласили режиссера С. Э. Радлова. Он не очень хорошо знал труппу Малого театра. И ему предложили возможных исполнителей роли Отелло — Садовского, Ольховского и Ленина. Об Остужеве не было и разговора: инвалид, глухой, не сегодня завтра выйдет на пенсию. Так не дали ему играть маркиза Позу в «Дон Карлосе». Он только иногда заходил в зал на марджановские репетиции и грустно смотрел, только смотрел на сцену. Да, он был актер классического романтического репертуара и в современных пьесах не всегда находил себя. Но Поза в «Дон Карлосе» словно создан для него. А Остужев только смотрел, как играют другие. Пожалуй, после болезни и мне была уготована такая же участь. Как же вышло, что Остужев все-таки сыграл Отелло?
Распределение ролей в «Отелло» вывесили весной, а летом В. Р. Ольховский лег на операцию и... умер. Остались два Отелло. Пров Михайлович отличался некоторой ленцой. Михаил Францевич Ленин вызывал сомнения Радлова, который вдруг попросил для Отелло Остужева. И директор театра С. И. Амоглобели с удовольствием согласился на эту кандидатуру.
Результат оказался потрясающим. Грандиозный успех. Мало сказать, успех — триумф актера Остужева, «глухого, инвалида, кандидата на пенсию»! Это был новый взлет Малого театра.
После «Отелло» Радлов хотел ставить с Остужевым «Гамлета». Все лето перед началом репетиций Остужев штудировал трагедию Шекспира. Работал он с адским напряжением. Учил не только свою роль, но и всю пьесу.
Однако ряд обстоятельств помешал постановке «Гамлета». Это был тягчайший удар для Остужева.
И вот тогда Судаков предложил Остужеву «Уриэля Акосту».
Остужев был счастлив. Однако актриса, назначенная на роль Юдифи, вызвала у него категорическое несогласие. Он хотел, чтобы его партнершей, как и прежде, была я. Но теперь уже и я после моей болезни ходила в «инвалидах». И Остужеву стоило больших усилий настоять на моей кандидатуре. С первых моих шагов на сцене Малого театра Остужев относился ко мне с нежным вниманием. Помню, в 20-е годы на репетициях (мы тогда много играли вместе) он внимательно наблюдал за мной — какую и где я делала паузу, какой и где поворот, следил по губам за манерой разговора. И это не только за мной, как за своей партнершей. Я не помню случая во время спектакля, чтобы он «наступил» на чью-нибудь реплику или заговорил невпопад. Играя со мной, он бывал совершенно спокоен, знал — что бы ни случилось, я всегда выручу и поддержку его. Несмотря на глухоту, он прекрасно понимал, что делается в театре.
Оба мы страдали за Малый театр, видели все то чуждое, что появилось в нем. Однако все новое, истинно прекрасное, что могло увеличить славу Малого театра и развить его традиции, Остужев принимал с радостью. Внимательно и благодарно прислушивался он к указаниям и советам Радлова, с таким же вниманием относился к Судакову.
Я понимала — все, что делает Юдифь, есть проявление любви к Уриэлю. Она всем сердцем стремится воспринять его учение и помочь ему восторжествовать. Легко и радостно было работать с Остужевым. Я иногда забывала себя и свои творческие интересы—только бы удобнее, лучше было Остужеву. Для меня «Уриэль Акоста» —счастливая и дорогая сердцу работа. Опять мы с Остужевым вместе на родной сцене, опять вспоминался его очаровательный Бассанио в «Венецианском купце» и дорогой мой Чацкий! А потом наша обоюдная неудовлетворенность в «Заговоре Фиеско», наши страдания в «Соборе Парижской богоматери» и многие, многие другие встречи в спектаклях. Он сам пережил тягчайшую травму из-за своей болезни. И понимал мою, чуть не сыгравшую роковую роль, «чахотку». Он, который лучшие свои годы сидел и смотрел, как играли другие, понимал и мою тоску из-за бездействия. Он знал, что я была не «инвалидом», что я многое могла еще сделать именно в классическом, романтическом репертуаре.
Всё познается в сравнении. Иногда мне кажется, что все сыгранные мною роли — это нечто среднее, обыденное, а сама я актриса очень посредственная. Но как быть с письмами от зрителей, которые я получаю в большом количестве?.. Как быть с аплодисментами, которыми меня награждают? Не искупают ли они равнодушие и невнимание прессы? Однако порой мне думается, что все те высокие награды, которыми я награждена, — награды не за творческие мои достижения, а за ту большую общественную работу, которая так дорога мне и которой я, действительно, отдаю свою любовь и. силы.
В письме к Г. А. Товстоногову я совершенно искренне писала, что, если бы у меня в моей творческой жизни были такие учителя-режиссеры, как он, я могла бы быть другой, хорошей актрисой. Ведь, кроме Марджанова, я за долгие годы не встретила ни одного режиссера, который смог бы добраться до святая святых моей души, стать моим путеводителем в творчестве. Часто испытывая недоброжелательство, я вообще теряла веру в себя и не могла понять, каковы мои актерские возможности. А это очень тяжело.
Летом 1939 года в Барвиху, где я отдыхала, уже без «изоляции», приехали Судаков и Зубов. Они старались уговорить меня играть Надежду в «Варварах» Горького. Весной, когда начались репетиции, я сразу же наотрез отказалась от этой роли. Я не понимала Надежду и невзлюбила ее, только еще прочитав пьесу.
Пробовали Непомнящую, актрису с удивительными глазами, пробовали Шатрову, но и она совсем не подходила для этой роли. И вот в третий раз приехали ко мне режиссер и постановщик. Судаков не любил меня как актрису, его визит и настойчивая просьба были удивительны. С большим трудом я все же еще раз отказалась, сказав, что перечитаю пьесу и подумаю. Но вопрос до осени остался открытым. «Не могу я играть эту дуру и мещанку», — думала я. «Я вас с голоса буду учить», — говорил мне Судаков.
Наконец после долгих колебаний я согласилась. Я много думала о том, что хотел Алексей Максимович сказать, когда писал эту роль. Как-то я поехала к Марии Федоровне Андреевой. Во время разговора с ней наблюдала за ее необыкновенными глазами, за ее манерой чуть замедленно говорить и словно брала у нее черты, необходимые для характеристики моей героини.
Моя Надежда считала Черкуна человеком исключительным, видела его в рыцарских доспехах. Ее любовь — чистая любовь. Она словно несет чашу прозрачной воды и старается ее не расплескать.
»Варвары»! Я видел эту пьесу в Малом театре несколько раз... Кто мог сравниться с Анненковым — Черкуном, Зубовым — Сержем Цыгановым, Вами — Надеждой Монаховой, Велиховым — Монаховым, Ликсо — Лидией, Турчаниновой и Яблочкиной в роли Богаевской? Никто! Тридцать лет прошло (с хвостиком!), а я закрою глаза и с оптической резкостью вижу многие сцены, слышу голоса актеров, помню их интонации. ...Разве можно забыть Вашу сцену с Черкуном?! Н. А. Анненков... играл эту роль великолепно! Надежда говорит. Черкуну: «Настоящая любовь ничего не жалеет, ничего не боится...» — и в ее голосе звучит убеждение, напористость. И Егор мало-помалу сдается... Увы! Надежда выдумала своего героя. Она наделила Черкуна теми достоинствами, которых у него не было. Хмель, ударивший в голову Черкуну, скоро прошел, и наш герой запросил отступного... Все оборвалось в душе Надежды— все рухнуло. Всю остальную сцену Вы проводили как в тумане. И какой неизбывной тоской звучали Ваши слова: «Он испугался... сам он. Никто не может любить меня... никто». В этих словах была такая опустошенность, что зритель почувствовал — что-то должно произойти роковое! И это в самом деле произошло—Надежда убила себя...
В. Д. Демьянцев, г. Кемерово.
Образ Надежды вырастал у меня постепенно. Мне кажется, я так и не достигла зенита в его трактовке, что-то прорастало у меня новое, но до конца я это новое не довела. Умер Зубов, игравший Цыганова, и спектакль сняли. Сейчас бы сыграла эту роль по-другому. Она дорога мне. Я полюбила свою Надежду, эту чистую женщину, искавшую настоящей любви и не нашедшую ее.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
Одновременно с марджановским «Дон Карлосом» Иван Степанович Платон готовил «Бешеные деньги» Островского, где Шатрова и я должны были играть Лидию. Так как Марджанов отказался от Малышевой, то я осталась единственной Эболи и большая часть репетиций «Бешеных денег» приходилась на долю Шатровой. Однако Платон считал меня в первом составе и даже проводил со мной отдельные беседы. В результате премьеру играла я. Но я не особенно любила роль Лидии. Все мои симпатии были в марджановском «Дон Карлосе», романтическая линия влекла меня больше, чем Островский. Вернувшись после долгой болезни в театр, я не высказала никакого желания снова играть Лидию, тем более что к тому времени и сам спектакль получил несколько иное звучание, чем на премьере. Яблочкина и Турчанинова не всегда участвовали в спектакле, который перевели с основной сцены в филиал, и мать Чебоксарову играла Борская. Лидия же оставалась за Шатровой.
Среди других ролей, сыгранных мною в 30-е годы, надо назвать Верочку в «Растеряевой улице». Инсценировка повести Глеба Успенского была сделана Михаилом Нароковым, который поставил великолепный спектакль. Картина мерзостей старой русской жизни, созданная замечательными артистами Малого театра — Климовым, Массалитиновой, Рыжовой, Пашенной, Сашиным-Никольским, заслуживает специальной подробной характеристики. Этот спектакль — одно из высочайших достижений искусства Малого театра. Без хвастовства могу сказать, что Наташа Белевцева в роли Липочки и я в роли Верочки не портили прекрасного ансамбля.
В театр пришел К. П. Хохлов, и я начала готовить с ним Марину Мнишек в «Борисе Годунове». Спектакль получился громоздкий и, несмотря на великолепные костюмы и интересные работы актеров (Годунов — М. Ф. Ленин, Самозванец — Анненков), в репертуаре держался недолго. Но сцену у фонтана я с успехом исполняла в концертах и с Анненковым и с Царевым.
Большую роль играла в моей жизни концертная деятельность. Она была своеобразной отдушиной и давала удовлетворение, которого я порой не получала от работы в театре. Поэтому о ней стоит поговорить особо.
Сначала у меня в репертуаре было всего два стихотворения, выученных еще в детстве для любительских вечеров в Новогирееве. Читать басни и пролог из «Орлеанской девы» было совсем не к месту. А вот «Памятники прошлого» — что-то о крепостном праве — и «Екатеринбург» — о расстреле коммунаров—годились для аудитории того времени. На бис я исполняла некрасовскую «Катерину»—это тоже подходило. Все это я читала на концертах после партийных конференций и в красноармейских клубах. А потом, увлекшись чтением, стала подбирать стихи известных поэтов. Это были Демьян Бедный, Багрицкий, Маяковский. Часто я выступала с Владимиром Яхонтовым—нас всегда приглашали вместе на концерты в Большом театре после партконференций или съездов.
Яхонтов постоянно читал, и читал превосходно, свои литературные композиции. Я же обычно исполняла стихи молодых революционных поэтов — Уткина, Жарова, Луговского и других. Нас обоих награждали благодарными аплодисментами. Но Яхонтов обладал уже большим мастерством, сделавшим его лучшим чтецом своего времени. Я же брала темпераментом и искренностью, у меня была собственная манера чтения, которую так не любят поэты и которую можно назвать актерской. Честно говоря, я не понимаю и не люблю слушать, как читают свои произведения поэты. Только Маяковский буквально завораживал меня. Услышав его исполнение, я перестала выступать с его стихами. С ним невозможно было конкурировать.
Читала я иногда и очень посредственные стихи, но отвечающие современному моменту. Как-то в «Чтеце-декламаторе» набрела на отрывок из рассказа Горького «Старуха Изергиль» — о горящем сердце Данко. Прочитав весь рассказ Горького, я решила, что в «Чтеце-декламаторе» взят самый интересный отрывок. Я стала его разучивать и через полгода выступила с ним. Так этот отрывок я и читаю всю жизнь. Я снова и снова перечитывала Пушкина и моего любимого Лермонтова. Помню, учила выбранные стихотворения дояго и долго не решалась выйти с новой вещью на публику. Очень упорно работала над поэмой Лермонтова «Мцыри», решив читать ее целиком. Это же случилось и с пушкинской «Полтавой». Сначала читала отдельные куски, а потом и всю поэму.
Так возникли уже не просто выступления в сборных концертах, а мои собственные чтецкие вечера.
Дорогая Елена Николаевна. На днях слушала Ваше чтение произведений наших классиков. Какое Вы своим талантом подарили нам наслаждение, ввели в мир настоящего искусства! Слушала затаив дыхание, и все знакомые с детства произведения как бы новыми картинами вставали перед глазами, и душа трепетно переживала виденное. Земной Вам поклон!
Е. Кочубей, г. Прокопьевск.
Я подготовила несколько программ советской и русской классической поэзии. Моя манера чтения некоторых раздражала, но у меня существовала и своя аудитория. Я была прежде всего драматической актрисой и в исполнение на эстраде вкладывала актерское перевоплощение. Так, читая «Мцыри», я сама была юношей-послушником. Я и видела и чувствовала и пластически изображала бой с барсом.
Когда я готовила «Песню о Гайавате» Лонгфелло, я сама была Гайаватой, и моя пластика на эстраде передавала пластику молодого индейца, натягивающего лук, чтобяг» безошибочно пустить стрелу. Мой Данко из «Старухи Изергиль» делал стремительные движения руками, словно разрывая свою грудь, и я высоко поднимала правую руку, как бы неся в ней сердце Данко.
Но я прибегала и к другой манере исполнения. Готовя вечер американской поэзии, я кроме Лонгфелло и Уитмена, которого читала почти без жестов, включила в программу и очень мне понравившуюся вещь Эдварда Гейля «Человек без родины». Читала я ее в сокращенном виде, но чтение длилось более часа, то есть целое отделение. Я не вставала из-за стола, с которого изредка брала чистые листы бумаги, якобы читая по ним приказы. Я любила эту вещь. И, судя по вниманию и тишине, с которой слушал зал, я знала, что она захватывала слушателей.
Однако я чувствовала, что порой недостает музыки. Выступая как-то в концерте с прекрасной арфисткой Ксенией Александровной Эрдели, я попросила у нее разрешения прийти к ней и вместе поработать над некоторыми поэтическими произведениями. Мой визит к Эрдели состоялся. И мы многие годы успешно выступали вместе на эстраде. Это не было мелодекламацией, модной и достаточно надоевшей в предреволюционные годы.
Ксения Александровна была слишком большим музыкантом, чтобы выступать просто как аккомпаниатор, так сказать, вторая скрипка. Великолепно понимая и чувствуя музыку, она упорно искала в огромном музыкальном арсенале отрывки и целые произведения, созвучные тем настроениям, которые вкладывал поэт в свои стихи. Так, чудесно получились у нас «Чайльд Гарольд» Байрона или его же «Еврейские мелодии» в переводе Лермонтова, лермонтовская «Русалка». Чудесно сливались с арфой английские баллады Бернса и Вальтера Скотта. А как прекрасно лилась «Песнь рыбки» Ипполитова-Иванова при исполнении «Мцыри»!
Дружба и работа с Ксенией Александровной Эрдели дали мне очень много. Эрдели первая сделала арфу не только оркестровым инструментом, на котором можно исполнять интимную музыку в великосветских гостиных. Эрдели упорно приспосабливала для арфы произведения, предназначенные для рояля, виолончели или скрипки. Она приблизила арфу к народному слушателю.
Во время Отечественной войны Владимир Крахт написал для нас с Ксенией Александровной поэму о блокаде Ленинграда. Стихи были не безупречны, но история двух голодных, полумертвых женщин, одна из которых в самые страшные, почти последние минуты старается поддержать себя и сестру, играя полу замерзшими пальцами вальс Чайковского (поэма так и называлась — «Вальс Чайковского»), вызывала, скажу без ложной скромности, настоящие овации. Ксения Александровна подобрала отвечающие настроению вальсы Чайковского, и обе мы, всегда до предела взволнованные, вкладывали в исполнение поэмы все свое вдохновение, всю душу.
Ксения Александровна была намного старше меня. Она рано отказалась от эстрады и целиком посвятила себя педагогической деятельности в Московской консерватории. На мои горячие просьбы продолжать выступать со мной она отвечала упорным отказом. «Я очень волнуюсь, Елена Николаевна. Ухудшение памяти не позволяет играть наизусть, а играть по нотам, с пюпитром, — конечно, уже не то. Это не совместное творчество и не вдохновение». Эрдели усиленно предлагала мне вместо себя свою лучшую ученицу. Но при всех достоинствах этой ученицы я уже не чувствовала руки, культуры, дружеского, мудрого руководства Эрдели. Так и кончился этот кусок моей эстрадной деятельности.
А потом я решила, что на эстраде должен быть юный, прекрасный чтец или чтица. Человек средних лет или пожилой — уже не годится. К тому же появилась уйма всяких исполнителей, и у меня пропал интерес к чтению с эстрады. Из моих современников остались считанные единицы. А вновь пришедшие на эстраду как-то по-иному понимали сложное искусство чтеца. Иногда у меня возникает мысль сделать новый репертуар, более подходящий моему возрасту. Но надо ли это? Так я и откладываю то, что иногда будоражит мысль. Да и читать теперь, вероятно, мне надо иначе, соответственно этому репертуару и... моим годам. А все эти вечера английской, французской, немецкой, американской поэзии, не говоря уже о русской классике и советской поэзии, — все это требует огромного труда, и все это ушло куда-то в прошлое.
Да, мне пришлось многое передумывать и переосмысливать после того, как исчезло обаяние молодости, которой многое прощалось, и наступили годы, требующие мастерства и большой ответственности.
Надо сказать, что первое десятилетие пребывания в Малом театре было самым счастливым периодом моей творческой, да и личной жизни. Я много играла в театре. В 1926 году прошла «Любовь Яровая», утвердившая мое прочное положение в прославленной труппе. Поездки Головина, в репертуаре которых я все больше занимала ведущую роль, давали мне дополнительный сценический опыт. В эти же годы росла и популярность моей концерт-вой деятельности — я выступала в сборных концертах и спектаклях в филиале Большого театра, а мои сольные концертные премьеры обычно проходили в Доме ученых, перед особо требовательной и культурной публикой. На этих концертных премьерах постоянно присутствовала директор Дома ученых — знаменитая М. Ф. Андреева. Все это приносило мне громадное творческое удовлетворение. Но и работала я неутомимо. Если к этому прибавить мою страсть к спорту и танцам, частые приглашения в иностранные посольства и вечные заботы о шляпках и туалетах—кстати, всегда покупаемых в долг, — то можно сказать, что у меня не было ни одной свободной минуты. Но внезапно меня постигло серьезное несчастье.
Слишком интенсивная работа, большое нервное потрясение, вызванное смертью Марджанова, и, наконец, полный и тяжелый разрыв с Всеволодом привели к тому, что я серьезно заболела. Еще в 1929 году, после воспаления легких, профессор В. Л. Эйнис предупреждал меня, что надо меньше работать и помнить, что легкие у меня слабые. Меньше работать?! Да разве это было возможно? Ну а беречься я никогда не умела. И, конечно, как только встала с постели, опять завертелась в вихре различных дел. Внезапно я стала замечать, что иногда подхрипываю, но при определенном повороте головы говорю лучше. Все же весной 1938 года я показалась другу артистов — знаменитому ларингологу А. И. Фельдману. Его диагноз был — переутомление связок, надо работать поменьше. Но концертов было много. К тому же приближался конец сезона в Малом. Мы с мужем, Семеном Исааковичем Каминкой, приобрели путевки в санаторий имени Орджоникидзе в Кисловодске. Я надеялась там только отдыхать и нигде не выступать. Пусть отдохнут мои связки, думала я. Однако вблизи Таганрога есть станция (кажется, Морская), где всегда продавались великолепные раки. Я очень люблю раков, и мы уплетали их за обе щеки, запивая холодным пивом. В результате я совершенно потеряла голос. Могла только шептать. Уверенная, что это от холодного пива, я опять особенно не беспокоилась: в санатории все пройдет.
Нам дали чудесную палату с балконом и видом на Эльбрус. Я была в восторге. Казалось, все тяжелое и страшное позади. И Игорек (он уже жил у меня) хорошо устроен на лето в Щелыкове с моей мамой. Вот только, палатный врач, совсем молодая девушка, с беспокойством относилась к моей температуре — 37,5. Я ее уверяла, что это моя нормальная температура и нечего обращать на нее внимание. Вот только бы вернулся голос. А голос не возвращался, и я отправилась к ларингологу. Она заглянула в мое горло, и я увидела ее испуганное и растерянное лицо. «Что у меня?» — прошептала я. «Ничего, ничего,-— стала меня успокаивать уже взявшая себя в руки тоже. молодая женщина-врач. — И знаете что? Сейчас в санатории отдыхает моя коллега, даже мой преподаватель. Вы ничего не имеете против, если я вас ей покажу?» Конечно, я согласилась. Мне бы только поскорее вернуть голос. Что происходило со мной, я не подозревала.
Дальше пошли еще какие-то необходимые обследования, и почему-то однажды Семен Исаакович сказал, что мы не будем ходить в общую столовую, а нам все будут приносить в палату: «Чтобы ты больше молчала, а то, находясь в обществе, невольно станешь разговаривать». В общем, я и этому опять не придала никакого значения. Я могла гулять, ходила в горы всегда одна и, естественно, молчала.
Но вот меня вызвали к ларингологу. Меня осмотрела ее коллега. Они о чем-то пошептались и велели прийти через два дня. Мне еще предстоял визит к невропатологу. И тут все выяснилось. Очаровательный невропатолог (он действительно был очень интересный мужчина) в процессе осмотра заинтересовался, почему я говорю шепотом. Я стала что-то объяснять насчет пива, которое выпила в дороге. Но мой палатный врач протянула ему историю болезни... и, не сдержавшись, невропатолог с изумлением воскликнул: «Как, ТВС?» Что такое ТВС—я знала! Вот, значит, почему ни с кем не общаться, почему обедать в палате! ТВС! Туберкулез! Но я, не знала до конца всей ужасной правды. Да, у меня была уже палочка Коха, и я была заразна. У меня был милиарный туберкулез легких. Но горло? Голос? Об этом мне никто не говорил. На следующий день мне сделали первое прижигание на голосовой связке. Боль была адская. Не было специальных приспособлений. Остается удивляться, как в тех условиях все же смогли справиться с этой процедурой. Но она была необходима. Дело, говоря попросту, шло к скоротечной чахотке. Директор санатория, милейший, отзывчивый человек (кстати, он во время войны командовал партизанским отрядом), посоветовал немедленно ехать в Москву, где есть серьезная профессура и где лечение может идти более успешно.
Семен Исаакович списался с Москвой. Наш замечательный адми-нистратор Матусис достал мне путевку в Барвиху. И мы расстались с Кисловодском, с прекрасным санаторием и хорошими, добрыми врачами, которые все так хотели мне помочь.
В Москве Семен Исаакович поднял на ноги всю профессуру. Профессор В. Л. Эйнис, лучший в то время фтизиатр, и профессор А. Н. Вознесенский, блестящий, фтизиоларинголог, часто навещали меня и постоянно наблюдали, пока я была в Барвихе. Я или находилась в своей палате, или гуляла, но с другими отдыхающими не общалась. Вознесенский сделал мне второе прижигание связки. Боль была меньше, ибо имелись все необходимые инструменты и соблюдались надлежащие условия. Оба профессора настаивали на моем отъезде в Крым. «В Крым — значит, умирать»,— думала я и все допытывалась, что же у меня с горлом. Рак? Видя мое смятение, мне наконец сказали правду: не рак, а туберкулез связки, каверны на связках. Нужен юг, полное молчание и серьезное лечение легких.
Я никогда не забуду необыкновенно заботливое отношение ко мне партии и правительства. Я была беспартийной и мало что собой представляла! Молодая, довольно популярная актриса, и ничего больше. Я ведь не сделала пока в искусстве ничего значительного. И вот меня отправляют в лучший туберкулезный санаторий ЦК партии, «Горное солнце», расположенный в Мисхоре. Он переполнен. Но мне дают кабинет дежурного врача. Беспрерывно идут телеграммы из Москвы от моих профессоров. В телеграммах — тщательные указания, как меня надо лечить. Специально ко мне из Ялты приезжает светило юга — профессор-фтизиоларинголог Биншток. Он предлагает лечение рентгеном. Москва категорически протестует —только прижигание. А у меня одна мысль:
конец. Голос не возвращается, температура не спадает. Долгие, мучительные ночи без сна и приглушенные шаги за дверью. Очередная смерть. Кого-то несут мимо моей палаты в морг. Скоро и меня. Думала ли я о театре? Да, конечно. Но больше—о сыне. От него многое скрывали. Он рвался ко мне, но... В Москве стояла осень. Мне почти ничего не сообщали о театре. Я старалась писать и Семену Исааковичу и Горику веселые письма. И вот вдруг температура стала падать. Значит, не умру, значит, не конец! Но голос? Голоса не было. Вернется ли он? А если нет? Что будет со мной? Нет голоса—значит, нет театра. Я не актриса, даже не смогу преподавать. Что же делать? И опять мучительные раздумья. Что делать без голоса?! Пришла мысль: писать. Я стала пробовать писать маленькие сказки об Ай-Петри, о море, о девочке, которая вчера умерла, прижав к груди любимую куклу. Так проходили недели, а из Москвы шли ободряющие письма. Врачи. «Горного солнца» отмечали улучшение в легких, но голос, голос... его не было.
Я много гуляла, прибавляла в весе, старалась правильно дышать и молчала. У меня были блокнот, карандаш и жестикуляция. Весь санаторий знал, что говорить мне запрещено. Питалась я в палате, много читала, писала, иногда смотрела кинокартины на первом этаже. И молчала, молчала, молчала. Однажды по распоряжению из Москвы мой палатный врач предложил мне ответить на его утреннее приветствие звуком, а не молчаливым поклоном. Я не могла. Мне казалось, что-то порвется у меня в горле, я боялась и... молчала. Врач настойчиво просил побороть страх и все же попробовать. Нет... не могла. И вот однажды я стояла на своем втором этаже, опираясь на балюстраду. Внизу, в холле, сидела сестра, принимавшая приехавших больных. Кажется, уже приехали все. И она куда-то отлучилась. Однако в это время прибыл еще один больной. Не видя никого в холле, он заметил наверху меня и стал довольно нервно требовать сестру. Что я ему могла сказать? Мои жесты злили его еще больше. И вдруг я невольно звучно произнесла: «Она вышла». Голос! Голос! У меня голос! И он, этот человек, там, внизу, услышал меня! Это было невероятно! Это было и страшно и радостно. Я побежала в палату и, стоя перед зеркалом, чуть не плача и смеясь, говорила, говорила, пока еще тихо, несмело, но говорила себе «здравствуй». Голос звучал еще хрипло и слабо, но звук был. Была и чистая нота.
В Москву полетела сумасшедшая телеграмма: «Голос прорезался, голос есть!»
Так шаг за шагом началось мое выздоровление.
Разумеется, я боялась много говорить и лишь по утрам позволяла себе приветствовать врача и сестер. Как они радовались! Мне кажется, они даже были рады больше, чем я. Они ведь тоже понимали, что значит для актрисы потерять голос. До сих пор я ни на минуту не забываю, чем обязана заботам этих добрых людей. Чем обязана моим истинным спасителям — Владимиру Львовичу Эйнису и Александру Николаевичу Вознесенскому. Не будь их постоянного наблюдения, их писем из Москвы—бог знает, вернулась ли бы я на сцену. Первое прижигание в Кисловодске мне сделала ассистент Вознесенского (к стыду своему, забыла ее фамилию), по счастливой случайности оказавшаяся там одновременно с нами. Если бы Вознесенский не воспротивился предложению Бинштока, возможно, голос вернулся бы ко мне скорее, но остался хриплым. Теперь туберкулез уже не страшен, медицина. сделала огромные шаги вперед. А тогда... И во время войны, когда пришло известие, что Горик пропал без вести, снова открылся мой ТВС. Крым был недоступен, и опять Эйнис и Вознесенский спасли меня — пневмотораксом. Четыре года войны — и четыре года пневмоторакс.
Итак, в 1938 году в Крыму я выздоровела, но в Москву меня не пускали, ждали, чтобы снег лег плотно, наступила зима.
Первые дни, когда Семен Исаакович привез меня в «Горное солнце», я проплакала так, как никогда еще не плакала. Ничто и никто не мог меня утешить. Семен Исаакович должен был уезжать в театр в Москву. А у меня была только одна мысль — рвется последняя нить, связывающая меня не только с театром, но и с жизнью. Я была твердо уверена, что в Крым меня привезли умирать. Эти мысли долго не оставляли меня. А тут еще письмо от Всеволода. Он просил разрешения приехать, быть около меня, простить и забыть все. Я не ответила.
Я выздоровела и вернулась в Москву в середине декабря 1938 года: Однако к работе в театре врачи меня еще не допускали. Они категорически требовали, чтобы я продолжала молчаливый режим. В редких случаях короткий тихий разговор дома. И я выдерживала этот режим. В общем, я молчала почти год, и это спасло меня. Моя беспредельная благодарность Семену Исааковичу Каминке. Его преданность и заботы всей его семьи обо мне помогли моему исцелению.
Теперь о театре. Как я рвалась к нему, как хотелось поскорее вступить на его сцену, вдохнуть запах кулис, увидеть огни рампы! Однако мне сразу пришлось встретить в его стенах много неожиданно горького.
Я вернулась в театр, уже зная, что мою Глафиру в «Волках и овцах» репетирует другая актриса. Смущаясь, главный режиссер И. Я. Судаков предложил мне репетировать в очередь с ней, но я отказалась. Зачем? «Вы взяли актрису, она уже репетирует, пусть и играет». «Евгению Гранде» на худсовете я сама отказалась играть в пользу Белевцевой. Короче говоря, в театре меня уже считали несуществующей. Ходили слухи, что Гоголева умрет не нынче завтра, а если и выживет, то у нее повреждены голосовые связки —значит, ей как актрисе конец.
И тем не менее в апреле 1939 года я впервые после болезни вышла на сцену в любимом моем «Стакане воды» в роли герцогини Мальборо с Зубовым—Болингброком.
Итак, я была здорова и могла работать, хотя под постоянным наблюдением врачей. Правда, работать в полную силу пока было нельзя. Лишь постепенно входила я в репертуар театра и в концертную деятельность.
Приходилось вновь завоевывать место в труппе Малого театра.
Не все, что происходило в нем, я понимала. В его атмосфере что-то менялось. В это время главным режиссером театра был воспитанник МХАТ И. Я. Судаков. Он привес нам много нового и полезного. Укрепил дисциплину, усовершенствовал постановочную часть. Однако некоторые особенности Малого театра были ему чужды, и он старался последовательно их преодолевать.
Кроме того, еще в 1932 году, после закрытия театра бывш. Корща, группа его артистов влилась в наш коллектив. Это были прекрасные актеры, многие из них сделали для Малого театра немало хорошего, но их стиль, отношение к искусству не всегда были нам близки.
Тем не менее в конце 30-х—начале 40-х годов, до Великой Отечественной войны, у Малого театра были большие успехи. Я напомню три особо значительных спектакля.
Во-первых, заиграл Остужев, и как заиграл! Отелло Остужева прогремел на всю страну. О нем написано много восторженных книг, статей, рецензий. А ведь произошло это случайно.
В театр для постановки «Отелло» пригласили режиссера С. Э. Радлова. Он не очень хорошо знал труппу Малого театра. И ему предложили возможных исполнителей роли Отелло — Садовского, Ольховского и Ленина. Об Остужеве не было и разговора: инвалид, глухой, не сегодня завтра выйдет на пенсию. Так не дали ему играть маркиза Позу в «Дон Карлосе». Он только иногда заходил в зал на марджановские репетиции и грустно смотрел, только смотрел на сцену. Да, он был актер классического романтического репертуара и в современных пьесах не всегда находил себя. Но Поза в «Дон Карлосе» словно создан для него. А Остужев только смотрел, как играют другие. Пожалуй, после болезни и мне была уготована такая же участь. Как же вышло, что Остужев все-таки сыграл Отелло?
Распределение ролей в «Отелло» вывесили весной, а летом В. Р. Ольховский лег на операцию и... умер. Остались два Отелло. Пров Михайлович отличался некоторой ленцой. Михаил Францевич Ленин вызывал сомнения Радлова, который вдруг попросил для Отелло Остужева. И директор театра С. И. Амоглобели с удовольствием согласился на эту кандидатуру.
Результат оказался потрясающим. Грандиозный успех. Мало сказать, успех — триумф актера Остужева, «глухого, инвалида, кандидата на пенсию»! Это был новый взлет Малого театра.
После «Отелло» Радлов хотел ставить с Остужевым «Гамлета». Все лето перед началом репетиций Остужев штудировал трагедию Шекспира. Работал он с адским напряжением. Учил не только свою роль, но и всю пьесу.
Однако ряд обстоятельств помешал постановке «Гамлета». Это был тягчайший удар для Остужева.
И вот тогда Судаков предложил Остужеву «Уриэля Акосту».
Остужев был счастлив. Однако актриса, назначенная на роль Юдифи, вызвала у него категорическое несогласие. Он хотел, чтобы его партнершей, как и прежде, была я. Но теперь уже и я после моей болезни ходила в «инвалидах». И Остужеву стоило больших усилий настоять на моей кандидатуре. С первых моих шагов на сцене Малого театра Остужев относился ко мне с нежным вниманием. Помню, в 20-е годы на репетициях (мы тогда много играли вместе) он внимательно наблюдал за мной — какую и где я делала паузу, какой и где поворот, следил по губам за манерой разговора. И это не только за мной, как за своей партнершей. Я не помню случая во время спектакля, чтобы он «наступил» на чью-нибудь реплику или заговорил невпопад. Играя со мной, он бывал совершенно спокоен, знал — что бы ни случилось, я всегда выручу и поддержку его. Несмотря на глухоту, он прекрасно понимал, что делается в театре.
Оба мы страдали за Малый театр, видели все то чуждое, что появилось в нем. Однако все новое, истинно прекрасное, что могло увеличить славу Малого театра и развить его традиции, Остужев принимал с радостью. Внимательно и благодарно прислушивался он к указаниям и советам Радлова, с таким же вниманием относился к Судакову.
Я понимала — все, что делает Юдифь, есть проявление любви к Уриэлю. Она всем сердцем стремится воспринять его учение и помочь ему восторжествовать. Легко и радостно было работать с Остужевым. Я иногда забывала себя и свои творческие интересы—только бы удобнее, лучше было Остужеву. Для меня «Уриэль Акоста» —счастливая и дорогая сердцу работа. Опять мы с Остужевым вместе на родной сцене, опять вспоминался его очаровательный Бассанио в «Венецианском купце» и дорогой мой Чацкий! А потом наша обоюдная неудовлетворенность в «Заговоре Фиеско», наши страдания в «Соборе Парижской богоматери» и многие, многие другие встречи в спектаклях. Он сам пережил тягчайшую травму из-за своей болезни. И понимал мою, чуть не сыгравшую роковую роль, «чахотку». Он, который лучшие свои годы сидел и смотрел, как играли другие, понимал и мою тоску из-за бездействия. Он знал, что я была не «инвалидом», что я многое могла еще сделать именно в классическом, романтическом репертуаре.
Всё познается в сравнении. Иногда мне кажется, что все сыгранные мною роли — это нечто среднее, обыденное, а сама я актриса очень посредственная. Но как быть с письмами от зрителей, которые я получаю в большом количестве?.. Как быть с аплодисментами, которыми меня награждают? Не искупают ли они равнодушие и невнимание прессы? Однако порой мне думается, что все те высокие награды, которыми я награждена, — награды не за творческие мои достижения, а за ту большую общественную работу, которая так дорога мне и которой я, действительно, отдаю свою любовь и. силы.
В письме к Г. А. Товстоногову я совершенно искренне писала, что, если бы у меня в моей творческой жизни были такие учителя-режиссеры, как он, я могла бы быть другой, хорошей актрисой. Ведь, кроме Марджанова, я за долгие годы не встретила ни одного режиссера, который смог бы добраться до святая святых моей души, стать моим путеводителем в творчестве. Часто испытывая недоброжелательство, я вообще теряла веру в себя и не могла понять, каковы мои актерские возможности. А это очень тяжело.
Летом 1939 года в Барвиху, где я отдыхала, уже без «изоляции», приехали Судаков и Зубов. Они старались уговорить меня играть Надежду в «Варварах» Горького. Весной, когда начались репетиции, я сразу же наотрез отказалась от этой роли. Я не понимала Надежду и невзлюбила ее, только еще прочитав пьесу.
Пробовали Непомнящую, актрису с удивительными глазами, пробовали Шатрову, но и она совсем не подходила для этой роли. И вот в третий раз приехали ко мне режиссер и постановщик. Судаков не любил меня как актрису, его визит и настойчивая просьба были удивительны. С большим трудом я все же еще раз отказалась, сказав, что перечитаю пьесу и подумаю. Но вопрос до осени остался открытым. «Не могу я играть эту дуру и мещанку», — думала я. «Я вас с голоса буду учить», — говорил мне Судаков.
Наконец после долгих колебаний я согласилась. Я много думала о том, что хотел Алексей Максимович сказать, когда писал эту роль. Как-то я поехала к Марии Федоровне Андреевой. Во время разговора с ней наблюдала за ее необыкновенными глазами, за ее манерой чуть замедленно говорить и словно брала у нее черты, необходимые для характеристики моей героини.
Моя Надежда считала Черкуна человеком исключительным, видела его в рыцарских доспехах. Ее любовь — чистая любовь. Она словно несет чашу прозрачной воды и старается ее не расплескать.
»Варвары»! Я видел эту пьесу в Малом театре несколько раз... Кто мог сравниться с Анненковым — Черкуном, Зубовым — Сержем Цыгановым, Вами — Надеждой Монаховой, Велиховым — Монаховым, Ликсо — Лидией, Турчаниновой и Яблочкиной в роли Богаевской? Никто! Тридцать лет прошло (с хвостиком!), а я закрою глаза и с оптической резкостью вижу многие сцены, слышу голоса актеров, помню их интонации. ...Разве можно забыть Вашу сцену с Черкуном?! Н. А. Анненков... играл эту роль великолепно! Надежда говорит. Черкуну: «Настоящая любовь ничего не жалеет, ничего не боится...» — и в ее голосе звучит убеждение, напористость. И Егор мало-помалу сдается... Увы! Надежда выдумала своего героя. Она наделила Черкуна теми достоинствами, которых у него не было. Хмель, ударивший в голову Черкуну, скоро прошел, и наш герой запросил отступного... Все оборвалось в душе Надежды— все рухнуло. Всю остальную сцену Вы проводили как в тумане. И какой неизбывной тоской звучали Ваши слова: «Он испугался... сам он. Никто не может любить меня... никто». В этих словах была такая опустошенность, что зритель почувствовал — что-то должно произойти роковое! И это в самом деле произошло—Надежда убила себя...
В. Д. Демьянцев, г. Кемерово.
Образ Надежды вырастал у меня постепенно. Мне кажется, я так и не достигла зенита в его трактовке, что-то прорастало у меня новое, но до конца я это новое не довела. Умер Зубов, игравший Цыганова, и спектакль сняли. Сейчас бы сыграла эту роль по-другому. Она дорога мне. Я полюбила свою Надежду, эту чистую женщину, искавшую настоящей любви и не нашедшую ее.
Дата публикации: 23.05.2005

«К 105-летию со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой»
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
Одновременно с марджановским «Дон Карлосом» Иван Степанович Платон готовил «Бешеные деньги» Островского, где Шатрова и я должны были играть Лидию. Так как Марджанов отказался от Малышевой, то я осталась единственной Эболи и большая часть репетиций «Бешеных денег» приходилась на долю Шатровой. Однако Платон считал меня в первом составе и даже проводил со мной отдельные беседы. В результате премьеру играла я. Но я не особенно любила роль Лидии. Все мои симпатии были в марджановском «Дон Карлосе», романтическая линия влекла меня больше, чем Островский. Вернувшись после долгой болезни в театр, я не высказала никакого желания снова играть Лидию, тем более что к тому времени и сам спектакль получил несколько иное звучание, чем на премьере. Яблочкина и Турчанинова не всегда участвовали в спектакле, который перевели с основной сцены в филиал, и мать Чебоксарову играла Борская. Лидия же оставалась за Шатровой.
Среди других ролей, сыгранных мною в 30-е годы, надо назвать Верочку в «Растеряевой улице». Инсценировка повести Глеба Успенского была сделана Михаилом Нароковым, который поставил великолепный спектакль. Картина мерзостей старой русской жизни, созданная замечательными артистами Малого театра — Климовым, Массалитиновой, Рыжовой, Пашенной, Сашиным-Никольским, заслуживает специальной подробной характеристики. Этот спектакль — одно из высочайших достижений искусства Малого театра. Без хвастовства могу сказать, что Наташа Белевцева в роли Липочки и я в роли Верочки не портили прекрасного ансамбля.
В театр пришел К. П. Хохлов, и я начала готовить с ним Марину Мнишек в «Борисе Годунове». Спектакль получился громоздкий и, несмотря на великолепные костюмы и интересные работы актеров (Годунов — М. Ф. Ленин, Самозванец — Анненков), в репертуаре держался недолго. Но сцену у фонтана я с успехом исполняла в концертах и с Анненковым и с Царевым.
Большую роль играла в моей жизни концертная деятельность. Она была своеобразной отдушиной и давала удовлетворение, которого я порой не получала от работы в театре. Поэтому о ней стоит поговорить особо.
Сначала у меня в репертуаре было всего два стихотворения, выученных еще в детстве для любительских вечеров в Новогирееве. Читать басни и пролог из «Орлеанской девы» было совсем не к месту. А вот «Памятники прошлого» — что-то о крепостном праве — и «Екатеринбург» — о расстреле коммунаров—годились для аудитории того времени. На бис я исполняла некрасовскую «Катерину»—это тоже подходило. Все это я читала на концертах после партийных конференций и в красноармейских клубах. А потом, увлекшись чтением, стала подбирать стихи известных поэтов. Это были Демьян Бедный, Багрицкий, Маяковский. Часто я выступала с Владимиром Яхонтовым—нас всегда приглашали вместе на концерты в Большом театре после партконференций или съездов.
Яхонтов постоянно читал, и читал превосходно, свои литературные композиции. Я же обычно исполняла стихи молодых революционных поэтов — Уткина, Жарова, Луговского и других. Нас обоих награждали благодарными аплодисментами. Но Яхонтов обладал уже большим мастерством, сделавшим его лучшим чтецом своего времени. Я же брала темпераментом и искренностью, у меня была собственная манера чтения, которую так не любят поэты и которую можно назвать актерской. Честно говоря, я не понимаю и не люблю слушать, как читают свои произведения поэты. Только Маяковский буквально завораживал меня. Услышав его исполнение, я перестала выступать с его стихами. С ним невозможно было конкурировать.
Читала я иногда и очень посредственные стихи, но отвечающие современному моменту. Как-то в «Чтеце-декламаторе» набрела на отрывок из рассказа Горького «Старуха Изергиль» — о горящем сердце Данко. Прочитав весь рассказ Горького, я решила, что в «Чтеце-декламаторе» взят самый интересный отрывок. Я стала его разучивать и через полгода выступила с ним. Так этот отрывок я и читаю всю жизнь. Я снова и снова перечитывала Пушкина и моего любимого Лермонтова. Помню, учила выбранные стихотворения дояго и долго не решалась выйти с новой вещью на публику. Очень упорно работала над поэмой Лермонтова «Мцыри», решив читать ее целиком. Это же случилось и с пушкинской «Полтавой». Сначала читала отдельные куски, а потом и всю поэму.
Так возникли уже не просто выступления в сборных концертах, а мои собственные чтецкие вечера.
Дорогая Елена Николаевна. На днях слушала Ваше чтение произведений наших классиков. Какое Вы своим талантом подарили нам наслаждение, ввели в мир настоящего искусства! Слушала затаив дыхание, и все знакомые с детства произведения как бы новыми картинами вставали перед глазами, и душа трепетно переживала виденное. Земной Вам поклон!
Е. Кочубей, г. Прокопьевск.
Я подготовила несколько программ советской и русской классической поэзии. Моя манера чтения некоторых раздражала, но у меня существовала и своя аудитория. Я была прежде всего драматической актрисой и в исполнение на эстраде вкладывала актерское перевоплощение. Так, читая «Мцыри», я сама была юношей-послушником. Я и видела и чувствовала и пластически изображала бой с барсом.
Когда я готовила «Песню о Гайавате» Лонгфелло, я сама была Гайаватой, и моя пластика на эстраде передавала пластику молодого индейца, натягивающего лук, чтобяг» безошибочно пустить стрелу. Мой Данко из «Старухи Изергиль» делал стремительные движения руками, словно разрывая свою грудь, и я высоко поднимала правую руку, как бы неся в ней сердце Данко.
Но я прибегала и к другой манере исполнения. Готовя вечер американской поэзии, я кроме Лонгфелло и Уитмена, которого читала почти без жестов, включила в программу и очень мне понравившуюся вещь Эдварда Гейля «Человек без родины». Читала я ее в сокращенном виде, но чтение длилось более часа, то есть целое отделение. Я не вставала из-за стола, с которого изредка брала чистые листы бумаги, якобы читая по ним приказы. Я любила эту вещь. И, судя по вниманию и тишине, с которой слушал зал, я знала, что она захватывала слушателей.
Однако я чувствовала, что порой недостает музыки. Выступая как-то в концерте с прекрасной арфисткой Ксенией Александровной Эрдели, я попросила у нее разрешения прийти к ней и вместе поработать над некоторыми поэтическими произведениями. Мой визит к Эрдели состоялся. И мы многие годы успешно выступали вместе на эстраде. Это не было мелодекламацией, модной и достаточно надоевшей в предреволюционные годы.
Ксения Александровна была слишком большим музыкантом, чтобы выступать просто как аккомпаниатор, так сказать, вторая скрипка. Великолепно понимая и чувствуя музыку, она упорно искала в огромном музыкальном арсенале отрывки и целые произведения, созвучные тем настроениям, которые вкладывал поэт в свои стихи. Так, чудесно получились у нас «Чайльд Гарольд» Байрона или его же «Еврейские мелодии» в переводе Лермонтова, лермонтовская «Русалка». Чудесно сливались с арфой английские баллады Бернса и Вальтера Скотта. А как прекрасно лилась «Песнь рыбки» Ипполитова-Иванова при исполнении «Мцыри»!
Дружба и работа с Ксенией Александровной Эрдели дали мне очень много. Эрдели первая сделала арфу не только оркестровым инструментом, на котором можно исполнять интимную музыку в великосветских гостиных. Эрдели упорно приспосабливала для арфы произведения, предназначенные для рояля, виолончели или скрипки. Она приблизила арфу к народному слушателю.
Во время Отечественной войны Владимир Крахт написал для нас с Ксенией Александровной поэму о блокаде Ленинграда. Стихи были не безупречны, но история двух голодных, полумертвых женщин, одна из которых в самые страшные, почти последние минуты старается поддержать себя и сестру, играя полу замерзшими пальцами вальс Чайковского (поэма так и называлась — «Вальс Чайковского»), вызывала, скажу без ложной скромности, настоящие овации. Ксения Александровна подобрала отвечающие настроению вальсы Чайковского, и обе мы, всегда до предела взволнованные, вкладывали в исполнение поэмы все свое вдохновение, всю душу.
Ксения Александровна была намного старше меня. Она рано отказалась от эстрады и целиком посвятила себя педагогической деятельности в Московской консерватории. На мои горячие просьбы продолжать выступать со мной она отвечала упорным отказом. «Я очень волнуюсь, Елена Николаевна. Ухудшение памяти не позволяет играть наизусть, а играть по нотам, с пюпитром, — конечно, уже не то. Это не совместное творчество и не вдохновение». Эрдели усиленно предлагала мне вместо себя свою лучшую ученицу. Но при всех достоинствах этой ученицы я уже не чувствовала руки, культуры, дружеского, мудрого руководства Эрдели. Так и кончился этот кусок моей эстрадной деятельности.
А потом я решила, что на эстраде должен быть юный, прекрасный чтец или чтица. Человек средних лет или пожилой — уже не годится. К тому же появилась уйма всяких исполнителей, и у меня пропал интерес к чтению с эстрады. Из моих современников остались считанные единицы. А вновь пришедшие на эстраду как-то по-иному понимали сложное искусство чтеца. Иногда у меня возникает мысль сделать новый репертуар, более подходящий моему возрасту. Но надо ли это? Так я и откладываю то, что иногда будоражит мысль. Да и читать теперь, вероятно, мне надо иначе, соответственно этому репертуару и... моим годам. А все эти вечера английской, французской, немецкой, американской поэзии, не говоря уже о русской классике и советской поэзии, — все это требует огромного труда, и все это ушло куда-то в прошлое.
Да, мне пришлось многое передумывать и переосмысливать после того, как исчезло обаяние молодости, которой многое прощалось, и наступили годы, требующие мастерства и большой ответственности.
Надо сказать, что первое десятилетие пребывания в Малом театре было самым счастливым периодом моей творческой, да и личной жизни. Я много играла в театре. В 1926 году прошла «Любовь Яровая», утвердившая мое прочное положение в прославленной труппе. Поездки Головина, в репертуаре которых я все больше занимала ведущую роль, давали мне дополнительный сценический опыт. В эти же годы росла и популярность моей концерт-вой деятельности — я выступала в сборных концертах и спектаклях в филиале Большого театра, а мои сольные концертные премьеры обычно проходили в Доме ученых, перед особо требовательной и культурной публикой. На этих концертных премьерах постоянно присутствовала директор Дома ученых — знаменитая М. Ф. Андреева. Все это приносило мне громадное творческое удовлетворение. Но и работала я неутомимо. Если к этому прибавить мою страсть к спорту и танцам, частые приглашения в иностранные посольства и вечные заботы о шляпках и туалетах—кстати, всегда покупаемых в долг, — то можно сказать, что у меня не было ни одной свободной минуты. Но внезапно меня постигло серьезное несчастье.
Слишком интенсивная работа, большое нервное потрясение, вызванное смертью Марджанова, и, наконец, полный и тяжелый разрыв с Всеволодом привели к тому, что я серьезно заболела. Еще в 1929 году, после воспаления легких, профессор В. Л. Эйнис предупреждал меня, что надо меньше работать и помнить, что легкие у меня слабые. Меньше работать?! Да разве это было возможно? Ну а беречься я никогда не умела. И, конечно, как только встала с постели, опять завертелась в вихре различных дел. Внезапно я стала замечать, что иногда подхрипываю, но при определенном повороте головы говорю лучше. Все же весной 1938 года я показалась другу артистов — знаменитому ларингологу А. И. Фельдману. Его диагноз был — переутомление связок, надо работать поменьше. Но концертов было много. К тому же приближался конец сезона в Малом. Мы с мужем, Семеном Исааковичем Каминкой, приобрели путевки в санаторий имени Орджоникидзе в Кисловодске. Я надеялась там только отдыхать и нигде не выступать. Пусть отдохнут мои связки, думала я. Однако вблизи Таганрога есть станция (кажется, Морская), где всегда продавались великолепные раки. Я очень люблю раков, и мы уплетали их за обе щеки, запивая холодным пивом. В результате я совершенно потеряла голос. Могла только шептать. Уверенная, что это от холодного пива, я опять особенно не беспокоилась: в санатории все пройдет.
Нам дали чудесную палату с балконом и видом на Эльбрус. Я была в восторге. Казалось, все тяжелое и страшное позади. И Игорек (он уже жил у меня) хорошо устроен на лето в Щелыкове с моей мамой. Вот только, палатный врач, совсем молодая девушка, с беспокойством относилась к моей температуре — 37,5. Я ее уверяла, что это моя нормальная температура и нечего обращать на нее внимание. Вот только бы вернулся голос. А голос не возвращался, и я отправилась к ларингологу. Она заглянула в мое горло, и я увидела ее испуганное и растерянное лицо. «Что у меня?» — прошептала я. «Ничего, ничего,-— стала меня успокаивать уже взявшая себя в руки тоже. молодая женщина-врач. — И знаете что? Сейчас в санатории отдыхает моя коллега, даже мой преподаватель. Вы ничего не имеете против, если я вас ей покажу?» Конечно, я согласилась. Мне бы только поскорее вернуть голос. Что происходило со мной, я не подозревала.
Дальше пошли еще какие-то необходимые обследования, и почему-то однажды Семен Исаакович сказал, что мы не будем ходить в общую столовую, а нам все будут приносить в палату: «Чтобы ты больше молчала, а то, находясь в обществе, невольно станешь разговаривать». В общем, я и этому опять не придала никакого значения. Я могла гулять, ходила в горы всегда одна и, естественно, молчала.
Но вот меня вызвали к ларингологу. Меня осмотрела ее коллега. Они о чем-то пошептались и велели прийти через два дня. Мне еще предстоял визит к невропатологу. И тут все выяснилось. Очаровательный невропатолог (он действительно был очень интересный мужчина) в процессе осмотра заинтересовался, почему я говорю шепотом. Я стала что-то объяснять насчет пива, которое выпила в дороге. Но мой палатный врач протянула ему историю болезни... и, не сдержавшись, невропатолог с изумлением воскликнул: «Как, ТВС?» Что такое ТВС—я знала! Вот, значит, почему ни с кем не общаться, почему обедать в палате! ТВС! Туберкулез! Но я, не знала до конца всей ужасной правды. Да, у меня была уже палочка Коха, и я была заразна. У меня был милиарный туберкулез легких. Но горло? Голос? Об этом мне никто не говорил. На следующий день мне сделали первое прижигание на голосовой связке. Боль была адская. Не было специальных приспособлений. Остается удивляться, как в тех условиях все же смогли справиться с этой процедурой. Но она была необходима. Дело, говоря попросту, шло к скоротечной чахотке. Директор санатория, милейший, отзывчивый человек (кстати, он во время войны командовал партизанским отрядом), посоветовал немедленно ехать в Москву, где есть серьезная профессура и где лечение может идти более успешно.
Семен Исаакович списался с Москвой. Наш замечательный адми-нистратор Матусис достал мне путевку в Барвиху. И мы расстались с Кисловодском, с прекрасным санаторием и хорошими, добрыми врачами, которые все так хотели мне помочь.
В Москве Семен Исаакович поднял на ноги всю профессуру. Профессор В. Л. Эйнис, лучший в то время фтизиатр, и профессор А. Н. Вознесенский, блестящий, фтизиоларинголог, часто навещали меня и постоянно наблюдали, пока я была в Барвихе. Я или находилась в своей палате, или гуляла, но с другими отдыхающими не общалась. Вознесенский сделал мне второе прижигание связки. Боль была меньше, ибо имелись все необходимые инструменты и соблюдались надлежащие условия. Оба профессора настаивали на моем отъезде в Крым. «В Крым — значит, умирать»,— думала я и все допытывалась, что же у меня с горлом. Рак? Видя мое смятение, мне наконец сказали правду: не рак, а туберкулез связки, каверны на связках. Нужен юг, полное молчание и серьезное лечение легких.
Я никогда не забуду необыкновенно заботливое отношение ко мне партии и правительства. Я была беспартийной и мало что собой представляла! Молодая, довольно популярная актриса, и ничего больше. Я ведь не сделала пока в искусстве ничего значительного. И вот меня отправляют в лучший туберкулезный санаторий ЦК партии, «Горное солнце», расположенный в Мисхоре. Он переполнен. Но мне дают кабинет дежурного врача. Беспрерывно идут телеграммы из Москвы от моих профессоров. В телеграммах — тщательные указания, как меня надо лечить. Специально ко мне из Ялты приезжает светило юга — профессор-фтизиоларинголог Биншток. Он предлагает лечение рентгеном. Москва категорически протестует —только прижигание. А у меня одна мысль:
конец. Голос не возвращается, температура не спадает. Долгие, мучительные ночи без сна и приглушенные шаги за дверью. Очередная смерть. Кого-то несут мимо моей палаты в морг. Скоро и меня. Думала ли я о театре? Да, конечно. Но больше—о сыне. От него многое скрывали. Он рвался ко мне, но... В Москве стояла осень. Мне почти ничего не сообщали о театре. Я старалась писать и Семену Исааковичу и Горику веселые письма. И вот вдруг температура стала падать. Значит, не умру, значит, не конец! Но голос? Голоса не было. Вернется ли он? А если нет? Что будет со мной? Нет голоса—значит, нет театра. Я не актриса, даже не смогу преподавать. Что же делать? И опять мучительные раздумья. Что делать без голоса?! Пришла мысль: писать. Я стала пробовать писать маленькие сказки об Ай-Петри, о море, о девочке, которая вчера умерла, прижав к груди любимую куклу. Так проходили недели, а из Москвы шли ободряющие письма. Врачи. «Горного солнца» отмечали улучшение в легких, но голос, голос... его не было.
Я много гуляла, прибавляла в весе, старалась правильно дышать и молчала. У меня были блокнот, карандаш и жестикуляция. Весь санаторий знал, что говорить мне запрещено. Питалась я в палате, много читала, писала, иногда смотрела кинокартины на первом этаже. И молчала, молчала, молчала. Однажды по распоряжению из Москвы мой палатный врач предложил мне ответить на его утреннее приветствие звуком, а не молчаливым поклоном. Я не могла. Мне казалось, что-то порвется у меня в горле, я боялась и... молчала. Врач настойчиво просил побороть страх и все же попробовать. Нет... не могла. И вот однажды я стояла на своем втором этаже, опираясь на балюстраду. Внизу, в холле, сидела сестра, принимавшая приехавших больных. Кажется, уже приехали все. И она куда-то отлучилась. Однако в это время прибыл еще один больной. Не видя никого в холле, он заметил наверху меня и стал довольно нервно требовать сестру. Что я ему могла сказать? Мои жесты злили его еще больше. И вдруг я невольно звучно произнесла: «Она вышла». Голос! Голос! У меня голос! И он, этот человек, там, внизу, услышал меня! Это было невероятно! Это было и страшно и радостно. Я побежала в палату и, стоя перед зеркалом, чуть не плача и смеясь, говорила, говорила, пока еще тихо, несмело, но говорила себе «здравствуй». Голос звучал еще хрипло и слабо, но звук был. Была и чистая нота.
В Москву полетела сумасшедшая телеграмма: «Голос прорезался, голос есть!»
Так шаг за шагом началось мое выздоровление.
Разумеется, я боялась много говорить и лишь по утрам позволяла себе приветствовать врача и сестер. Как они радовались! Мне кажется, они даже были рады больше, чем я. Они ведь тоже понимали, что значит для актрисы потерять голос. До сих пор я ни на минуту не забываю, чем обязана заботам этих добрых людей. Чем обязана моим истинным спасителям — Владимиру Львовичу Эйнису и Александру Николаевичу Вознесенскому. Не будь их постоянного наблюдения, их писем из Москвы—бог знает, вернулась ли бы я на сцену. Первое прижигание в Кисловодске мне сделала ассистент Вознесенского (к стыду своему, забыла ее фамилию), по счастливой случайности оказавшаяся там одновременно с нами. Если бы Вознесенский не воспротивился предложению Бинштока, возможно, голос вернулся бы ко мне скорее, но остался хриплым. Теперь туберкулез уже не страшен, медицина. сделала огромные шаги вперед. А тогда... И во время войны, когда пришло известие, что Горик пропал без вести, снова открылся мой ТВС. Крым был недоступен, и опять Эйнис и Вознесенский спасли меня — пневмотораксом. Четыре года войны — и четыре года пневмоторакс.
Итак, в 1938 году в Крыму я выздоровела, но в Москву меня не пускали, ждали, чтобы снег лег плотно, наступила зима.
Первые дни, когда Семен Исаакович привез меня в «Горное солнце», я проплакала так, как никогда еще не плакала. Ничто и никто не мог меня утешить. Семен Исаакович должен был уезжать в театр в Москву. А у меня была только одна мысль — рвется последняя нить, связывающая меня не только с театром, но и с жизнью. Я была твердо уверена, что в Крым меня привезли умирать. Эти мысли долго не оставляли меня. А тут еще письмо от Всеволода. Он просил разрешения приехать, быть около меня, простить и забыть все. Я не ответила.
Я выздоровела и вернулась в Москву в середине декабря 1938 года: Однако к работе в театре врачи меня еще не допускали. Они категорически требовали, чтобы я продолжала молчаливый режим. В редких случаях короткий тихий разговор дома. И я выдерживала этот режим. В общем, я молчала почти год, и это спасло меня. Моя беспредельная благодарность Семену Исааковичу Каминке. Его преданность и заботы всей его семьи обо мне помогли моему исцелению.
Теперь о театре. Как я рвалась к нему, как хотелось поскорее вступить на его сцену, вдохнуть запах кулис, увидеть огни рампы! Однако мне сразу пришлось встретить в его стенах много неожиданно горького.
Я вернулась в театр, уже зная, что мою Глафиру в «Волках и овцах» репетирует другая актриса. Смущаясь, главный режиссер И. Я. Судаков предложил мне репетировать в очередь с ней, но я отказалась. Зачем? «Вы взяли актрису, она уже репетирует, пусть и играет». «Евгению Гранде» на худсовете я сама отказалась играть в пользу Белевцевой. Короче говоря, в театре меня уже считали несуществующей. Ходили слухи, что Гоголева умрет не нынче завтра, а если и выживет, то у нее повреждены голосовые связки —значит, ей как актрисе конец.
И тем не менее в апреле 1939 года я впервые после болезни вышла на сцену в любимом моем «Стакане воды» в роли герцогини Мальборо с Зубовым—Болингброком.
Итак, я была здорова и могла работать, хотя под постоянным наблюдением врачей. Правда, работать в полную силу пока было нельзя. Лишь постепенно входила я в репертуар театра и в концертную деятельность.
Приходилось вновь завоевывать место в труппе Малого театра.
Не все, что происходило в нем, я понимала. В его атмосфере что-то менялось. В это время главным режиссером театра был воспитанник МХАТ И. Я. Судаков. Он привес нам много нового и полезного. Укрепил дисциплину, усовершенствовал постановочную часть. Однако некоторые особенности Малого театра были ему чужды, и он старался последовательно их преодолевать.
Кроме того, еще в 1932 году, после закрытия театра бывш. Корща, группа его артистов влилась в наш коллектив. Это были прекрасные актеры, многие из них сделали для Малого театра немало хорошего, но их стиль, отношение к искусству не всегда были нам близки.
Тем не менее в конце 30-х—начале 40-х годов, до Великой Отечественной войны, у Малого театра были большие успехи. Я напомню три особо значительных спектакля.
Во-первых, заиграл Остужев, и как заиграл! Отелло Остужева прогремел на всю страну. О нем написано много восторженных книг, статей, рецензий. А ведь произошло это случайно.
В театр для постановки «Отелло» пригласили режиссера С. Э. Радлова. Он не очень хорошо знал труппу Малого театра. И ему предложили возможных исполнителей роли Отелло — Садовского, Ольховского и Ленина. Об Остужеве не было и разговора: инвалид, глухой, не сегодня завтра выйдет на пенсию. Так не дали ему играть маркиза Позу в «Дон Карлосе». Он только иногда заходил в зал на марджановские репетиции и грустно смотрел, только смотрел на сцену. Да, он был актер классического романтического репертуара и в современных пьесах не всегда находил себя. Но Поза в «Дон Карлосе» словно создан для него. А Остужев только смотрел, как играют другие. Пожалуй, после болезни и мне была уготована такая же участь. Как же вышло, что Остужев все-таки сыграл Отелло?
Распределение ролей в «Отелло» вывесили весной, а летом В. Р. Ольховский лег на операцию и... умер. Остались два Отелло. Пров Михайлович отличался некоторой ленцой. Михаил Францевич Ленин вызывал сомнения Радлова, который вдруг попросил для Отелло Остужева. И директор театра С. И. Амоглобели с удовольствием согласился на эту кандидатуру.
Результат оказался потрясающим. Грандиозный успех. Мало сказать, успех — триумф актера Остужева, «глухого, инвалида, кандидата на пенсию»! Это был новый взлет Малого театра.
После «Отелло» Радлов хотел ставить с Остужевым «Гамлета». Все лето перед началом репетиций Остужев штудировал трагедию Шекспира. Работал он с адским напряжением. Учил не только свою роль, но и всю пьесу.
Однако ряд обстоятельств помешал постановке «Гамлета». Это был тягчайший удар для Остужева.
И вот тогда Судаков предложил Остужеву «Уриэля Акосту».
Остужев был счастлив. Однако актриса, назначенная на роль Юдифи, вызвала у него категорическое несогласие. Он хотел, чтобы его партнершей, как и прежде, была я. Но теперь уже и я после моей болезни ходила в «инвалидах». И Остужеву стоило больших усилий настоять на моей кандидатуре. С первых моих шагов на сцене Малого театра Остужев относился ко мне с нежным вниманием. Помню, в 20-е годы на репетициях (мы тогда много играли вместе) он внимательно наблюдал за мной — какую и где я делала паузу, какой и где поворот, следил по губам за манерой разговора. И это не только за мной, как за своей партнершей. Я не помню случая во время спектакля, чтобы он «наступил» на чью-нибудь реплику или заговорил невпопад. Играя со мной, он бывал совершенно спокоен, знал — что бы ни случилось, я всегда выручу и поддержку его. Несмотря на глухоту, он прекрасно понимал, что делается в театре.
Оба мы страдали за Малый театр, видели все то чуждое, что появилось в нем. Однако все новое, истинно прекрасное, что могло увеличить славу Малого театра и развить его традиции, Остужев принимал с радостью. Внимательно и благодарно прислушивался он к указаниям и советам Радлова, с таким же вниманием относился к Судакову.
Я понимала — все, что делает Юдифь, есть проявление любви к Уриэлю. Она всем сердцем стремится воспринять его учение и помочь ему восторжествовать. Легко и радостно было работать с Остужевым. Я иногда забывала себя и свои творческие интересы—только бы удобнее, лучше было Остужеву. Для меня «Уриэль Акоста» —счастливая и дорогая сердцу работа. Опять мы с Остужевым вместе на родной сцене, опять вспоминался его очаровательный Бассанио в «Венецианском купце» и дорогой мой Чацкий! А потом наша обоюдная неудовлетворенность в «Заговоре Фиеско», наши страдания в «Соборе Парижской богоматери» и многие, многие другие встречи в спектаклях. Он сам пережил тягчайшую травму из-за своей болезни. И понимал мою, чуть не сыгравшую роковую роль, «чахотку». Он, который лучшие свои годы сидел и смотрел, как играли другие, понимал и мою тоску из-за бездействия. Он знал, что я была не «инвалидом», что я многое могла еще сделать именно в классическом, романтическом репертуаре.
Всё познается в сравнении. Иногда мне кажется, что все сыгранные мною роли — это нечто среднее, обыденное, а сама я актриса очень посредственная. Но как быть с письмами от зрителей, которые я получаю в большом количестве?.. Как быть с аплодисментами, которыми меня награждают? Не искупают ли они равнодушие и невнимание прессы? Однако порой мне думается, что все те высокие награды, которыми я награждена, — награды не за творческие мои достижения, а за ту большую общественную работу, которая так дорога мне и которой я, действительно, отдаю свою любовь и. силы.
В письме к Г. А. Товстоногову я совершенно искренне писала, что, если бы у меня в моей творческой жизни были такие учителя-режиссеры, как он, я могла бы быть другой, хорошей актрисой. Ведь, кроме Марджанова, я за долгие годы не встретила ни одного режиссера, который смог бы добраться до святая святых моей души, стать моим путеводителем в творчестве. Часто испытывая недоброжелательство, я вообще теряла веру в себя и не могла понять, каковы мои актерские возможности. А это очень тяжело.
Летом 1939 года в Барвиху, где я отдыхала, уже без «изоляции», приехали Судаков и Зубов. Они старались уговорить меня играть Надежду в «Варварах» Горького. Весной, когда начались репетиции, я сразу же наотрез отказалась от этой роли. Я не понимала Надежду и невзлюбила ее, только еще прочитав пьесу.
Пробовали Непомнящую, актрису с удивительными глазами, пробовали Шатрову, но и она совсем не подходила для этой роли. И вот в третий раз приехали ко мне режиссер и постановщик. Судаков не любил меня как актрису, его визит и настойчивая просьба были удивительны. С большим трудом я все же еще раз отказалась, сказав, что перечитаю пьесу и подумаю. Но вопрос до осени остался открытым. «Не могу я играть эту дуру и мещанку», — думала я. «Я вас с голоса буду учить», — говорил мне Судаков.
Наконец после долгих колебаний я согласилась. Я много думала о том, что хотел Алексей Максимович сказать, когда писал эту роль. Как-то я поехала к Марии Федоровне Андреевой. Во время разговора с ней наблюдала за ее необыкновенными глазами, за ее манерой чуть замедленно говорить и словно брала у нее черты, необходимые для характеристики моей героини.
Моя Надежда считала Черкуна человеком исключительным, видела его в рыцарских доспехах. Ее любовь — чистая любовь. Она словно несет чашу прозрачной воды и старается ее не расплескать.
»Варвары»! Я видел эту пьесу в Малом театре несколько раз... Кто мог сравниться с Анненковым — Черкуном, Зубовым — Сержем Цыгановым, Вами — Надеждой Монаховой, Велиховым — Монаховым, Ликсо — Лидией, Турчаниновой и Яблочкиной в роли Богаевской? Никто! Тридцать лет прошло (с хвостиком!), а я закрою глаза и с оптической резкостью вижу многие сцены, слышу голоса актеров, помню их интонации. ...Разве можно забыть Вашу сцену с Черкуном?! Н. А. Анненков... играл эту роль великолепно! Надежда говорит. Черкуну: «Настоящая любовь ничего не жалеет, ничего не боится...» — и в ее голосе звучит убеждение, напористость. И Егор мало-помалу сдается... Увы! Надежда выдумала своего героя. Она наделила Черкуна теми достоинствами, которых у него не было. Хмель, ударивший в голову Черкуну, скоро прошел, и наш герой запросил отступного... Все оборвалось в душе Надежды— все рухнуло. Всю остальную сцену Вы проводили как в тумане. И какой неизбывной тоской звучали Ваши слова: «Он испугался... сам он. Никто не может любить меня... никто». В этих словах была такая опустошенность, что зритель почувствовал — что-то должно произойти роковое! И это в самом деле произошло—Надежда убила себя...
В. Д. Демьянцев, г. Кемерово.
Образ Надежды вырастал у меня постепенно. Мне кажется, я так и не достигла зенита в его трактовке, что-то прорастало у меня новое, но до конца я это новое не довела. Умер Зубов, игравший Цыганова, и спектакль сняли. Сейчас бы сыграла эту роль по-другому. Она дорога мне. Я полюбила свою Надежду, эту чистую женщину, искавшую настоящей любви и не нашедшую ее.
Е.Н. ГОГОЛЕВА
«НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ»
ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ
Одновременно с марджановским «Дон Карлосом» Иван Степанович Платон готовил «Бешеные деньги» Островского, где Шатрова и я должны были играть Лидию. Так как Марджанов отказался от Малышевой, то я осталась единственной Эболи и большая часть репетиций «Бешеных денег» приходилась на долю Шатровой. Однако Платон считал меня в первом составе и даже проводил со мной отдельные беседы. В результате премьеру играла я. Но я не особенно любила роль Лидии. Все мои симпатии были в марджановском «Дон Карлосе», романтическая линия влекла меня больше, чем Островский. Вернувшись после долгой болезни в театр, я не высказала никакого желания снова играть Лидию, тем более что к тому времени и сам спектакль получил несколько иное звучание, чем на премьере. Яблочкина и Турчанинова не всегда участвовали в спектакле, который перевели с основной сцены в филиал, и мать Чебоксарову играла Борская. Лидия же оставалась за Шатровой.
Среди других ролей, сыгранных мною в 30-е годы, надо назвать Верочку в «Растеряевой улице». Инсценировка повести Глеба Успенского была сделана Михаилом Нароковым, который поставил великолепный спектакль. Картина мерзостей старой русской жизни, созданная замечательными артистами Малого театра — Климовым, Массалитиновой, Рыжовой, Пашенной, Сашиным-Никольским, заслуживает специальной подробной характеристики. Этот спектакль — одно из высочайших достижений искусства Малого театра. Без хвастовства могу сказать, что Наташа Белевцева в роли Липочки и я в роли Верочки не портили прекрасного ансамбля.
В театр пришел К. П. Хохлов, и я начала готовить с ним Марину Мнишек в «Борисе Годунове». Спектакль получился громоздкий и, несмотря на великолепные костюмы и интересные работы актеров (Годунов — М. Ф. Ленин, Самозванец — Анненков), в репертуаре держался недолго. Но сцену у фонтана я с успехом исполняла в концертах и с Анненковым и с Царевым.
Большую роль играла в моей жизни концертная деятельность. Она была своеобразной отдушиной и давала удовлетворение, которого я порой не получала от работы в театре. Поэтому о ней стоит поговорить особо.
Сначала у меня в репертуаре было всего два стихотворения, выученных еще в детстве для любительских вечеров в Новогирееве. Читать басни и пролог из «Орлеанской девы» было совсем не к месту. А вот «Памятники прошлого» — что-то о крепостном праве — и «Екатеринбург» — о расстреле коммунаров—годились для аудитории того времени. На бис я исполняла некрасовскую «Катерину»—это тоже подходило. Все это я читала на концертах после партийных конференций и в красноармейских клубах. А потом, увлекшись чтением, стала подбирать стихи известных поэтов. Это были Демьян Бедный, Багрицкий, Маяковский. Часто я выступала с Владимиром Яхонтовым—нас всегда приглашали вместе на концерты в Большом театре после партконференций или съездов.
Яхонтов постоянно читал, и читал превосходно, свои литературные композиции. Я же обычно исполняла стихи молодых революционных поэтов — Уткина, Жарова, Луговского и других. Нас обоих награждали благодарными аплодисментами. Но Яхонтов обладал уже большим мастерством, сделавшим его лучшим чтецом своего времени. Я же брала темпераментом и искренностью, у меня была собственная манера чтения, которую так не любят поэты и которую можно назвать актерской. Честно говоря, я не понимаю и не люблю слушать, как читают свои произведения поэты. Только Маяковский буквально завораживал меня. Услышав его исполнение, я перестала выступать с его стихами. С ним невозможно было конкурировать.
Читала я иногда и очень посредственные стихи, но отвечающие современному моменту. Как-то в «Чтеце-декламаторе» набрела на отрывок из рассказа Горького «Старуха Изергиль» — о горящем сердце Данко. Прочитав весь рассказ Горького, я решила, что в «Чтеце-декламаторе» взят самый интересный отрывок. Я стала его разучивать и через полгода выступила с ним. Так этот отрывок я и читаю всю жизнь. Я снова и снова перечитывала Пушкина и моего любимого Лермонтова. Помню, учила выбранные стихотворения дояго и долго не решалась выйти с новой вещью на публику. Очень упорно работала над поэмой Лермонтова «Мцыри», решив читать ее целиком. Это же случилось и с пушкинской «Полтавой». Сначала читала отдельные куски, а потом и всю поэму.
Так возникли уже не просто выступления в сборных концертах, а мои собственные чтецкие вечера.
Дорогая Елена Николаевна. На днях слушала Ваше чтение произведений наших классиков. Какое Вы своим талантом подарили нам наслаждение, ввели в мир настоящего искусства! Слушала затаив дыхание, и все знакомые с детства произведения как бы новыми картинами вставали перед глазами, и душа трепетно переживала виденное. Земной Вам поклон!
Е. Кочубей, г. Прокопьевск.
Я подготовила несколько программ советской и русской классической поэзии. Моя манера чтения некоторых раздражала, но у меня существовала и своя аудитория. Я была прежде всего драматической актрисой и в исполнение на эстраде вкладывала актерское перевоплощение. Так, читая «Мцыри», я сама была юношей-послушником. Я и видела и чувствовала и пластически изображала бой с барсом.
Когда я готовила «Песню о Гайавате» Лонгфелло, я сама была Гайаватой, и моя пластика на эстраде передавала пластику молодого индейца, натягивающего лук, чтобяг» безошибочно пустить стрелу. Мой Данко из «Старухи Изергиль» делал стремительные движения руками, словно разрывая свою грудь, и я высоко поднимала правую руку, как бы неся в ней сердце Данко.
Но я прибегала и к другой манере исполнения. Готовя вечер американской поэзии, я кроме Лонгфелло и Уитмена, которого читала почти без жестов, включила в программу и очень мне понравившуюся вещь Эдварда Гейля «Человек без родины». Читала я ее в сокращенном виде, но чтение длилось более часа, то есть целое отделение. Я не вставала из-за стола, с которого изредка брала чистые листы бумаги, якобы читая по ним приказы. Я любила эту вещь. И, судя по вниманию и тишине, с которой слушал зал, я знала, что она захватывала слушателей.
Однако я чувствовала, что порой недостает музыки. Выступая как-то в концерте с прекрасной арфисткой Ксенией Александровной Эрдели, я попросила у нее разрешения прийти к ней и вместе поработать над некоторыми поэтическими произведениями. Мой визит к Эрдели состоялся. И мы многие годы успешно выступали вместе на эстраде. Это не было мелодекламацией, модной и достаточно надоевшей в предреволюционные годы.
Ксения Александровна была слишком большим музыкантом, чтобы выступать просто как аккомпаниатор, так сказать, вторая скрипка. Великолепно понимая и чувствуя музыку, она упорно искала в огромном музыкальном арсенале отрывки и целые произведения, созвучные тем настроениям, которые вкладывал поэт в свои стихи. Так, чудесно получились у нас «Чайльд Гарольд» Байрона или его же «Еврейские мелодии» в переводе Лермонтова, лермонтовская «Русалка». Чудесно сливались с арфой английские баллады Бернса и Вальтера Скотта. А как прекрасно лилась «Песнь рыбки» Ипполитова-Иванова при исполнении «Мцыри»!
Дружба и работа с Ксенией Александровной Эрдели дали мне очень много. Эрдели первая сделала арфу не только оркестровым инструментом, на котором можно исполнять интимную музыку в великосветских гостиных. Эрдели упорно приспосабливала для арфы произведения, предназначенные для рояля, виолончели или скрипки. Она приблизила арфу к народному слушателю.
Во время Отечественной войны Владимир Крахт написал для нас с Ксенией Александровной поэму о блокаде Ленинграда. Стихи были не безупречны, но история двух голодных, полумертвых женщин, одна из которых в самые страшные, почти последние минуты старается поддержать себя и сестру, играя полу замерзшими пальцами вальс Чайковского (поэма так и называлась — «Вальс Чайковского»), вызывала, скажу без ложной скромности, настоящие овации. Ксения Александровна подобрала отвечающие настроению вальсы Чайковского, и обе мы, всегда до предела взволнованные, вкладывали в исполнение поэмы все свое вдохновение, всю душу.
Ксения Александровна была намного старше меня. Она рано отказалась от эстрады и целиком посвятила себя педагогической деятельности в Московской консерватории. На мои горячие просьбы продолжать выступать со мной она отвечала упорным отказом. «Я очень волнуюсь, Елена Николаевна. Ухудшение памяти не позволяет играть наизусть, а играть по нотам, с пюпитром, — конечно, уже не то. Это не совместное творчество и не вдохновение». Эрдели усиленно предлагала мне вместо себя свою лучшую ученицу. Но при всех достоинствах этой ученицы я уже не чувствовала руки, культуры, дружеского, мудрого руководства Эрдели. Так и кончился этот кусок моей эстрадной деятельности.
А потом я решила, что на эстраде должен быть юный, прекрасный чтец или чтица. Человек средних лет или пожилой — уже не годится. К тому же появилась уйма всяких исполнителей, и у меня пропал интерес к чтению с эстрады. Из моих современников остались считанные единицы. А вновь пришедшие на эстраду как-то по-иному понимали сложное искусство чтеца. Иногда у меня возникает мысль сделать новый репертуар, более подходящий моему возрасту. Но надо ли это? Так я и откладываю то, что иногда будоражит мысль. Да и читать теперь, вероятно, мне надо иначе, соответственно этому репертуару и... моим годам. А все эти вечера английской, французской, немецкой, американской поэзии, не говоря уже о русской классике и советской поэзии, — все это требует огромного труда, и все это ушло куда-то в прошлое.
Да, мне пришлось многое передумывать и переосмысливать после того, как исчезло обаяние молодости, которой многое прощалось, и наступили годы, требующие мастерства и большой ответственности.
Надо сказать, что первое десятилетие пребывания в Малом театре было самым счастливым периодом моей творческой, да и личной жизни. Я много играла в театре. В 1926 году прошла «Любовь Яровая», утвердившая мое прочное положение в прославленной труппе. Поездки Головина, в репертуаре которых я все больше занимала ведущую роль, давали мне дополнительный сценический опыт. В эти же годы росла и популярность моей концерт-вой деятельности — я выступала в сборных концертах и спектаклях в филиале Большого театра, а мои сольные концертные премьеры обычно проходили в Доме ученых, перед особо требовательной и культурной публикой. На этих концертных премьерах постоянно присутствовала директор Дома ученых — знаменитая М. Ф. Андреева. Все это приносило мне громадное творческое удовлетворение. Но и работала я неутомимо. Если к этому прибавить мою страсть к спорту и танцам, частые приглашения в иностранные посольства и вечные заботы о шляпках и туалетах—кстати, всегда покупаемых в долг, — то можно сказать, что у меня не было ни одной свободной минуты. Но внезапно меня постигло серьезное несчастье.
Слишком интенсивная работа, большое нервное потрясение, вызванное смертью Марджанова, и, наконец, полный и тяжелый разрыв с Всеволодом привели к тому, что я серьезно заболела. Еще в 1929 году, после воспаления легких, профессор В. Л. Эйнис предупреждал меня, что надо меньше работать и помнить, что легкие у меня слабые. Меньше работать?! Да разве это было возможно? Ну а беречься я никогда не умела. И, конечно, как только встала с постели, опять завертелась в вихре различных дел. Внезапно я стала замечать, что иногда подхрипываю, но при определенном повороте головы говорю лучше. Все же весной 1938 года я показалась другу артистов — знаменитому ларингологу А. И. Фельдману. Его диагноз был — переутомление связок, надо работать поменьше. Но концертов было много. К тому же приближался конец сезона в Малом. Мы с мужем, Семеном Исааковичем Каминкой, приобрели путевки в санаторий имени Орджоникидзе в Кисловодске. Я надеялась там только отдыхать и нигде не выступать. Пусть отдохнут мои связки, думала я. Однако вблизи Таганрога есть станция (кажется, Морская), где всегда продавались великолепные раки. Я очень люблю раков, и мы уплетали их за обе щеки, запивая холодным пивом. В результате я совершенно потеряла голос. Могла только шептать. Уверенная, что это от холодного пива, я опять особенно не беспокоилась: в санатории все пройдет.
Нам дали чудесную палату с балконом и видом на Эльбрус. Я была в восторге. Казалось, все тяжелое и страшное позади. И Игорек (он уже жил у меня) хорошо устроен на лето в Щелыкове с моей мамой. Вот только, палатный врач, совсем молодая девушка, с беспокойством относилась к моей температуре — 37,5. Я ее уверяла, что это моя нормальная температура и нечего обращать на нее внимание. Вот только бы вернулся голос. А голос не возвращался, и я отправилась к ларингологу. Она заглянула в мое горло, и я увидела ее испуганное и растерянное лицо. «Что у меня?» — прошептала я. «Ничего, ничего,-— стала меня успокаивать уже взявшая себя в руки тоже. молодая женщина-врач. — И знаете что? Сейчас в санатории отдыхает моя коллега, даже мой преподаватель. Вы ничего не имеете против, если я вас ей покажу?» Конечно, я согласилась. Мне бы только поскорее вернуть голос. Что происходило со мной, я не подозревала.
Дальше пошли еще какие-то необходимые обследования, и почему-то однажды Семен Исаакович сказал, что мы не будем ходить в общую столовую, а нам все будут приносить в палату: «Чтобы ты больше молчала, а то, находясь в обществе, невольно станешь разговаривать». В общем, я и этому опять не придала никакого значения. Я могла гулять, ходила в горы всегда одна и, естественно, молчала.
Но вот меня вызвали к ларингологу. Меня осмотрела ее коллега. Они о чем-то пошептались и велели прийти через два дня. Мне еще предстоял визит к невропатологу. И тут все выяснилось. Очаровательный невропатолог (он действительно был очень интересный мужчина) в процессе осмотра заинтересовался, почему я говорю шепотом. Я стала что-то объяснять насчет пива, которое выпила в дороге. Но мой палатный врач протянула ему историю болезни... и, не сдержавшись, невропатолог с изумлением воскликнул: «Как, ТВС?» Что такое ТВС—я знала! Вот, значит, почему ни с кем не общаться, почему обедать в палате! ТВС! Туберкулез! Но я, не знала до конца всей ужасной правды. Да, у меня была уже палочка Коха, и я была заразна. У меня был милиарный туберкулез легких. Но горло? Голос? Об этом мне никто не говорил. На следующий день мне сделали первое прижигание на голосовой связке. Боль была адская. Не было специальных приспособлений. Остается удивляться, как в тех условиях все же смогли справиться с этой процедурой. Но она была необходима. Дело, говоря попросту, шло к скоротечной чахотке. Директор санатория, милейший, отзывчивый человек (кстати, он во время войны командовал партизанским отрядом), посоветовал немедленно ехать в Москву, где есть серьезная профессура и где лечение может идти более успешно.
Семен Исаакович списался с Москвой. Наш замечательный адми-нистратор Матусис достал мне путевку в Барвиху. И мы расстались с Кисловодском, с прекрасным санаторием и хорошими, добрыми врачами, которые все так хотели мне помочь.
В Москве Семен Исаакович поднял на ноги всю профессуру. Профессор В. Л. Эйнис, лучший в то время фтизиатр, и профессор А. Н. Вознесенский, блестящий, фтизиоларинголог, часто навещали меня и постоянно наблюдали, пока я была в Барвихе. Я или находилась в своей палате, или гуляла, но с другими отдыхающими не общалась. Вознесенский сделал мне второе прижигание связки. Боль была меньше, ибо имелись все необходимые инструменты и соблюдались надлежащие условия. Оба профессора настаивали на моем отъезде в Крым. «В Крым — значит, умирать»,— думала я и все допытывалась, что же у меня с горлом. Рак? Видя мое смятение, мне наконец сказали правду: не рак, а туберкулез связки, каверны на связках. Нужен юг, полное молчание и серьезное лечение легких.
Я никогда не забуду необыкновенно заботливое отношение ко мне партии и правительства. Я была беспартийной и мало что собой представляла! Молодая, довольно популярная актриса, и ничего больше. Я ведь не сделала пока в искусстве ничего значительного. И вот меня отправляют в лучший туберкулезный санаторий ЦК партии, «Горное солнце», расположенный в Мисхоре. Он переполнен. Но мне дают кабинет дежурного врача. Беспрерывно идут телеграммы из Москвы от моих профессоров. В телеграммах — тщательные указания, как меня надо лечить. Специально ко мне из Ялты приезжает светило юга — профессор-фтизиоларинголог Биншток. Он предлагает лечение рентгеном. Москва категорически протестует —только прижигание. А у меня одна мысль:
конец. Голос не возвращается, температура не спадает. Долгие, мучительные ночи без сна и приглушенные шаги за дверью. Очередная смерть. Кого-то несут мимо моей палаты в морг. Скоро и меня. Думала ли я о театре? Да, конечно. Но больше—о сыне. От него многое скрывали. Он рвался ко мне, но... В Москве стояла осень. Мне почти ничего не сообщали о театре. Я старалась писать и Семену Исааковичу и Горику веселые письма. И вот вдруг температура стала падать. Значит, не умру, значит, не конец! Но голос? Голоса не было. Вернется ли он? А если нет? Что будет со мной? Нет голоса—значит, нет театра. Я не актриса, даже не смогу преподавать. Что же делать? И опять мучительные раздумья. Что делать без голоса?! Пришла мысль: писать. Я стала пробовать писать маленькие сказки об Ай-Петри, о море, о девочке, которая вчера умерла, прижав к груди любимую куклу. Так проходили недели, а из Москвы шли ободряющие письма. Врачи. «Горного солнца» отмечали улучшение в легких, но голос, голос... его не было.
Я много гуляла, прибавляла в весе, старалась правильно дышать и молчала. У меня были блокнот, карандаш и жестикуляция. Весь санаторий знал, что говорить мне запрещено. Питалась я в палате, много читала, писала, иногда смотрела кинокартины на первом этаже. И молчала, молчала, молчала. Однажды по распоряжению из Москвы мой палатный врач предложил мне ответить на его утреннее приветствие звуком, а не молчаливым поклоном. Я не могла. Мне казалось, что-то порвется у меня в горле, я боялась и... молчала. Врач настойчиво просил побороть страх и все же попробовать. Нет... не могла. И вот однажды я стояла на своем втором этаже, опираясь на балюстраду. Внизу, в холле, сидела сестра, принимавшая приехавших больных. Кажется, уже приехали все. И она куда-то отлучилась. Однако в это время прибыл еще один больной. Не видя никого в холле, он заметил наверху меня и стал довольно нервно требовать сестру. Что я ему могла сказать? Мои жесты злили его еще больше. И вдруг я невольно звучно произнесла: «Она вышла». Голос! Голос! У меня голос! И он, этот человек, там, внизу, услышал меня! Это было невероятно! Это было и страшно и радостно. Я побежала в палату и, стоя перед зеркалом, чуть не плача и смеясь, говорила, говорила, пока еще тихо, несмело, но говорила себе «здравствуй». Голос звучал еще хрипло и слабо, но звук был. Была и чистая нота.
В Москву полетела сумасшедшая телеграмма: «Голос прорезался, голос есть!»
Так шаг за шагом началось мое выздоровление.
Разумеется, я боялась много говорить и лишь по утрам позволяла себе приветствовать врача и сестер. Как они радовались! Мне кажется, они даже были рады больше, чем я. Они ведь тоже понимали, что значит для актрисы потерять голос. До сих пор я ни на минуту не забываю, чем обязана заботам этих добрых людей. Чем обязана моим истинным спасителям — Владимиру Львовичу Эйнису и Александру Николаевичу Вознесенскому. Не будь их постоянного наблюдения, их писем из Москвы—бог знает, вернулась ли бы я на сцену. Первое прижигание в Кисловодске мне сделала ассистент Вознесенского (к стыду своему, забыла ее фамилию), по счастливой случайности оказавшаяся там одновременно с нами. Если бы Вознесенский не воспротивился предложению Бинштока, возможно, голос вернулся бы ко мне скорее, но остался хриплым. Теперь туберкулез уже не страшен, медицина. сделала огромные шаги вперед. А тогда... И во время войны, когда пришло известие, что Горик пропал без вести, снова открылся мой ТВС. Крым был недоступен, и опять Эйнис и Вознесенский спасли меня — пневмотораксом. Четыре года войны — и четыре года пневмоторакс.
Итак, в 1938 году в Крыму я выздоровела, но в Москву меня не пускали, ждали, чтобы снег лег плотно, наступила зима.
Первые дни, когда Семен Исаакович привез меня в «Горное солнце», я проплакала так, как никогда еще не плакала. Ничто и никто не мог меня утешить. Семен Исаакович должен был уезжать в театр в Москву. А у меня была только одна мысль — рвется последняя нить, связывающая меня не только с театром, но и с жизнью. Я была твердо уверена, что в Крым меня привезли умирать. Эти мысли долго не оставляли меня. А тут еще письмо от Всеволода. Он просил разрешения приехать, быть около меня, простить и забыть все. Я не ответила.
Я выздоровела и вернулась в Москву в середине декабря 1938 года: Однако к работе в театре врачи меня еще не допускали. Они категорически требовали, чтобы я продолжала молчаливый режим. В редких случаях короткий тихий разговор дома. И я выдерживала этот режим. В общем, я молчала почти год, и это спасло меня. Моя беспредельная благодарность Семену Исааковичу Каминке. Его преданность и заботы всей его семьи обо мне помогли моему исцелению.
Теперь о театре. Как я рвалась к нему, как хотелось поскорее вступить на его сцену, вдохнуть запах кулис, увидеть огни рампы! Однако мне сразу пришлось встретить в его стенах много неожиданно горького.
Я вернулась в театр, уже зная, что мою Глафиру в «Волках и овцах» репетирует другая актриса. Смущаясь, главный режиссер И. Я. Судаков предложил мне репетировать в очередь с ней, но я отказалась. Зачем? «Вы взяли актрису, она уже репетирует, пусть и играет». «Евгению Гранде» на худсовете я сама отказалась играть в пользу Белевцевой. Короче говоря, в театре меня уже считали несуществующей. Ходили слухи, что Гоголева умрет не нынче завтра, а если и выживет, то у нее повреждены голосовые связки —значит, ей как актрисе конец.
И тем не менее в апреле 1939 года я впервые после болезни вышла на сцену в любимом моем «Стакане воды» в роли герцогини Мальборо с Зубовым—Болингброком.
Итак, я была здорова и могла работать, хотя под постоянным наблюдением врачей. Правда, работать в полную силу пока было нельзя. Лишь постепенно входила я в репертуар театра и в концертную деятельность.
Приходилось вновь завоевывать место в труппе Малого театра.
Не все, что происходило в нем, я понимала. В его атмосфере что-то менялось. В это время главным режиссером театра был воспитанник МХАТ И. Я. Судаков. Он привес нам много нового и полезного. Укрепил дисциплину, усовершенствовал постановочную часть. Однако некоторые особенности Малого театра были ему чужды, и он старался последовательно их преодолевать.
Кроме того, еще в 1932 году, после закрытия театра бывш. Корща, группа его артистов влилась в наш коллектив. Это были прекрасные актеры, многие из них сделали для Малого театра немало хорошего, но их стиль, отношение к искусству не всегда были нам близки.
Тем не менее в конце 30-х—начале 40-х годов, до Великой Отечественной войны, у Малого театра были большие успехи. Я напомню три особо значительных спектакля.
Во-первых, заиграл Остужев, и как заиграл! Отелло Остужева прогремел на всю страну. О нем написано много восторженных книг, статей, рецензий. А ведь произошло это случайно.
В театр для постановки «Отелло» пригласили режиссера С. Э. Радлова. Он не очень хорошо знал труппу Малого театра. И ему предложили возможных исполнителей роли Отелло — Садовского, Ольховского и Ленина. Об Остужеве не было и разговора: инвалид, глухой, не сегодня завтра выйдет на пенсию. Так не дали ему играть маркиза Позу в «Дон Карлосе». Он только иногда заходил в зал на марджановские репетиции и грустно смотрел, только смотрел на сцену. Да, он был актер классического романтического репертуара и в современных пьесах не всегда находил себя. Но Поза в «Дон Карлосе» словно создан для него. А Остужев только смотрел, как играют другие. Пожалуй, после болезни и мне была уготована такая же участь. Как же вышло, что Остужев все-таки сыграл Отелло?
Распределение ролей в «Отелло» вывесили весной, а летом В. Р. Ольховский лег на операцию и... умер. Остались два Отелло. Пров Михайлович отличался некоторой ленцой. Михаил Францевич Ленин вызывал сомнения Радлова, который вдруг попросил для Отелло Остужева. И директор театра С. И. Амоглобели с удовольствием согласился на эту кандидатуру.
Результат оказался потрясающим. Грандиозный успех. Мало сказать, успех — триумф актера Остужева, «глухого, инвалида, кандидата на пенсию»! Это был новый взлет Малого театра.
После «Отелло» Радлов хотел ставить с Остужевым «Гамлета». Все лето перед началом репетиций Остужев штудировал трагедию Шекспира. Работал он с адским напряжением. Учил не только свою роль, но и всю пьесу.
Однако ряд обстоятельств помешал постановке «Гамлета». Это был тягчайший удар для Остужева.
И вот тогда Судаков предложил Остужеву «Уриэля Акосту».
Остужев был счастлив. Однако актриса, назначенная на роль Юдифи, вызвала у него категорическое несогласие. Он хотел, чтобы его партнершей, как и прежде, была я. Но теперь уже и я после моей болезни ходила в «инвалидах». И Остужеву стоило больших усилий настоять на моей кандидатуре. С первых моих шагов на сцене Малого театра Остужев относился ко мне с нежным вниманием. Помню, в 20-е годы на репетициях (мы тогда много играли вместе) он внимательно наблюдал за мной — какую и где я делала паузу, какой и где поворот, следил по губам за манерой разговора. И это не только за мной, как за своей партнершей. Я не помню случая во время спектакля, чтобы он «наступил» на чью-нибудь реплику или заговорил невпопад. Играя со мной, он бывал совершенно спокоен, знал — что бы ни случилось, я всегда выручу и поддержку его. Несмотря на глухоту, он прекрасно понимал, что делается в театре.
Оба мы страдали за Малый театр, видели все то чуждое, что появилось в нем. Однако все новое, истинно прекрасное, что могло увеличить славу Малого театра и развить его традиции, Остужев принимал с радостью. Внимательно и благодарно прислушивался он к указаниям и советам Радлова, с таким же вниманием относился к Судакову.
Я понимала — все, что делает Юдифь, есть проявление любви к Уриэлю. Она всем сердцем стремится воспринять его учение и помочь ему восторжествовать. Легко и радостно было работать с Остужевым. Я иногда забывала себя и свои творческие интересы—только бы удобнее, лучше было Остужеву. Для меня «Уриэль Акоста» —счастливая и дорогая сердцу работа. Опять мы с Остужевым вместе на родной сцене, опять вспоминался его очаровательный Бассанио в «Венецианском купце» и дорогой мой Чацкий! А потом наша обоюдная неудовлетворенность в «Заговоре Фиеско», наши страдания в «Соборе Парижской богоматери» и многие, многие другие встречи в спектаклях. Он сам пережил тягчайшую травму из-за своей болезни. И понимал мою, чуть не сыгравшую роковую роль, «чахотку». Он, который лучшие свои годы сидел и смотрел, как играли другие, понимал и мою тоску из-за бездействия. Он знал, что я была не «инвалидом», что я многое могла еще сделать именно в классическом, романтическом репертуаре.
Всё познается в сравнении. Иногда мне кажется, что все сыгранные мною роли — это нечто среднее, обыденное, а сама я актриса очень посредственная. Но как быть с письмами от зрителей, которые я получаю в большом количестве?.. Как быть с аплодисментами, которыми меня награждают? Не искупают ли они равнодушие и невнимание прессы? Однако порой мне думается, что все те высокие награды, которыми я награждена, — награды не за творческие мои достижения, а за ту большую общественную работу, которая так дорога мне и которой я, действительно, отдаю свою любовь и. силы.
В письме к Г. А. Товстоногову я совершенно искренне писала, что, если бы у меня в моей творческой жизни были такие учителя-режиссеры, как он, я могла бы быть другой, хорошей актрисой. Ведь, кроме Марджанова, я за долгие годы не встретила ни одного режиссера, который смог бы добраться до святая святых моей души, стать моим путеводителем в творчестве. Часто испытывая недоброжелательство, я вообще теряла веру в себя и не могла понять, каковы мои актерские возможности. А это очень тяжело.
Летом 1939 года в Барвиху, где я отдыхала, уже без «изоляции», приехали Судаков и Зубов. Они старались уговорить меня играть Надежду в «Варварах» Горького. Весной, когда начались репетиции, я сразу же наотрез отказалась от этой роли. Я не понимала Надежду и невзлюбила ее, только еще прочитав пьесу.
Пробовали Непомнящую, актрису с удивительными глазами, пробовали Шатрову, но и она совсем не подходила для этой роли. И вот в третий раз приехали ко мне режиссер и постановщик. Судаков не любил меня как актрису, его визит и настойчивая просьба были удивительны. С большим трудом я все же еще раз отказалась, сказав, что перечитаю пьесу и подумаю. Но вопрос до осени остался открытым. «Не могу я играть эту дуру и мещанку», — думала я. «Я вас с голоса буду учить», — говорил мне Судаков.
Наконец после долгих колебаний я согласилась. Я много думала о том, что хотел Алексей Максимович сказать, когда писал эту роль. Как-то я поехала к Марии Федоровне Андреевой. Во время разговора с ней наблюдала за ее необыкновенными глазами, за ее манерой чуть замедленно говорить и словно брала у нее черты, необходимые для характеристики моей героини.
Моя Надежда считала Черкуна человеком исключительным, видела его в рыцарских доспехах. Ее любовь — чистая любовь. Она словно несет чашу прозрачной воды и старается ее не расплескать.
»Варвары»! Я видел эту пьесу в Малом театре несколько раз... Кто мог сравниться с Анненковым — Черкуном, Зубовым — Сержем Цыгановым, Вами — Надеждой Монаховой, Велиховым — Монаховым, Ликсо — Лидией, Турчаниновой и Яблочкиной в роли Богаевской? Никто! Тридцать лет прошло (с хвостиком!), а я закрою глаза и с оптической резкостью вижу многие сцены, слышу голоса актеров, помню их интонации. ...Разве можно забыть Вашу сцену с Черкуном?! Н. А. Анненков... играл эту роль великолепно! Надежда говорит. Черкуну: «Настоящая любовь ничего не жалеет, ничего не боится...» — и в ее голосе звучит убеждение, напористость. И Егор мало-помалу сдается... Увы! Надежда выдумала своего героя. Она наделила Черкуна теми достоинствами, которых у него не было. Хмель, ударивший в голову Черкуну, скоро прошел, и наш герой запросил отступного... Все оборвалось в душе Надежды— все рухнуло. Всю остальную сцену Вы проводили как в тумане. И какой неизбывной тоской звучали Ваши слова: «Он испугался... сам он. Никто не может любить меня... никто». В этих словах была такая опустошенность, что зритель почувствовал — что-то должно произойти роковое! И это в самом деле произошло—Надежда убила себя...
В. Д. Демьянцев, г. Кемерово.
Образ Надежды вырастал у меня постепенно. Мне кажется, я так и не достигла зенита в его трактовке, что-то прорастало у меня новое, но до конца я это новое не довела. Умер Зубов, игравший Цыганова, и спектакль сняли. Сейчас бы сыграла эту роль по-другому. Она дорога мне. Я полюбила свою Надежду, эту чистую женщину, искавшую настоящей любви и не нашедшую ее.
Дата публикации: 23.05.2005